Книга: Последний Катон
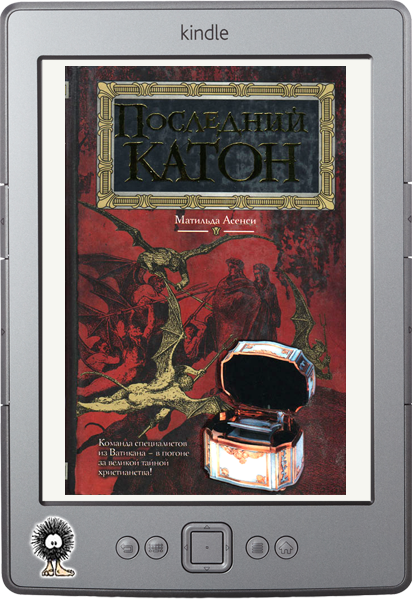
Последний Катон
Паскуалю, Андресу, Пабло и Хавьеру
Создание миров, персонажей и историй с использованием слов в качестве инструментов — это деятельность, которой можно заниматься только в одиночестве, а в моем случае еще и в тишине и в ночное время. Однако при свете дня мне нужно, чтобы вокруг меня находились все те люди, которые вместе со мной участвуют в этом прекрасном и невероятном процессе, которым является написание романа. С моей стороны, стало быть, было бы эгоизмом умолчать об их содействии перед публикой и создать у читателей впечатление, что за книгой, которую он держит сейчас в руках, стою только я. Так что прежде всего я хотела бы поблагодарить за постоянную поддержку Патрисию Кампос, которая каждый день читала те большие и малые отрывки, которые мною писались, без единой жалобы перечитывала текст столько раз, сколько это было нужно, и высказывала удачные пожелания, критические замечания и предложения. Во-вторых, я благодарю Хосе Мигеля Баэсу за его неоценимую помощь в переводе с греческого и с латыни и за то, что он лучше всех в мире отыскивает нужную информацию: он может найти самые непостижимые данные в самых непостижимых книгах. В-третьих, я благодарна Луису Пеньяльверу, скрупулезному и основательному корректору стилистики, сюжета и исторических данных; самому жесткому критику, который может быть у писателя. Я не буду углубляться в примеры его дотошности, но все упомянутые на этой странице люди знают о незабываемых случаях, приведших к взрывам откровенного хохота. В-четвертых, я благодарю тех людей, которые, проявляя поразительную верность, читали роман в отдельных выпусках и служили мне как экспериментальной лабораторией (если им не удавалось разрешить определенные загадки, читателю это тоже не удалось бы), так и постоянным стимулом: Лорену Санчо, Лолу Гульяс (из литературного агентства Керриган) и Ольгу Гарсия (из издательства «Пласа и Ханес»).
И наконец, хотя это место в рейтинге предполагает не меньшую значимость, а совсем наоборот, моего агента (или агентку, как я ее называю) Антонию Керриган, человека, которому я слепо доверяю, потому что если я пишу это перечисление благодарностей и если эта книга попала в руки читателей, то это благодаря ей, ее вере в меня и тому, с какой энергией она сделала ставку на мои романы и борется за них.
Я никак не могла бы закончить эту страницу, не упомянув моего любимого литературного редактора Кармен Фернандес де Блас. Говорят, что самое личное у автора — это его агент и его редактор. Так вот, это верно: Кармен Фернандес была моим литературным редактором с момента издания моего первого романа, и я всегда считала ее своим редактором, хотя судьбы в издательском мире вертятся, как колесо, и она сейчас заботится о других авторах, ухаживает за ними и оберегает их так, как она заботилась обо мне, ухаживала за мной и оберегала меня во время ее славного пребывания в издательстве «Пласа и Ханес». Да будет известно, что я намерена называть ее «моим редактором» во веки веков. Аминь.
Красивые вещи, произведения искусства, священные предметы, как и мы, испытывают на себе безжалостное воздействие времени. С того самого момента, когда их создатель-человек, сознавая или нет их гармонию с бесконечностью, ставит в них последнюю точку и вручает их миру, для них начинается жизнь, которая с течением веков тоже приближает их к старости и смерти. Тем не менее то самое время, которое нас старит и уничтожает, придает им новый вид красоты, достичь которую немыслимо для человеческой старости; ни за что на свете не хотелось бы мне увидеть отстроенный Колизей со всеми стенами и трибунами в идеальном состоянии, и за раскрашенный кричащими красками Парфенон или Нику Самофракийскую с головой я не дала бы ни гроша.
Глубоко погрузившись в свою работу, я бессознательно плавала в этих мыслях, поглаживая подушечками пальцев один из шершавых уголков лежавшего передо мной пергамента. Я была настолько увлечена этим занятием, что не услышала, как постучал в дверь доктор Уильям Бейкер, секретарь архива. Не услышала я, и как он повернул ручку и заглянул внутрь; в общем, когда я опомнилась, он уже стоял в дверях лаборатории.
— Доктор Салина, — пробормотал Бейкер, не решаясь переступить через порог, — преподобный отец Рамондино обратился ко мне, чтобы я попросил вас немедленно прийти к нему в кабинет.
Я подняла глаза от пергаментов и сняла очки, чтобы лучше видеть секретаря, на лице которого была написана такая же растерянность, как и на моем. Бейкер был низеньким коренастым американцем из тех, что благодаря своим генетическим корням без труда могут сойти за уроженцев юга Европы, с толстыми стеклами очков в роговой оправе и редкими, не то светлыми, не то серыми волосами, которые он старательно зачесывал так, чтобы они, насколько это возможно, закрывали голую и блестящую кожу его черепа.
— Простите, доктор, — ответила я, широко открыв глаза, — не могли бы вы повторить то, что сказали?
— Преподобнейший отец Рамондино хочет видеть вас в своем кабинете как можно скорее.
— Префект хочет видеть… меня? — не могла я поверить известию; Гульельмо Рамондино, второй человек в тайном архиве Ватикана, был главным управляющим архива после его высокопреосвященства монсеньора Оливейры, и случаи, когда он требовал к себе в кабинет одного из нас, работников архива, можно было по пальцам пересчитать.
Бейкер изобразил слабую улыбку и кивнул.
— И вы знаете, для чего он хочет меня видеть? — испуганно спросила я.
— Нет, доктор Салина, но, несомненно, это что-то крайне важное.
Произнеся это и продолжая улыбаться, он закрыл дверь и исчез. К этому времени у меня были уже налицо все признаки того, что в просторечии называется неудержимым ужасом: потели руки, пересохло во рту, появилась тахикардия и затряслись ноги.
Как могла, я встала с банкетки, погасила лампу и с болью обвела взглядом два прекраснейших раскрытых византийских кодекса, покоившихся на моем столе. Последние шесть месяцев своей жизни я посвятила тому, чтобы с помощью этих манускриптов воссоздать знаменитый утерянный текст «Панегирика» святого Никифора, и уже была близка к завершению работы. Я покорно вздохнула… Вокруг меня стояла полная тишина. Моя маленькая лаборатория, оборудованная старым деревянным столом, парой длинноногих банкеток, распятием на стене и множеством заставленных книгами полок, находилась на четвертом подземном этаже и была частью Гипогея, хранилища тайного архива, доступ в которое имеет только очень ограниченное число людей; невидимой части Ватикана, не существующей для мира и истории. Многие историки и исследователи отдали бы полжизни за то, чтобы ознакомиться с каким-либо из документов, которые прошли через мои руки за последние восемь лет. Но даже простое предположение о том, что посторонний церкви человек мог бы получить разрешение, необходимое, чтобы сюда попасть, было полным абсурдом: никогда ни одному мирянину не удавалось попасть в Гипогей и, уж конечно, никогда не удастся.
На моем столе, кроме подставок для книг, гор тетрадей с записями и низковольтной (чтобы избежать нагревания пергаментов) лампой, лежали бистури, резиновые перчатки и папки, набитые фотографиями высокого разрешения самых запорченных страниц византийских кодексов. С одного края деревянного стола торчала изогнутая, как гусеница, состоящая из множества сегментов длинная ручка лупы, а с нее, раскачиваясь, в свою очередь, свешивалась большая рука из красного картона с наклеенными звездами; эта рука была моим сувениром с последнего, пятого, дня рождения маленькой Изабеллы, самой любимой моей племянницы из всех двадцати пяти отпрысков, которых шестеро из моих восьми братьев и сестер принесли в стадо Господне. Я чуть улыбнулась, вспомнив потешную Изабеллу: «Тетя Оттавия, тетя Оттавия, дай я хлопну тебя красной рукой!»
Префект! Боже мой, меня ждет префект, а я тут застыла как статуя и вспоминаю про Изабеллу! Я торопливо сняла белый халат, повесила его за воротник на приклеенный к стене крючок и, выудив бедж, на котором рядом с моей жуткой фотографией красовалась большая «С», вышла в коридор и закрыла дверь в лабораторию. Мои помощники работали рядом за столами, вытянувшимися вряд на добрых пятьдесят метров, до дверей лифта. По другую сторону железобетонной стены вспомогательный персонал вновь и вновь архивировал сотни, тысячи записей и дел, связанных с церковью, ее историей, ее дипломатией и ее деятельностью со II века до наших дней. Некоторое представление о хранимой здесь информации можно было получить, исходя из факта, что полки тайного архива Ватикана тянулись более чем на двадцать пять километров. Официально в архиве хранились документы лишь последних восьми веков; однако под его опекой находилась и предыдущая тысяча лет (которую можно было найти только на третьем и четвертом подземных этажах повышенной секретности). Найденные при археологических раскопках или поступившие из приходов, монастырей, соборов, а также из старинных архивов замка Святого Ангела или Апостольского дворца с момента поступления в тайный архив эти ценные документы больше не видели солнечного света, который наряду с другими не менее опасными вещами мог бы уничтожить их навсегда.
Быстрым шагом я дошла до лифтов, остановившись, однако, на минуту, чтобы посмотреть на работу одного из моих помощников, Гвидо Буццонетти, который трудился над письмом великого монгольского хана Гуйука, посланным Папе Иннокентию IV в 1246 году. Небольшой флакон без крышки со щелочным раствором стоял в нескольких миллиметрах от его правого локтя, как раз рядом с некоторыми фрагментами письма.
— Гвидо! — испуганно воскликнула я. — Не двигайтесь!
Гвидо с ужасом посмотрел на меня, не решаясь даже вдохнуть. Кровь отлила от его лица и мало-помалу сосредоточивалась в ушах, которые стали похожи на две красные тряпицы, обрамляющие белую плащаницу. Малейшее движение его руки могло разлить раствор на пергаменты, приведя к необратимому повреждению уникального для истории документа. Вся работа вокруг нас остановилась, и тишина была такой, хоть ножом режь. Я взяла флакон, закрыла его и поставила на противоположный конец стола.
— Буццонетти, — прошептала я, сверля его взглядом. — Сию минуту соберите свои вещи и явитесь к вице-префекту.
Никогда я не позволяла у себя в лаборатории такой халатности. Буццонетти был молодым доминиканцем, выпускником ватиканской школы палеографии, дипломатики и архивного дела, специализировавшимся на восточной кодикологии. Я сама два года преподавала ему греческую и византийскую палеографию, прежде чем попросить преподобного отца Пьетро Понцио, вице-префекта архива, предложить ему работу в моей группе. Однако, как бы высоко я ни ценила брата Буццонетти, как бы хорошо ни знала о его огромной компетентности, я не собиралась позволять ему продолжать работу в Гипогее. Наши материалы были уникальными, невозместимыми, и когда через тысячу или через две тысячи лет кто-то захочет ознакомиться с письмом Гуйука Иннокентию IV, у него должна быть возможность это сделать. Все очень просто. Что случилось бы со служащим Лувра, если бы он оставил открытую банку с краской на раме «Джоконды»?.. С тех пор, как я возглавляла реставрационную и палеографическую лабораторию тайного архива Ватикана, я никогда не позволяла таких промахов в своей группе, об этом знали все, и не собиралась позволять их теперь.
Нажимая кнопку лифта, я прекрасно осознавала, что мои помощники не очень-то меня любят. Уже не впервые я чувствовала спиной их полные упрека взгляды, так что не позволила себе думать, что из уважения они на моей стороне. Однако я не считала, что руководство лабораторией восемь лет назад мне доверили для того, чтобы я добивалась любви моих подчиненных или моих начальников. Меня глубоко печалила необходимость уволить брата Буццонетти, и только я знала, как я буду мучиться в ближайшие месяцы, но именно за принятие таких решений я попала туда, где сейчас находилась.
Лифт бесшумно остановился на четвертом подземном этаже и открыл двери, впуская меня внутрь. Я вставила в панель ключ доступа, провела своей карточкой по электронному считывающему устройству и нажала на ноль. Через несколько секунд солнечный свет, потоками льющийся через большие окна здания со стороны двора Святого Дамасо, словно нож, проник в мой мозг, ослепив и ошеломив меня. Искусственная атмосфера нижних этажей притупляла чувства и лишала возможности отличить ночь ото дня, так что, погружаясь в важную работу и совершенно не замечая течения времени, я не раз удивлялась, покидая здание архива с первыми лучами зари следующего дня. Все еще моргая, я рассеянно посмотрела на наручные часы; был ровно час дня.
К моему изумлению, вместо того, чтобы спокойно ждать меня в своем кабинете, преподобнейший отец Гульельмо Рамондино разгуливал из угла в угол громадного вестибюля, всем своим видом выражая нетерпение.
— Доктор Салина, — пробормотал он, на ходу пожимая мне руку и направляясь к выходу, — пожалуйста, пройдите со мной. Времени у нас очень мало.
Сейчас март, и в это утро в саду Бельведер было жарко. Туристы жадно уставились на нас из окон коридоров пинакотеки, будто мы — экзотические животные в экстравагантном зоопарке. Я всегда чувствовала себя неловко в открытых для посетителей частях Города, и больше всего меня нервировало, когда я поднимала взгляд к любой точке выше моей головы и натыкалась на нацеленный на меня объектив фотоаппарата. К сожалению, некоторым прелатам нравится выставлять напоказ свой статус жителя самого маленького в мире государства, и отец Рамондино был одним из них. Под пальто нараспашку он был облачен в одежды священнослужителя, и его внушительная фигура ломбардского крестьянина была видна за несколько километров. Он старательно провел меня по самым близким к туристическому маршруту местам до помещений государственного секретариата на первом этаже Апостольского дворца, и, рассказывая, что нас лично примет его высокопреосвященство кардинал Анджело Содано, с которым, по его словам, его связывала старая добрая дружба, он расточал направо и налево лучезарные улыбки, будто шел в провинциальной процессии в Пасхальное воскресенье.
Стоявшие на входе в дипломатическую службу Святого Престола швейцарские гвардейцы даже не моргнули, когда мы прошли мимо них. Чего не скажешь о секретаре-священнике, обязанном вести учет всех входящих и выходящих, который тщательно записал в свою учетную книгу наши имена, должности и род занятий. «Действительно, — подтвердил он, встав, чтобы провести нас по длинным коридорам, окна которых выходили на площадь Святого Петра, — государственный секретарь ждет вас».
Пока я шагала рядом с префектом, хоть я и старалась не подавать виду, меня не покидало ощущение, что сердце мое сжимает стальной кулак: несмотря на то что я знала, что причина, вызвавшая всю эту странную ситуацию, не могла быть связана с ошибками в моей работе, я мысленно перебирала все сделанное за последние месяцы в поисках какого-нибудь возможного промаха, который заслуживал бы выговора от самых высоких чинов церковной иерархии.
Секретарь-священник наконец остановился в одном из залов, ничем не примечательном, таком же, как и все остальные, с такими же мотивами орнамента и такими же фресками на стенах, и попросил нас минуту подождать, после чего исчез за легкими и хрупкими, словно сделанными из сусального золота дверями.
— Доктор, вы знаете, где мы находимся? — нервничая, спросил меня префект, на губах которого красовалась улыбочка, изображавшая глубочайшее удовлетворение.
— Более или менее да, преподобный отец… — ответила я, внимательно глядя по сторонам. Здесь по-особому пахло, как будто свежевыглаженным, горячим бельем и еще лаком и воском.
— Это канцелярия второй секции государственного секретариата, — движением подбородка он обвел все пространство, — отдела, который занимается дипломатическими связями Святого Престола с остальным миром. Возглавляет его архиепископ-секретарь монсеньор Франсуа Турнье.
— Конечно, монсеньор Турнье! — уверенно согласилась я.
Я понятия не имела, кто это, но имя было мне немного знакомым.
— Здесь, доктор Салина, легче всего убедиться в том, что духовная власть церкви превыше правительств и границ.
— А зачем пришли сюда мы, преподобный отец? Наша работа никак не связана с такими вещами.
Он в замешательстве посмотрел на меня и понизил голос:
— Точную причину я назвать вам не могу… Как бы там ни было, могу вас уверить, что речь идет о деле самого высокого уровня.
— Но, преподобный отец, — упрямо не отставала я, — я работаю по контракту в тайном архиве. Любое дело самого высокого уровня должно обсуждаться с вами как с префектом или с его высокопреосвященством монсеньором Оливейрой. Что здесь делаю я?
Он посмотрел на меня так, что стало ясно: ответа у него нет, и, ободряюще похлопав меня по плечу, отошел, чтобы присоединиться к группе высокосановных священников, которые стояли у окон, ловя теплые солнечные лучи. Только тогда я поняла, что запах свежевыглаженного белья исходил от этих прелатов.
Уже подходило время обеда, но это, похоже, никого не волновало; в коридорах и кабинетах кипела бурная деятельность, и по всем углам туда-сюда постоянно сновали священнослужители и миряне. Мне никогда раньше не доводилось бывать в таком месте, так что я с восхищением отметила невероятную пышность залов, элегантность мебели, невообразимую ценность находившихся здесь картин и предметов интерьера. Лишь полчаса назад я сидела за работой, одна и в полной тишине, в своей маленькой лаборатории, в своем белом халате и очках, а теперь я нахожусь в месте, которое, похоже, является одним из важнейших мировых центров власти, и меня окружают самые высокопоставленные представители международной дипломатии.
Вдруг послышался скрип открываемой двери и шум голосов, который заставил всех присутствовавших повернуть головы. В ту же минуту в главном коридоре, смеясь и что-то выкрикивая, появилась большая и шумная группа журналистов с телекамерами и диктофонами. Большинство из них были иностранцами, в основном европейцами и африканцами, но итальянцев тоже было немало. За несколько секунд нашу залу наводнило около сорока или пятидесяти репортеров. Некоторые начали здороваться со священниками, епископами и кардиналами, которые, как и я, расхаживали по зале, другие поспешно направились к выходу. Почти все тайком поглядывали на меня, удивляясь появлению женщины там, где мы были редким явлением.
— Отмел Леманна одним махом! — воскликнул лысый журналист в очках, проходя рядом со мной.
— Ясно, что Войтыла уходить не собирается, — заявил другой, почесывая висок.
— Или ему не дают уйти! — дерзко сказал третий.
Они направились дальше по коридору, и остальные слова затерялись. Председатель конференции епископов Германии Карл Леманн несколько недель назад выступил с опасными заявлениями, утверждая, что, если Иоанн Павел II не в состоянии управлять церковью со всей ответственностью, ему желательно проявить необходимую силу воли для того, чтобы уйти на покой. Эта фраза епископа Майнцского, впрочем, не единственного, кто высказывал подобные пожелания, принимая во внимание слабое здоровье и плохое общее состояние Папы Римского, подействовала на папское окружение как кипящее масло, и, похоже, государственный секретарь кардинал Анджело Содано только что должным образом ответил на подобные высказывания на бурной пресс-конференции. Я с опасением подумала, что в умах бродит смута и что все это не кончится до тех пор, пока Святейший Отец не почиет в мире и новый пастырь твердою рукой не возьмет бразды правления Вселенской церковью.
Из всех дел Ватикана, которые больше всего интересуют общественность, без сомнения, самым захватывающим, самым насыщенным политическими и мирскими последствиями, тем, в котором лучше всего проявляются самые недостойные амбиции римской курии, а также самые неблагочестивые черты представителей Бога на земле, являются выборы нового Папы. К сожалению, мы находились на пороге такого потрясающего события, и Город представлял собой котел, где кишели маневры и махинации разных фракций, желающих усадить на престол Святого Петра своего кандидата. Следует признать, что в Ватикане уже давно царило ощущение временности и конца папства, и хотя меня как дочь церкви и монахиню эта проблема абсолютно не затрагивала, меня как исследователя с рядом подлежащих утверждению и требующих финансирования проектов она касалась весьма непосредственно. Во время правления Иоанна Павла II, отмеченного явными консервативными тенденциями, проводить определенные исследовательские работы было просто невозможно. В глубине души мне страстно хотелось, чтобы новый Святой Отец был человеком с более открытыми взглядами на жизнь и меньше заботился о защите официальной версии истории церкви (под грифом «Секретно. Доступ ограничен» находилось столько материалов!). Однако у меня не было особых надежд на значительное обновление, так как власть, накопленная за более чем двадцать лет кардиналами, назначенными самим Иоанном Павлом II, делала невозможным избрание в конклаве Папы из прогрессистского крыла. Разве что личное вмешательство Святого Духа, решительно настроенного на перемены и готового проявить свое могущественное влияние при таком малодуховном назначении, могло бы повлиять на ситуацию, при которой вероятность избрания нового Папы из консервативной группы была практически абсолютной.
В этот момент к отцу Рамондино подошел священник в черной сутане, сказал ему что-то на ухо, и тот подал мне движением бровей знак, чтобы я готовилась: нас ждали, и мы должны были войти.
Изящные двери бесшумно открылись перед нами, и я, как подобает по протоколу, пропустила префекта вперед. В комнате, в три раза превосходившей по размерам зал ожидания, из которого мы вошли, украшенной зеркалами, золочеными карнизами и фресками, в которых я узнала работу Рафаэля, находился самый маленький кабинетик, который мне доводилось видеть: в глубине, почти незаметный для глаз, на ковре стоял классический письменный стол, а за ним кресло с высокой спинкой — вот и вся мебель. Вдоль стены, однако, под стройными высокими окнами, пропускавшими свет с улицы, оживленно разговаривали несколько священнослужителей, сидевших на маленьких табуретах, скрытых их сутанами. За одним из этих прелатов стоял, не вмешиваясь в разговор, странный молчаливый мирянин с таким воинственным видом, что я ни на минуту не усомнилась, что это военный или полицейский. Он был ужасно высок (больше метра девяноста ростом), грузен и силен, будто каждый день таскал гантели, а на обед жевал стекло, и его светлые волосы были подстрижены так коротко, что едва можно было различить небольшие островки на лбу и на затылке.
При виде нас один из кардиналов, в котором я тут же узнала государственного секретаря Анджело Содано, встал и направился нам навстречу. Он был среднего роста, на вид ему было семьдесят с небольшим, его лицо венчал широкий лоб, образовавшийся вследствие малозаметной лысины, а напомаженные белые волосы были скрыты под кардинальской шапочкой из пурпурного шелка. На нем были старомодные очки с землистого цвета оправой и большими четырехугольными стеклами, черная сутана с пурпурной отделкой и пуговицами, переливчатый пояс и такие же носки. На его груди выделялся скромный нагрудный золотой крест. Его высокопреосвященство подошел к префекту с широкой дружеской улыбкой, чтобы обменяться с ним приветственными поцелуями.
— Гульельмо! — воскликнул он. — Как я рад снова тебя видеть!
— Ваше высокопреосвященство!
Их обоюдная радость встрече была очевидной. Значит, префект не выдумывал, рассказывая мне о своей старинной дружбе с самым важным лицом в Ватикане (после Папы, конечно). Я была во все большей растерянности и изумлении, словно все это был лишь сон, а не осязаемая действительность. Что же такое случилось, что я оказалась здесь?
Остальными присутствующими, которые тоже внимательно и с интересом наблюдали за сценой, были кардинал-викарий Рима и председатель конференции епископов Италии его высокопреосвященство Карло Колли, спокойный мужчина с приветливым выражением лица; архиепископ-секретарь второй секции монсеньор Франсуа Турнье (его я узнала по шапочке фиолетового, а не пурпурного, кардинальского, цвета) и молчаливый светловолосый воин, хмуривший прозрачные брови так, будто он был глубоко недоволен происходящим.
Вдруг префект обернулся ко мне и подвел меня за плечо поближе, так что я оказалась на одной линии с ним, перед государственным секретарем.
— Ваше высокопреосвященство, это доктор Оттавия Салина, — представил он меня; Содано в считанные секунды окинул меня взглядом с головы до ног. Хорошо хоть в этот день я была одета прилично: в красивую серую юбку и комплект из джемпера и кофты теплого розового цвета. «Лет тридцать восемь — тридцать девять, неплохо выглядит, — наверное, думал он, — приятное лицо, короткие черные волосы, черные глаза, средний рост».
— Ваше высокопреосвященство… — прошептала я, приседая в поклоне, чтобы, склонив голову в знак уважения, поцеловать перстень, который поднес к моим губам государственный секретарь.
— Доктор, вы монахиня? — спросил он вместо приветствия. У него был небольшой пьемонтский акцент.
— Сестра Оттавия, ваше высокопреосвященство, — поспешно пояснил префект, — принадлежит к ордену Блаженной Девы Марии.
— А почему она в мирской одежде? — спросил вдруг со своего места архиепископ-секретарь второй секции монсеньор Франсуа Турнье. — Разве ваш орден, сестра, не носит монашеских облачений?
Это было сказано крайне оскорбительным тоном, но я не собиралась поддаваться запугиванию. За столько лет жизни в Городе я была в подобной ситуации бесконечное число раз и уже закалилась в тысячах баталий за честь моего пола. Я взглянула ему прямо в глаза и ответила:
— Нет, монсеньор. Мой орден перестал использовать монашеские одеяния после Второго Ватиканского Собора.
— А, после Собора!.. — с явным неудовольствием пробормотал он. Монсеньор Турнье был очень видным мужчиной, настоящим кандидатом, по крайней мере внешне, на пост главы церкви, одним из щеголей, которые всегда чудесно выходят на фотографиях. — «Прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?» — спросил он вслух, цитируя Первое послание святого Павла к коринфянам.
— Сестра Оттавия, монсеньор, — заметил префект в качестве оправдания, — является доктором наук в области палеографии и истории искусства и, кроме того, обладает многими другими научными званиями. Она уже восемь лет возглавляет реставрационную и палеографическую лабораторию тайного архива Ватикана, преподает в ватиканской Школе палеографии, дипломатики и архивного дела и имеет многочисленные международные премии за исследовательские труды, в том числе и престижную премию Гетти, монсеньор, лауреатом которой она стала дважды, в 1992-м и 1995 году.
— Вот как! — удовлетворенно воскликнул государственный секретарь кардинал Содано, беззаботно присаживаясь рядом с Турнье. — Ну вот… Поэтому, в сущности, вы и здесь, сестра, поэтому мы просили о вашем присутствии на этом совещании.
Все смотрели на меня с явным любопытством, но я выжидательно молчала, чтобы за мои слова архиепископ-секретарь не процитировал в мою честь фрагмент из святого Павла, гласящий: «Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить». Я подумала, что монсеньор Турнье, да и все остальные присутствующие наверняка ставят намного выше меня монашек, находящихся у них в услужении, которых у каждого из присутствующих должно было быть по крайней мере три или четыре, или польских монахинь Святейшего Сердца Иисуса, носящих рясы и похожие на козырек крыши головные уборы, готовящих для Его Святейшества, убирающих у него в покоях и заботящихся о том, чтобы его одежда всегда сверкала; или сестер из конгрегации Благочестивых учениц Божественного Учителя, которые работали в Городе Ватикане телефонистками.
— Теперь, — продолжил его высокопреосвященство Анджело Содано, — архиепископ-секретарь монсеньор Турнье объяснит вам, зачем вас позвали, сестра. Гульельмо, иди сюда, — сказал он префекту, — сядь со мной. Монсеньор, слово вам.
Монсеньор Турнье спокойно встал с табурета с уверенностью, которой обладают лишь те, кто знает, что их внешний вид без труда прокладывает им путь везде в этой жизни, не глядя, протянул руку в сторону светловолосого солдата, который дисциплинированным жестом вручил ему толстую папку черного цвета. В желудке у меня все перевернулось, и на мгновение я подумала, что, что бы именно я ни сделала плохого, это должно было быть что-то совершенно ужасное, и я наверняка выйду из этого кабинета с пособием по увольнению в кармане.
— Сестра Оттавия, — начал монсеньор; голос его был низким и гнусавым, и он старался не смотреть на меня, — в этой папке вы найдете фотографии, которые мы могли бы назвать… как? Конечно, невиданными. До того, как вы рассмотрите их, мы должны сообщить вам, что на них — тело недавно погибшего мужчины, эфиопа, личность которого нами еще с точностью не установлена. Вы увидите, что это увеличенные снимки некоторых частей его тела.
А!.. Значит, меня не увольняют?
— Пожалуй, следует спросить сестру Оттавию, — впервые вмешался кардинал-викарий Рима его высокопреосвященство Карло Колли, — сможет ли она работать с такими отталкивающими материалами. — Он взглянул на меня с каким-то отцовским беспокойством и продолжил: — Этот несчастный, сестра, погиб в катастрофе и очень обезображен. Смотреть на эти фотографии довольно неприятно. Вы полагаете, что сможете это вынести? Потому что, если это не так, вам нужно только сказать нам об этом.
Я оцепенела от изумления. Меня не оставляло глубочайшее ощущение, что они ошиблись адресом.
— Простите, ваши высокопреосвященства, — запинаясь, проговорила я, — но не лучше ли вам проконсультироваться у патологоанатома? Я не могу понять, чем здесь могу пригодиться я.
— Понимаете, сестра, — поспешил прервать меня Турнье, снова беря слово и начиная медленно вышагивать внутри круга слушателей, — изображенный на фотографиях мужчина замешан в тяжком преступлении против католической церкви и против других христианских церквей. К сожалению, мы не можем предоставить вам более подробную информацию. Мы хотим, чтобы вы с максимальной конфиденциальностью провели анализ некоторых знаков в виде странных шрамов, которые нашли у него на теле, когда сняли одежду для вскрытия. Шрамирование, скарификация, кажется, именно так правильно называется нанесение этих, как бы лучше выразиться, ритуальных татуировок или племенных отметин. Кажется, у некоторых древних культур было в обычае украшать тело церемониальными ранами. В частности, — сказал он, открывая папку и оглядывая фотографии, — раны этого бедолаги действительно любопытны: они изображают греческие буквы, кресты и другие столь же — художественные? — изображения. Да, несомненно, они именно художественные.
— Монсеньор хочет сказать, — вдруг прервал его высокопреосвященство государственный секретарь, сердечно улыбаясь, — что вам нужно проанализировать все эти символы, изучить их и представить нам наиболее полное и точное их толкование. Конечно, для этого вы можете использовать все ресурсы тайного архива и любые другие средства, которыми располагает Ватикан.
— В любом случае доктор Салина может рассчитывать на мою полнейшую поддержку, — заявил префект архива, обводя глазами присутствующих в поисках одобрения.
— Спасибо за предложение, Гульельмо, — заметил его высокопреосвященство, — но хотя обычно сестра Оттавия работает под твоим руководством, в этом случае это будет не так. Я надеюсь, ты не обидишься, но с этой минуты и до окончания отчета сестра приписывается к государственному секретариату.
— Не беспокойтесь, преподобный отец, — мягко добавил монсеньор Турнье, делая рукой жест элегантной отстраненности. — В распоряжении сестры Оттавии будет неоценимая помощь присутствующего здесь Каспара Глаузер-Рёйста, капитана швейцарской гвардии и одного из самых ценных агентов Его Святейшества. Он является автором этих фотографий и координирует проводимое расследование.
— Ваши преподобия…
Это послышался мой дрожащий голос. Четверо прелатов и военный снова обернулись ко мне.
— Ваши преподобия, — повторила я со всем смирением, на которое только была способна, — я бесконечно благодарна вам за то, что вы подумали обо мне, когда речь зашла о таком важном деле, но, боюсь, я не смогу за него взяться… — Я еще больше смягчила тон моих слов, чтобы продолжить: — Не только потому, что в данный момент я не могу оставить проводимую мною работу, занимающую все мое время, но и потому также, что я не имею основных знаний, позволяющих работать с базами данных тайного архива, и мне понадобилась бы также помощь антрополога, чтобы свести воедино самые важные моменты исследования. Я хочу сказать… ваши преподобия… что, мне кажется, я не в состоянии выполнить эту задачу.
Когда я закончила говорить, признаки жизни подал только монсеньор Турнье. Пока остальные не могли и слова сказать от удивления, у него на губах забрезжила саркастическая ухмылочка, которая заставила меня заподозрить его открытое нежелание воспользоваться моими услугами, выраженное до того, как я вошла в кабинет. Я прямо слышала, как он презрительно говорит: «Женщина?..» Так что это именно его насмешливый и язвительный взгляд заставил меня перевернуть все на сто восемьдесят градусов и сказать:
— …Хотя, если хорошенько подумать, я, пожалуй, могла бы взяться за эту работу, если только мне дадут на нее достаточно времени.
Издевательская гримаса монсеньора Турнье исчезла как по мановению волшебной палочки, и все остальные сразу сбросили напряженное выражение лица и выразили свое облегчение удовлетворенными вздохами. Признаюсь, одним из величайших моих грехов является гордыня во всех своих вариациях: высокомерие, тщеславие, надменность… Никогда мне не удастся в этом в достаточной мере раскаяться или выполнить достаточную епитимью, но я не в состоянии оставить без внимания брошенный мне вызов или смириться перед провокацией, подвергающей сомнению мой ум или мои знания.
— Великолепно! — воскликнул его высокопреосвященство государственный секретарь, хлопнув себя ладонью по колену. — Значит, не о чем больше и говорить! Слава Богу, проблема решена! Очень хорошо, сестра Оттавия, с этого момента капитан Глаузер-Рёйст будет рядом с вами, чтобы оказать вам любую необходимую помощь. Каждое утро перед началом работы он будет вручать вам фотографии, а в конце дня вы будете ему их возвращать. Есть ли у вас вопросы перед тем, как приступить к делу?
— Да, — удивленно ответила я. — Разве капитан сможет входить со мной в помещения тайного архива с ограниченным доступом? Он мирянин и…
— Конечно, сможет, доктор! — заверил меня префект Рамондино. — Я лично позабочусь о том, чтобы подготовить ему удостоверение сегодня же вечером.
Игрушечный солдатик (чем же еще являются швейцарские гвардейцы?) готов был положить конец почтенной вековой традиции.
Я пообедала в кафетерии архива и посвятила остаток вечера тому, чтобы убрать и спрятать все, что лежало на моем столе в лаборатории. То, что приходилось откладывать мое исследование «Панегирика», раздражало меня гораздо больше, чем мне хотелось признать, но я попала в собственную ловушку, да и как бы там ни было, я не могла уклониться от прямого приказания кардинала Содано. Кроме того, полученное задание интриговало меня вполне достаточно, чтобы испытывать легкий зуд извращенного любопытства.
Когда все было приведено в идеальный порядок и готово к началу новой работы на следующее утро, я взяла свои вещи и пошла домой. Пройдя через колоннаду Бернини, я вышла с площади Святого Петра через улицу Порта-Анджелика и рассеянно прошла мимо многочисленных сувенирных лавок, все еще переполненных сумасшедшим количеством туристов, прибывших в Рим в связи с великим Юбилеем. Хотя воришки квартала Борго приблизительно знали служащих Ватикана, с началом Святого года (в первые десять дней января в город прибыло три миллиона человек) их число увеличилось за счет съехавшихся со всей Италии опасных карманников, так что я хорошенько прижала к себе сумку и ускорила шаг. Вечерний свет медленно растекался на западе, и я, всегда испытывавшая перед этим светом некоторый страх, не чаяла укрыться в доме. Осталось совсем немного. К счастью, главная настоятельница моего ордена решила, что иметь одну из своих монахинь на такой значительной должности, как моя, стоило того, чтобы купить квартиру неподалеку от Ватикана. Так что мы с тремя сестрами оказались первыми обитательницами крохотной квартирки на площади Васкетте с видом на барочный фонтан, который в старые времена питался целительной Ангельской водой, обладавшей способностью врачевать желудочные расстройства.
Сестры Ферма, Маргерита и Валерия, все вместе работавшие в расположенной неподалеку школе, только что вернулись домой. Они были на кухне, готовили ужин и весело обсуждали разные мелочи. Ферма, старше всех по возрасту, ей было пятьдесят пять лет, все еще упрямо придерживалась форменной одежды — белой блузки, жакета цвета морской волны, такого же цвета юбки ниже колена и толстых черных чулок, — которую она начала носить после отмены монашеских облачений. Маргерита была старшей в нашей общине и возглавляла школу, где все три работали, она была всего на несколько лет старше меня. Наши отношения с течением лет стали из отдаленных сердечными и из сердечных дружескими, но глубины в них не было. Наконец, юная Валерия, родом из Милана, учила в школе самых маленьких, четырех- и пятилетних малышей, среди которых было все больше детей эмигрантов из Азии и арабских стран со всеми вытекающими из этого проблемами общения в классе. Недавно я видела, как она читала толстую книгу об обычаях и религиях других континентов.
Все три испытывали глубокое уважение к моей работе в Ватикане, хотя на самом деле они не очень хорошо знали, чем я занимаюсь; знали только, что не должны об этом расспрашивать (полагаю, их предупредили, и наши старшие сестры особенно настояли на этом моменте), так как в моем контракте на работу в Ватикане была очень четкая статья о том, что под угрозой отлучения от церкви мне запрещалось говорить о моей работе с не имеющими к ней отношения людьми. Однако, зная, что им это нравится, иногда я рассказывала им что-нибудь о последних открытиях, связанных с жизнью первых христианских общин или с началом существования церкви. Естественно, я говорила им только о хорошем, о том, в чем можно было признаться, не подрывая официальной историографии или основ веры. Зачем, к примеру, объяснять им, что в письме Иренея, одного из отцов церкви, 183 года ревниво сберегаемом архивом, в качестве первого Папы упоминается Лин, а не Петр, о котором даже речи не идет? Или что официальный перечень первых Пап, содержащийся в «Каталоге Папы Либерия» 354 года, совершенно не соответствует действительности, и упомянутые в нем мнимые Папы (Анаклет, Климент I, Эварист, Александр…) вообще никогда не существовали? Для чего все это им рассказывать?.. Зачем говорить им, к примеру, что все четыре Евангелия были написаны после Посланий святого Павла, истинного основателя нашей церкви, на основе его доктрины и учений, а не наоборот, как думают все? Мои сомнения и страхи, которые, проявляя большую интуицию, ощущали Ферма, Маргерита и Валерия, моя внутренняя борьба и мои великие страдания были тайной, в которую я могла посвятить только своего исповедника, который утешал всех работавших в третьем и четвертом подземных этажах тайного архива, отца-францисканца Эджильберто Пинтонелло.
Поставив ужин в духовку и накрыв на стол, мы с сестрами вошли в домашнюю часовню и уселись на разложенных на полу подушках вокруг дарохранительницы, перед которой всегда горела крохотная свеча. Мы вместе перебрали в молитве скорбные тайны розария, а затем замолкли, погрузившись каждая в свою молитву. Шел Великий Пост, и в эти дни, по рекомендации отца Пинтонелло, я размышляла об отрывке Евангелия о тех сорока днях, которые Иисус постился в пустыне, и об искушениях дьявола. Не то чтобы эта пища была мне особенно по душе, но я всегда была ужасно дисциплинированной, и мне и в голову бы не пришло ослушаться указаний моего исповедника.
Пока я молилась, дневная беседа с прелатами снова и снова приходила мне на ум, мешая сосредоточиться. Я думала, смогу ли успешно выполнить работу, информацию о которой от меня скрывали, и все, что с этим связано, носит странный оттенок. «Изображенный на фотографиях мужчина, — сказал монсеньор Турнье, — замешан в тяжком преступлении против католической церкви и других христианских церквей. К сожалению, мы не можем предоставить вам более подробную информацию».
В эту ночь мне снились страшные сны, в которых изуродованный мужчина без головы, воплощавший дьявола, являлся мне на каждом углу длинной улицы, по которой я шла, спотыкаясь, словно пьяная, искушая меня властью и славой всех царств мира.
Ровно в восемь утра настойчиво задребезжал звонок входной двери с улицы. Ответившая на него Маргерита скоро вернулась в кухню с постной миной.
— Оттавия, тебя ждет внизу некий Каспар Глаузер.
Я окаменела.
— Капитан Глаузер-Рёйст? — пробормотала я с набитым бисквитом ртом.
— Если он капитан, то не сказал об этом, — заметила Маргерита, — но имя совпадает.
Я, не жуя, проглотила бисквит и одним глотком выпила кофе с молоком.
— Работа… — извинилась я, поспешно покидая кухню под удивленными взглядами моих сестер.
Квартирка на площади Васкетте была столь мала, что доли секунды мне хватило на то, чтобы привести в порядок мою комнату и заглянуть в часовню, чтобы попрощаться со Святейшим. Я на лету схватила с вешалки возле входа пальто и сумку и в полной растерянности выбежала, закрыв за собой дверь. Чего ради капитан Глаузер-Рёйст ждет меня внизу? Что-то случилось?
Спрятавшись за непроницаемыми черными очками, коренастый игрушечный солдатик безучастно опирался на дверцу роскошного «альфа-ромео» темно-синего цвета. В Риме парковать машину прямо перед дверью — традиция, вне зависимости от того, мешаешь ты движению или нет. Любой уважающий себя римлянин основательно объяснит вам, что так теряешь меньше времени. Несмотря на свое швейцарское гражданство, являющееся обязательным для всех членов маленькой ватиканской армии, капитан Глаузер-Рёйст, судя по всему, уже много лет жил в городе, потому что с абсолютной невозмутимостью перенял его худшие обычаи. Капитан был чужд нетерпению, вызываемому им у жителей квартала Борго, и ни один мускул его лица не дрогнул, когда наконец я открыла дверь подъезда и вышла на улицу. Я с радостью отметила, что в потоке солнечных лучей цветущий вид огромного швейцарского воина несколько проигрывал, и на его обманчиво моложавом лице различались отметины времени и небольшие морщины у глаз.
— Доброе утро, — сказала я, застегивая пальто. — Что-то случилось, капитан?
— Доброе утро, доктор, — произнес он на совершенно правильном итальянском, в котором все-таки слышался какой-то германский оттенок в произношении «эр». — Я ждал вас у входа в архив с шести часов утра.
— Почему так рано, капитан?
— Я думал, вы начинаете работать в это время.
— Я начинаю работать в восемь, — процедила я.
Капитан равнодушно взглянул на наручные часы.
— Уже десять минут девятого, — заявил он, холодный, как камень, и столь же любезный.
— Да ну?.. Что ж, поехали.
Какой отвратительный человек! Разве он не знал, что начальники всегда опаздывают? Это часть привилегий, связанных с должностью.
«Альфа-ромео» на всей скорости пересек улочки Борго, потому что капитан перенял и самоубийственный стиль римского вождения, и, не успев сказать «аминь», мы уже ехали по площади Святой Анны, оставляя за собой казармы швейцарской гвардии. Если по дороге я не закричала, не захотела открыть дверцу и выпрыгнуть из машины, то это благодаря моему сицилийскому происхождению и тому, что в молодости я получила водительские права в Палермо, где дорожные знаки стоят для украшения и все основано на соотношении сил, использовании клаксона и элементарном здравом смысле. Капитан резко остановил машину на стоянке, где красовалась табличка с его именем, и с явным удовлетворением выключил мотор. Это была первая человеческая черта, которую я у него заметила, и она очень бросилась в глаза: вне всяких сомнений, он обожал водить машину. Пока мы шли к архиву дотоле неизвестными мне ватиканскими закоулками (мы прошли через наполненный снарядами современный спортзал и через стрельбище, о существовании которого я даже не подозревала), все попадавшиеся нам по пути гвардейцы вытягивались перед нами во фрунт и отдавали Глаузер-Рёйсту честь.
Одним из наиболее волновавших мое любопытство на протяжении многих лет вопросов было происхождение броской разноцветной формы швейцарской гвардии. К сожалению, в каталогизированных в тайном архиве документах не было никаких данных, доказывающих или опровергающих утверждение о том, что она была создана Микеланджело, как ходили слухи, но я была уверена, что эти данные всплывут в самый неожиданный момент среди того громадного количества документов, которые еще не были изучены. Как бы там ни было, в отличие от своих сослуживцев Глаузер-Рёйст, похоже, никогда не пользовался формой, поскольку в обоих случаях, когда я его видела, он был одет в штатскую одежду, кстати, несомненно, очень дорогую, слишком дорогую для скудной зарплаты бедного швейцарского гвардейца.
Мы молча пересекли вестибюль тайного архива, пройдя перед закрытым кабинетом преподобного отца Рамондино, и вместе вошли в лифт. Глаузер-Рёйст вставил в отверстие панели свой новенький ключ.
— Фотографии у вас с собой, капитан? — из любопытства спросила я, пока мы спускались в Гипогей.
— Так точно, доктор.
Я находила в нем все больше сходства с острой и твердой кремниевой скалой на обрыве. Где они взяли такого типа?
— Тогда, полагаю, мы сможем сразу начать работу, так ведь?
— Сразу, доктор.
Увидев, как Глаузер-Рёйст идет по коридору по направлению к лаборатории, мои помощники разинули рты от изумления. В это утро стол Гвидо Буццонетти был болезненно пуст.
— Доброе утро, — громко сказала я.
— Доброе утро, доктор, — пробормотал кто-то, чтобы не оставлять меня без ответа.
Но если до двери моего кабинета нас сопровождала полная тишина, крик, который я издала, открыв ее, был слышен даже в римском Форуме.
— Иисусе! Что здесь произошло?
Мой старый письменный стол был безжалостно задвинут в угол, а его место в центре комнаты занимал металлический стол с гигантским компьютером. Другой компьютерный хлам громоздился на маленьких столиках из метакрилата, вытащенных из какого-то заброшенного кабинета, и десятки проводов и розеток расположились на полу и свешивались с полок моих старых книжных шкафов.
Я в ужасе закрыла рот руками и вошла, осторожно ступая, словно шла по змеиным гнездам.
— Это оборудование понадобится нам для работы, — объявил Кремень у меня за спиной.
— Надеюсь, что это так, капитан! Кто дал вам разрешение войти ко мне в лабораторию и устроить этот бедлам?
— Префект Рамондино.
— Ну, могли бы и со мной посоветоваться!
— Мы установили компьютеры вчера вечером, когда вы уже ушли. — В его голосе не звучало ни нотки сожаления или какого-то чувства; он просто ставил меня в известность, и все; будто все, что он делает, не подлежит никакому обсуждению.
— Великолепно! Просто великолепно! — злобно прошипела я.
— Вы хотите начать работу или нет?
Я обернулась так, будто он дал мне пощечину, и посмотрела на него со всем презрением, на которое только была способна.
— Давайте скорей покончим со всем этим.
— Как прикажете, — проговорил капитан, сильно раскатывая «эр». Он расстегнул пиджак и из какого-то непонятного места вынул пухлую черную папку, которую накануне показывал мне монсеньор Турнье. — Все в вашем распоряжении, — сказал он, протягивая ее мне.
— А что будете делать вы, пока я работаю?
— Воспользуюсь компьютером.
— С какой целью? — удивленно спросила я. Моя компьютерная неграмотность всегда висела на мне, как несданный школьный предмет, и хотя я знала, что когда-нибудь мне придется ее наверстать, пока как уважающий себя эрудит я с большим удовольствием презрительно относилась к этим дьявольским железкам.
— С целью решить все возникающие у вас вопросы и предоставить вам всю имеющуюся информацию на любую интересующую вас тему.
На том и порешили.
Я начала с рассматривания фотографий. Их было много, точнее, тридцать, и они были пронумерованы и разложены хронологически, то есть от начала до конца вскрытия. После первичного просмотра я выбрала те, на которых было видно простертое на металлическом столе тело эфиопа в положении на спине и на животе. В глаза бросались перелом таза (из-за неестественного изгиба ног) и огромная рана в правой части теменной кости черепа, которая открыла серый желатин мозга среди осколков кости. За ненадобностью я отложила в сторону все остальные фотографии, потому что, хотя на теле должно было быть множество внутренних ран, я не могла их выявить и не считала, что они имеют значение для моей работы. Я лишь обратила внимание на то, что, наверное, от удара он изувечил себе зубами язык.
Этот мужчина никогда не смог бы выдать себя за другого и скрыть, кем он был на самом деле: эфиопом — все этнические черты были у него ярко выражены. Как большинство эфиопов, он был достаточно худым и длинным, с тощим, жилистым телом, а окраска его кожи была необычно темной. Однако окончательным доказательством, выдававшим его абиссинское происхождение, являлись черты его лица: высокие, резко очерченные скулы, запавшие щеки, большие черные глаза, которые на фотографиях были открыты, создавая впечатляющий эффект, широкий костистый лоб, толстые губы и тонкий нос почти греческого профиля. До того, как ему обрили оставшуюся целой часть головы, у него были жесткие курчавые волосы, довольно грязные и перепачканные в крови; после того, как их обрили, в самом центре черепа открылся очень четкий тонкий шрам в форме греческой заглавной буквы «сигма» (Σ).
В то утро я только и делала, что вновь и вновь рассматривала жуткие фотографии, отслеживая любые казавшиеся значимыми детали. Шрамы от скарификации выделялись на коже, как линии шоссе на картах; некоторые из них были мясистыми и распухшими, очень неприятными, а другие — узкими, почти незаметными, похожими на шелковую нить. Но все они без исключения были розоватого, в некоторых местах даже красноватого цвета, который придавал им отталкивающий вид пересаженной белой кожи на черном фоне. К вечеру мой желудок свело судорогой, голова отупела, а стол был заполнен записями и схемами шрамов умершего.
Я нашла на теле еще шесть греческих букв: на правой руке, на бицепсе — «тау» (Τ), на левой — «ипсилон» (Υ), в центре груди над сердцем — «альфа» (Α), на животе — «ро» (Ρ), на правом бедре, на квадрицепсе — «о микрон» (Ο), а на левом, в том же месте, — еще одна «сигма» (Σ). Прямо под буквой «альфа» и над «ро», на уровне легких и желудка находилась большая христограмма, известный вензель, который так часто можно увидеть на полях фронтона и на алтарях средневековых церквей, образованный наложенными друг на друга двумя первыми греческими буквами имени Христа: ΧΡ, «хи» и «ро»:

У этой христограммы была, однако, одна любопытная особенность: поперек нее добавили линию, которая дополняла монограмму до образа креста. На всем теле, за исключением кистей, ступней, ягодиц, шеи и лица, было множество других крестов самых оригинальных форм, какие мне только приходилось видеть.
Капитан Глаузер-Рёйст подолгу сидел перед компьютером, без устали набирая на клавиатуре загадочные команды, но иногда он придвигал свой стул к моему и молча наблюдал за ходом моего анализа. Поэтому, когда он вдруг спросил, не пригодится ли мне рисунок человеческого тела в натуральную величину, чтобы отмечать на нем шрамы, я вздрогнула. Перед тем, как ответить, я сделала несколько движений головой вверх-вниз и влево-вправо, чтобы размять затекшие шейные позвонки.
— Неплохая идея. Кстати, капитан, какие еще данные вам позволено сообщить мне об этом бедолаге? Монсеньор Турнье сказал, что это вы делали фотографии.
Глаузер-Рёйст встал со стула и направился к компьютеру.
— Я ничего не могу вам сказать.
Он быстро нажал на несколько клавиш, и принтер затрещал и начал выдавать бумагу.
— Мне необходимо знать кое-что еще, — возразила я, потирая переносицу под очками. — Возможно, вы знаете что-то, что могло бы облегчить мне работу.
Кремень не поддался на мои просьбы. С помощью кусочков клейкой ленты, которые он отрывал зубами, он выклеил на обратной стороне двери (это было единственное место, остававшееся свободным в моей маленькой лаборатории) выползающие из принтера страницы, так что получилось полное изображение человеческого тела.
— Я могу помочь вам чем-то еще? — закончив, спросил он, поворачиваясь ко мне.
Я презрительно посмотрела на него.
— Вы можете посмотреть с этого компьютера базы данных тайного архива?
— С этого компьютера я могу посмотреть любую базу данных в мире. Что вы хотите узнать?
— Все, что вы сможете найти о шрамировании.
Не медля ни секунды, он принялся за работу, а я взяла несколько разноцветных фломастеров из ящика стола и решительно встала перед бумажным силуэтом. Через полчаса я довольно точно воспроизвела скорбную карту ран трупа. Я недоумевала, почему здоровый, сильный мужчина тридцати с лишним лет позволил подвергнуть себя таким пыткам. Это очень странно.
Кроме греческих букв, я нашла семь прекраснейших крестов, каждый из которых полностью отличался от всех остальных: латинский крест на внутренней стороне правого предплечья и крест латинского типа иммисса (с короткой перекладиной в центре столба) в том же месте на левом предплечье; на спине были пнистый крест (из бревен) на шейных позвонках, другой, египетский крест анх, красовался на грудном отделе позвоночника, и последний, вилчатый крест находился на поясничном отделе. Остальные два креста были косой (в форме буквы «ха») и греческий, расположенные на задней части бедер. Разнообразие поражало, хотя все они имели нечто общее: они были защищены или вписаны в квадраты, круги и прямоугольники (похожие на средневековые оконца или бойницы) с одинаковой маленькой лучистой короной наверху, напоминавшей по форме зубья пилы и всегда имевшей семь зубцов.
В девять часов вечера мы умирали от усталости. Глаузер-Рёйсту удалось найти всего несколько скудных упоминаний о шрамировании. Он поверхностно объяснил мне, что это религиозный обычай, практикуемый в ряде стран центральной Африки, куда, к нашему сожалению, не входила Эфиопия. Похоже, что в этом регионе примитивные племена натирали порезы на коже, сделанные, как правило, острыми, как ножи, кусочками тростника, особой смесью трав. Мотивы орнаментов могли быть очень сложными, но, по существу, соответствовали геометрическим фигурам священных символов, зачастую связанных с каким-то религиозным ритуалом.
— И все?.. — разочарованно спросила я, увидев, что он умолк после такого краткого рассказа.
— Ну, есть еще кое-что, но это не имеет особого значения. Келоиды, то есть утолщенные и разбухшие рубцы, на женском теле считаются настоящим сексуальным соблазном для мужчин.
— Ах вот как!.. — удивленно ответила я. — Вот это здорово! Мне никогда и в голову бы не пришло.
— Так что, — бесстрастно продолжал он, — мы так и не знаем, почему эти шрамы находятся на теле этого мужчины. — Кажется, именно тогда я впервые заметила, что глаза у него вылинявшего серого цвета. — Еще один любопытный факт, хотя для нашей работы он тоже не имеет никакого значения: в последнее время эта практика входит в моду среди молодежи разных стран. Ее называют боди-арт или перфоманс-арт, и одним из самых рьяных ее защитников является певец и актер Дэвид Боуи.
— Не может быть… — вздохнула я, чуть усмехнувшись. — Вы хотите сказать, что они дают себя резать ради удовольствия?
— Ну, — пробормотал он в такой же растерянности, как я, — это как-то связано с эротизмом и чувственностью, но как-то объяснить это я бы не смог.
— Даже не пытайтесь, спасибо, — отрезала я, мертвая от усталости, и встала в знак окончания этого первого изнурительного рабочего дня. — Пойдемте отдыхать, капитан. Завтра нам предстоит очень долгий день.
— Позвольте, я отвезу вас домой. В такое время вам лучше не ходить по Борго одной.
Я слишком устала, чтобы отказываться, так что я снова подвергла свою жизнь риску в этом потрясающем автомобиле. Прощаясь, я поблагодарила его не без некоторых угрызений совести за свое с ним обращение, которые, впрочем, быстро улетучились, и вежливо отказалась от его предложения заехать за мной на следующее утро; я уже два дня не была на мессе и не собиралась ее больше пропускать. Я встану пораньше и перед тем, как снова взяться за работу, пойду в церковь Сан-Микеле-и-Магно.
Когда я вошла, Ферма, Маргерита и Валерия смотрели по телевизору старый фильм. Они заботливо оставили мне в микроволновке горячий ужин, так что я съела немного супа (без аппетита, за день я насмотрелась слишком много шрамов) и перед сном закрылась ненадолго в часовне. Но в этот вечер я не смогла сосредоточиться на молитве, и не только потому, что слишком устала (так оно и было), но и потому, что троим из моих восьми братьев и сестер взбрело в голову позвонить мне с Сицилии, чтобы спросить, собираюсь ли я приехать на праздник, который мы организовывали в честь нашего отца каждый год в день святого Джузеппе. Всем троим я сказала, что да, собираюсь, и в отчаянии отправилась спать.
Начиная с того первого дня, нам с капитаном Глаузер-Рёйстом довелось пережить несколько сумасшедших недель. Закрывшись в моей лаборатории с восьми утра до восьми или девяти вечера с понедельника по пятницу, мы перебирали те немногие данные, которые у нас были, в свете скудной информации, которую получали из архивов. Решение загадки с греческими буквами и христограммой оказалось относительно простым по сравнению с титаническим усилием, которого потребовала расшифровка тайны семи крестов.
На второй день работы, лишь войдя в лабораторию и закрывая дверь, я мельком глянула на наклеенный на дерево бумажный силуэт, и тут разгадка греческих букв бросилась мне в лицо, словно перчатка, брошенная, как вызов чести. Она была так очевидна, что казалось невероятным, что накануне вечером я ее не увидела, хотя в свое оправдание я вспомнила, что была очень уставшей: при чтении от головы к ногам и справа налево семь букв складывались в греческое слово «СТАВРОС» (ΣΤΑΥΡΟΣ), которое, естественно, означает «крест». На данном этапе было уже очевидно, что все, что было на этом медного цвета теле, было связано с одной и той же темой.
Через несколько дней, перечитав несколько раз вдоль и поперек (безуспешно) историю бывшей Абиссинии (Эфиопии) и просмотрев самые разнообразные документы о греческом влиянии на культуру и религию этой страны, просидев долгие часы за штудированием десятков книг по искусству всех эпох и стилей, пространных досье по сектам, присланных различными отделами тайного архива, и исчерпывающей информации о христограммах, которую капитан смог получить по компьютеру, мы сделали другое довольно значительное открытие: монограмма имени Христа, нанесенная на грудь и живот эфиопа, соответствовала одному из вариантов, называемому «монограммой Константина», который перестал использоваться в христианском искусстве с VI века нашей эры.
На начальном этапе христианства, как бы странно это ни показалось, крест не являлся объектом поклонения. Первые христиане не придавали никакого значения орудию страдания, предпочитая использовать в качестве символов и изображений другие, более радостные, декоративные элементы. Кроме того, во время римских гонений, которых, кстати, было совсем немного, поскольку они свелись более или менее ко всем известным действиям Нерона после пожара в Риме в 64 году и, согласно Евсевию[1], к двум годам того, что неправильно называют Великим гонением Диоклетиана (с 303-го по 305 год), так вот во время римских гонений выставление креста напоказ и прилюдное поклонение ему, несомненно, было делом очень опасным, поэтому на стенах катакомб и домов, на надгробных камнях усыпальниц, на личных вещах и на алтарях появились такие символы, как агнец, рыба, якорь или голубь. Однако самым главным символом являлась христограмма — монограмма, образованная первыми греческими буквами имени Христа: ΧΡ («хи» и «ро»), которую щедро использовали для украшения священных мест.
В зависимости от религиозной интерпретации существовало множество вариантов изображения христограммы; например, на могилах мучеников изображались христограммы с пальмовой ветвью, символизировавшей победу Христа, вместо буквы Ρ, а монограммы с треугольником в центре выражали таинство Троицы.
В 312 году нашей эры император Константин Великий, бывший солнцепоклонником, в ночь накануне битвы с Максенцием, своим главным соперником в борьбе за трон Империи, увидел сон, в котором ему явился Христос, велящий ему нанести на верхнюю часть древка полковых знамен эти две буквы: ΧΡ. Согласно легенде, на следующий день перед битвой он увидел этот знак с дополнительной перекладиной, образовывавшей образ Креста на слепящем диске Солнца, а под ним — греческие слова «EN-TOUTOI-NIKA», более известные в латинском переводе «In hoc signo vinces», то есть «Под этим знаком победишь». Поскольку Константин несомненно одолел Максенция в битве у Мильвийского моста, его штандарт с хрисмоном, позднее именованный Лабарум, стал знаменем Империи. Таким образом, этот символ приобрел чрезвычайную важность в сохранившейся еще части Римской империи, и когда западная часть этой территории, Европа, попала под власть варваров, его продолжали использовать в восточной ее части, Византии, по крайней мере до VI века, когда, как я уже сказала, он полностью исчез из христианского искусства.
Так вот христограмма, красовавшаяся на туловище нашего эфиопа, была как раз тем самым хрисмоном, который император увидел в небе перед битвой; именно тем, с горизонтальной перекладиной, и никаким другим из вариантов, и это крайне любопытно, даже более чем любопытно — странно, поскольку им перестали пользоваться четырнадцать веков назад, как свидетельствует отец церкви святой Иоанн Хризостом, который в своих трудах утверждает, что наконец-то в конце V века этот символ сменило изображение настоящего Креста, которое теперь с гордостью повсюду выставляется на прилюдное обозрение. На самом деле в романский и готический период хрисмоны снова появились в качестве декоративного элемента в орнаменте, однако они имели уже другую форму, отличную от простой и ясной монограммы Константина.
Да, эта якобы разрешенная тайна, как и слово «СТАВРОС», разбросанное на теле по буквам, тем не менее погружали нас в совершеннейшее недоумение. С каждым днем желание распутать весь этот клубок, понять, что пыталось сказать нам это странное тело, становилось все острее и острее. Однако задание сводилось к пояснению отдельных знаков, вне зависимости от того, что означала их совокупность, так что мне приходилось лишь продолжать идти в заданном направлении и наконец прояснить значение семи крестов.
Почему именно семь, а не восемь, не пять и не пятнадцать, к примеру? Почему все они разные? Почему все вписаны в геометрические фигуры, словно в средневековые оконца? Почему все их венчает зубчатая корона?.. Я сокрушенно думала, что мы никогда не сможем этого узнать, все было слишком сложно и одновременно слишком абсурдно. Я поднимала взгляд от фотографий и набросков и смотрела на бумажный силуэт: быть может, расположение крестов послужит мне подсказкой? Но и там я ничего не видела, по меньшей мере ничего такого, что помогло бы мне разгадать этот иероглиф, поэтому я снова опускала глаза к столу и устало сосредотачивалась на изучении каждой из этих странных бойничек с короной.
За эти дни Глаузер-Рёйст не сказал почти ни слова; он долгими часами стучал по клавишам компьютера, и я чувствовала, как в глубине меня зарождается абсурдная злоба на него за то, что он тратит время на эти глупости в то время, как мои мозги превращаются в кисель.
Громадными шагами приближалось воскресенье, 19 марта, день святого Джузеппе, и мне ничего не оставалось, как начать подготовку к поездке в Палермо. Я редко ездила домой, всего два-три раза в год, но как образцовая сицилийская семья семейство Салина всегда было неразрывно едино в горе и в радости, даже по ту сторону смерти. Быть восьмой из девяти братьев и сестер (отсюда и мое имя — Оттавия, «восьмая») означает иметь большие преимущества в овладении методами выживания и их использовании: всегда найдется старший брат или сестра, чтобы тебя помучить или придавить своим авторитетом (твои вещи принадлежат тому, кто возьмет их первым, твое место занимает тот, кто раньше пришел, твои успехи или неудачи уже были успехами или неудачами других и т. д.). Однако связь между девятью детьми Филиппы и Джузеппе Салины была нерушима: несмотря на мое двадцатилетнее отсутствие, отъезд Пьерантонио (францисканца в Святой Земле) и Лючии (доминиканки, работавшей в Англии), на нас рассчитывали при устройстве любых семейных торжеств, покупке любого подарка родителям или принятии общего решения, затрагивающего всю семью.
В четверг перед моим отъездом капитан Глаузер-Рёйст вернулся после обеда в казармах швейцарской гвардии со странным металлическим блеском в сероватых глазах. Я упрямо не вылезала из перегруженного подробностями трактата о христианском искусстве VII и VIII века в тщетной надежде найти там упоминание какого-нибудь из наших крестов.
— Доктор Салина, — проговорил он, едва закрыв за собой дверь, — у меня появилась идея.
— Слушаю вас, — ответила я, отстраняя обеими руками нудный фолиант.
— Нам нужна компьютерная программа, которая могла бы сравнить изображение крестов эфиопа со всеми графическими файлами архива и библиотеки.
Я удивленно подняла брови:
— Разве это возможно?
— Отдел информатики архива мог бы это сделать.
Я немного задумалась.
— Не знаю… — нерешительно возразила я. — Это, наверное, очень сложно. Одно дело ввести в компьютер слова и заставить машину искать такой же текст в базах данных, а другое — сравнить два изображения одного предмета, которые могут быть сохранены в файлах разного размера, несовместимого формата, да еще сделаны под разными углами или даже с таким качеством, что программа не сможет их идентифицировать.
Глаузер-Рёйст сочувственно взглянул на меня. Такое впечатление, будто мы вместе поднимаемся по одной лестнице, но этот человек всегда на несколько ступенек выше меня, и, когда он озирается, чтобы на меня взглянуть, ему приходится выкручивать себе шею.
— Поиск изображений проводится не по тем параметрам, о которых вы говорите. — В его голосе звучал оттенок сочувствия. — Разве вы не видели, как в фильмах компьютеры полиции сравнивают фоторобот убийцы с цифровыми фотографиями преступников из картотеки?.. Там используются такие параметры, как расстояние между зрачками, длина рта, соотношение лба, носа и челюсти и т. д. Эти программы поиска преступников используют математические расчеты.
— Очень сомневаюсь, — сердито проговорила я, — что у нашего отдела информатики есть программы поиска преступников. Мы же не полиция, капитан. Мы — сердце католического мира, и в библиотеке и архиве мы работаем только с историей и с искусством.
Глаузер-Рёйст обернулся и снова сжал ручку двери.
— Куда вы? — обиженно спросила я, видя, что он уходит, не дослушав меня.
— Поговорю с префектом Рамондино. Он даст нужные указания отделу информатики.
В пятницу после обеда за мной заехала сестра Кьяра, и мы выехали из Рима по южной трассе. Она ехала на выходные к семье в Неаполь и была рада, что кто-то составит ей компанию; расстояние было небольшим, но всегда легче ехать, если рядом есть кто-то, с кем можно поговорить. В эти выходные из Рима уезжали не только мы с Кьярой. Чтобы исполнить одно из величайших своих желаний, Святейший Отец, найдя силы в слабости, отправлялся в разгар Святого Года в паломничество к святым местам Иордании и Израиля (к горе Небо, в Вифлеем, в Назарет…). То, что тело, находившееся в таком ужасном состоянии, и изнуренный мозг, проблески ясности которого были столь редки, пробуждались и оживали в приближении тяжелой поездки, вызывало настоящее восхищение. Иоанн Павел II был настоящим пилигримом в этом мире; контакт с массами придавал ему сил. Так что в Городе, который я покидала в ту пятницу, кипели последние приготовления и суета.
В Неаполе я села на ночной паром «Тиррения», который доставил меня в Палермо в субботу на рассвете. Погода в ту ночь стояла великолепная, так что я хорошенько укуталась и устроилась в кресле на палубе второго яруса, намереваясь насладиться спокойным плаванием. Воспоминания о прошлом не были моим любимым занятием, однако каждый раз, как я пересекала кусочек моря по направлению к своему дому, мной овладевала гипнотическая греза о проведенных там годах. По правде говоря, в детстве я хотела быть шпионкой: когда мне было восемь, я жалела, что уже нет мировых войн, в которых я могла бы участвовать, как Мата Хари; в десять я мастерила фонарики на пальчиковых батарейках с крохотными лампочками, украденными из электронных игр моих старших братьев, и целыми ночами читала под одеялом сказки и приключенческие романы. Позже, в интернате монахинь Блаженной Девы Марии, в который меня отослали в тринадцать лет, после того побега на лодке с моим другом Вито, я продолжала испытывать своеобразный катарсис от чтения взапой, фантазией преобразовывая мир по моему желанию и превращая его в такой, каким мне хотелось бы его видеть. Действительность для девочки, воспринимавшей жизнь сквозь увеличительное стекло, не была ни приятной, ни радостной. Именно в интернате я впервые прочитала «Исповедь» святого Августина и «Песнь Песней», открыв глубокое сходство между излитыми на их страницах чувствами и моей бурной и впечатлительной внутренней жизнью. Наверное, прочитанные тогда книги и помогли разбудить во мне волнение религиозного призвания, но должно было пройти еще несколько лет и произойти много других событий, прежде чем я принесла обет. Я с улыбкой вспомнила тот незабываемый вечер, когда мать вырвала у меня из рук школьную тетрадку, исписанную приключениями американской шпионки Оттавии Прескотт… Пожалуй, найди она пистолет или журнал с голыми мужчинами, они шокировали бы ее куда меньше: для нее, как и для моего отца и всех остальных Салина, литераторство было занятием бессмысленным, больше подходящим богемным бездельникам, чем девушке из хорошей семьи.
На темном небе царила белая, блестящая луна, и резкий запах моря, доносимый холодным ночным воздухом, стал столь сильным, что я прикрыла рот и нос отворотами пальто, а потом до шеи закуталась в дорожное одеяло. Римская Оттавия, палеограф из Ватикана, оставалась позади, на итальянском берегу, и откуда-то из дальнего уголка возникала Оттавия Салина, никогда и не покидавшая Сицилию. Кто такой капитан Глаузер-Рёйст?.. Какое я имею отношение к какому-то мертвому эфиопу?.. В разгар процесса трансформации я глубоко заснула.
Когда я открыла глаза, небо постепенно озарялось красноватым светом восходящего солнца, а паром бойко входил в Палермский залив. Еще до того, как я спустилась с борта к морскому вокзалу, сворачивая одеяло и подхватывая дорожную сумку, я увидела, как с причала мне ласково машут руки моей старшей сестры Джакомы и моего зятя Доменико… Теперь не оставалось никаких сомнений, что я дома.
Когда я спускалась, на меня с нескрываемым любопытством глазели и моряки с парома, и все остальные пассажиры, и карабинеры на вокзале, и встречавшие у подножия трапа: из-за присутствия Джакомы, самой знаменитой из «новых» Салина, и «скромнейшего» эскорта (двух потрясающих бронированных машин километровой длины с темными стеклами) остаться незамеченной не было никаких шансов.
Сестра сжала меня в объятиях так, что чуть не сломала, а зять нежно похлопывал меня по плечу, в то время как один из людей отца взял мои вещи и загрузил их в багажник.
— Я же сказала, чтобы ты не приезжала меня встречать! — возмущенно шепнула я на ухо Джакоме, которая отпустила меня и теперь непонимающе смотрела в мою сторону, великолепно улыбаясь. У моей сестры, которой недавно исполнилось пятьдесят три, были длинные, черные как уголь волосы и столько краски на лице, как на палитре у Ван Гога. Несмотря на это, она была красива и могла бы быть крайне привлекательной, если бы не лишние двадцать — тридцать килограммов.
— Какая же ты дурочка! — воскликнула она, толкая меня в объятия толстого Доменико, который снова сжал меня. — Ну как ты можешь приехать в Палермо одна и ехать домой на автобусе? Это невозможно!
— Кроме того, — прибавил Доменико, глядя на меня с отеческим упреком, — у нас некоторые проблемы с семейством Шьярра из Катании.
— А что такое случилось со Шьярра? — с беспокойством спросила я. Кончетта Шьярра и ее младшая сестра Дория были в детстве моими подругами. Наши семейства всегда хорошо ладили, и мы часто играли вместе воскресными вечерами. Кончетта была щедрым человеком с открытой душой. После смерти их отца два года назад она взяла на себя управление фирмами Шьярра и, насколько я знаю, поддерживала с нами довольно хорошие отношения. Однако Дория была обратной стороной медали: лукавая, завистливая, эгоистичная, она всегда искала способ свалить вину за свои дурные поступки на других, а по отношению ко мне еще с детства испытывала слепую зависть, из-за которой воровала у меня игрушки и книги или рвала их все без всякого сожаления.
— Они наводняют наши рынки более дешевыми товарами, — невозмутимо объяснила мне сестра. — Непонятная грязная война.
Я онемела. Настолько серьезные действия были похожи только на презренную провокацию, сделанную в тот момент, когда мой отец, которому было уже почти восемьдесят пять, неизбежно сдал. Но добрая Кончетта должна была знать, что, как ни ослаблен Джузеппе Салина, его дети никогда не позволят ничего подобного.
Мы выехали с причала на полной скорости, не затормозив перед красным светофором, горевшим на перекрестке с улицей Франческо Криспи, по которой мы поехали направо, в сторону Ла-Кала. На улице Витторио Эмануэле мы тоже не очень-то обратили внимание на знаки, но причин для беспокойства не было: у трех наших машин благодаря их принадлежности семейству Салина было полное преимущество на любом перекрестке и абсолютная безнаказанность перед знаками «Стоп». Мы оставили слева Дворец нормандцев, выехали из города по улице Калатафими и в нескольких километрах от Монреале, посреди долины Конка д’Ор, покрытой прекрасной зеленью и ранними цветами, первый автомобиль резко свернул направо, на частную дорогу, которая вела прямо к нашему дому, старинному, монументальному строению — вилле «Салина», сооруженному в конце XIX века моим прадедом Джузеппе.
— Пока ты приведешь себя в порядок и разложишь по местам вещи, — сказала мне сестра, приглаживая обеими руками черные волосы, — мы с Доменико съездим в аэропорт за Лючией, она прилетает в десять.
— А Пьерантонио?
— Прилетел из Святой Земли вчера вечером! — с восторгом провозгласила Джакома.
Я широко улыбнулась, счастливая, как ящерица на солнце. Подтвердившееся только в последний момент присутствие Пьерантонио превращало семейную встречу в великолепный праздник. Я уже два года не видела брата, самого доброго и ласкового человека в мире, с которым, по словам всей семьи, нас объединяло не только поразительное внешнее сходство, но и родство нравов и характеров, сделавшее нас неразлучными на всю жизнь. Пьерантонио вступил во францисканский орден в двадцать пять лет, когда мне было пятнадцать, после того, как блестяще окончил университет и получил диплом археолога, а на следующий год его отослали в Святую Землю, сначала на Родос, в Грецию, а потом на Кипр, в Египет, в Иорданию и, наконец, в Иерусалим, где он получил в 1998 году должность кустода Святой Земли, основанную в 1342 году Папой Климентом VI, чтобы обеспечивать присутствие католической церкви в Святых Местах после окончательного поражения крестоносцев. Так что мой брат Пьерантонио был очень важной фигурой в христианском мире Востока, и за ним следовал этот особый запах вызывающих полемику святых людей.
— Вот мама, наверное, рада! — восторженно воскликнула я, выглядывая в окошко.
За последнее время старый четырехэтажный дом, защищенный железными решетками и высокими бетонными стенами, очень изменился: множество видеокамер, расставленных по периметру забора, отслеживали любое движение в округе, а домики охранников, которые во времена моего детства были просто деревянными ящиками-развалюхами с камышовыми стульями в середине, превратились в настоящие контрольные пункты по обе стороны раздвижных ворот, снабженные компьютерами с дистанционным контролем за всеми охранными устройствами и сигнализацией.
Люди отца немного склонили головы, пропуская нашу машину, и я не удержалась от радостного возгласа, увидев среди них Вито, моего старого друга детства.
— Это Вито! — крикнула я, лихорадочно махая рукой через заднее стекло. Вито робко, почти незаметно мне улыбнулся.
— Он только вышел из «Джудициарие»[2], — усмехнулся Доменико, поправляя пиджак на животе. — Твой отец очень рад его возвращению.
Машина наконец остановилась перед дверью дома. Моя мать, как обычно, с ног до головы одетая в черное, ждала нас на верхней ступеньке, опершись на свою вечную серебряную палку. Семьдесят пять лет, обременявшие плечи этой знатной сицилийской дамы, младшей из дочерей семейства Цафферано, ни на йоту не повлияли на ее гордую осанку.
Я вприпрыжку поднялась по лестнице и прижалась к матери так, будто не видела ее со дня рождения. Я очень скучала по ней и по-детски обрадовалась, увидев, что она чудесно выглядит, убедившись, что ее поцелуи все так же крепки, а тело, как всегда, сильно и энергично. Слава Богу, подумала я с комком в горле, что с ней ничего не случилось в мое отсутствие. Она с улыбкой чуть отстранилась, чтобы внимательно меня рассмотреть.
— Моя крошка Оттавия! — Ее лицо светилось радостью. — Ты замечательно выглядишь! Ты уже знаешь, что приехал твой брат Пьерантонио? Он очень хочет тебя увидеть! Вы оба должны мне многое рассказать. — Она положила мне руку на плечо и мягко, но живо подтолкнула меня в дом. — Как себя чувствует Святой Отец? Как его здоровье?
Остаток дня прошел во встречах с бесконечной чередой родственников: Джузеппе, старший брат, жил на вилле вместе со своей женой Розалией и четырьмя детьми; у Джакомы и Доменико, которые тоже жили на вилле вместе с родителями, было пятеро детей, и все они съехались из университета в Мессине и интернатов, где они учились. Третий брат, Чезаре, был женат на Летиции, и у него было еще четверо тех еще штучек, которые, к счастью, жили в Агридженто. Пьерлуиджи, пятый, приехал вечером вместе с женой Ливией и пятью детьми. Седьмой, Сальваторе, который шел передо мной, был единственным, кто развелся с женой, но и он появился вечером с троими из своих четверых детей. И наконец, Агеда, самая младшая, которой было уже тридцать восемь, приехала со своим мужем Антонио и с тремя детишками, младшей из которых была моя любимица, пятилетняя Изабелла.
Мы с Пьерантонио и Лючией дали монашеский обет. Сравнение надежд, которые наша мать возлагала на каждого из детей, и жизненного пути, который мы позднее выбрали, всегда вызывало у меня некоторое беспокойство. Похоже было, что Бог наделил матерей даром предвидения для того, чтобы предугадать, что произойдет, или, и это тревожило меня намного больше, Он подгоняет свои планы к желаниям матерей. Каким-то таинственным образом мы с Пьерантонио и Лючией принесли обет, как этого всегда желала наша мать; я до сих пор помню, как она говорила с моим братом, когда ему было семнадцать или восемнадцать лет: «Ты даже представить не можешь, как я была бы горда видеть тебя священником, хорошим священником, и ты мог бы стать им, потому что твой характер замечательно подходит для того, чтобы твердой рукой руководить как минимум епархией», или как причесывала красивые светлые волосы Лючии и нашептывала ей на ухо: «Ты слишком умна и самостоятельна, чтобы подчиниться мужу; тебе брак ни к чему. Я уверена, что ты будешь намного более счастлива, если будешь как монахини у тебя в школе: путешествия, учеба, свобода, хорошие подруги…» И что уж говорить о том, что она приговаривала мне: «Из всех моих детей, Оттавия, ты — самая талантливая, самая гордая… У тебя такой своеобразный, такой сильный характер, что только Бог способен сделать из тебя такого человека, каким я хотела бы тебя видеть». Все это она повторяла настойчиво и убежденно, словно пророчащая будущее сивилла. На удивление, то же самое произошло и с остальными моими братьями и сестрами: их занятия, дипломы, браки, как перчатка, соответствовали материнским предсказаниям.
Весь день я не спускала Изабеллу с рук и ходила туда-сюда по дому, разговаривая с членами моей большой семьи и здороваясь с дядьями, двоюродными братьями и сестрами и знакомыми, которые приходили к нам заранее поздравить моего отца и принести ему подарки. Людей собралось столько, что мне едва удалось обнять и поцеловать его, и я тут же снова потеряла его из виду. Помню только, что отец, на лице которого лежала печать бесконечной усталости, с гордостью посмотрел на меня, шершавой рукой погладил мою щеку, и его снова унесла живая волна. Это было больше похоже на ярмарку, чем на дом.
В конце дня от веса Изабеллы, которая даже из сострадания не захотела слезть с моей шеи, у меня ужасно болела спина. Как только я собиралась поставить ее на пол, она поджимала ноги и обхватывала меня ими, как обезьянка. Когда пришла пора готовить ужин, все женщины отправились на кухню, чтобы помочь служанкам, а мужчины собрались в большой гостиной, чтобы обсудить семейные дела и вопросы бизнеса. Так что я не удивилась, увидев вскоре среди кастрюль и сковород высокую фигуру моего брата Пьерантонио. Я не могла не отметить, что его движения и походка были чем-то похожи на элегантные манеры монсеньора Турнье, архиепископа-секретаря второй секции государственного секретариата. Конечно, между ними было море различий: для начала, один из них был моим любимым братом, а другой нет, но, несомненно, их роднила привычка шагать по жизни в полной уверенности в себе и в своей харизме.
Разумеется, мать глаз с него не сводила, когда он к ней подошел.
— Мама, — поцеловав ее в щеку, сказал Пьерантонио, — позволь, я ненадолго уведу Оттавию. Мне очень хотелось бы погулять с ней до ужина по саду и поговорить.
— А меня никто не спрашивает? — откликнулась я с другого конца кухни, опытной рукой поджаривая овощи на сковородке. — Может быть, я не хочу.
Мать улыбнулась.
— Молчи, молчи! Как это не хочешь! — пошутила она, будто вовсе немыслимо, что мне не захочется выйти погулять с родным братом.
— А на всех остальных плевать, да?! — возмутились Джакома, Лючия и Агеда.
Пьерантонио, подлащиваясь, поцеловал каждую из них в щеку, а потом щелкнул пальцами, будто подзывая в баре официанта:
— Оттавия… идем.
Мария, одна из кухарок, забрала у меня сковородку. Они все сговорились.
— В жизни не видывала, — начала я, снимая передник и оставляя его на кухонной скамейке, — менее смиренного монаха-францисканца, чем отец Салина.
— Кустода, сестра… — ответил он, — кустода Святой Земли.
— Сама скромность! — расхохоталась Джакома, и все остальные рассмеялись вслед за ней.
Если бы я могла посмотреть на свою семью со стороны, как простой зритель, среди прочих странностей мое внимание непременно привлекло бы то обожание, с которым относились к Пьерантонио все женщины Салина. Никогда ни у кого не было такого количества медоточивых, пламенных и покорных поклонниц. Малейшие желания божества по имени Пьерантонио удовлетворялись с рвением, достойным греческих вакханок, а он, зная это, наслаждался, как ребенок, изображая капризного Диониса. Виновата во всем, конечно, была наша мать, которая, как инфекцию, передала нам слепое поклонение своему любимому сыну. Как могли мы не удовлетворять любое желание маленького божества, если он в ответ дарил нам поцелуи и ребячьи шалости?.. Ведь так мало нужно было, чтобы его осчастливить!
Божество взяло меня за талию, и мы вышли на задний двор и направились к садовой калитке.
— Рассказывай! — жизнерадостно воскликнул он, как только мы ступили на окружавшую дом зеленую траву.
— Ты рассказывай, — ответила я, глядя на него. У него были большие залысины и густейшие брови, которые придавали ему дикий вид. — Как это важный кустод Святой Земли покидает свой пост как раз перед прибытием в Иерусалим Святого Отца?
— Черт, ты стреляешь прямо в яблочко! — засмеялся он, обнимая меня за плечи.
— Я счастлива, что ты смог приехать, — пояснила я, — ты же знаешь, но меня очень удивляет, что ты это сделал: Его Святейшество завтра выезжает в твои владения.
Он рассеянно взглянул на небо, притворяясь, что все это не имеет никакого значения, но, хорошо зная его, я видела, что это означает как раз противоположное.
— Ну, ты же знаешь… Не всегда все обстоит так, как кажется.
— Послушай, Пьерантонио, может, ты можешь обмануть своих монахов, но меня не обманешь.
Все еще глядя в небо, он улыбнулся.
— Да что же это!.. Расскажешь ты наконец, почему почтеннейший кустод Святой Земли уезжает оттуда, когда вот-вот приедет Святой Понтифик? — настойчиво спросила я, не дожидаясь, пока он начнет говорить мне о прекрасных звездах.
Лицо божества снова обрело живое выражение.
— Не могу же я рассказать работающей в Ватикане монахине о проблемах францисканского ордена с высокопоставленными римскими прелатами.
— Ты же знаешь, что я всегда сижу взаперти в своей лаборатории. Кому я могу рассказать об этих проблемах?
— Папе?..
— Да, конечно! — резко остановившись посреди сада, выкрикнула я.
— Кардиналу Ратцингеру?.. — промурлыкал он. — Кардиналу Содано?..
— Да ну, Пьерантонио!
Но что-то он, похоже, заметил у меня на лице, когда упомянул кардинала — государственного секретаря, потому что широко раскрыл глаза и лукаво выгнул брови:
— Оттавия… ты знакома с Содано?
— Меня познакомили с ним несколько недель назад… — уклончиво призналась я.
Он взял меня за подбородок, поднял мое лицо и прижался своим носом к моему.
— Оттавия, крошка Оттавия… Почему ты ходишь к Анджело Содано, а? Я чую тут что-то интересное, а ты не хочешь мне рассказывать.
«Как плохо, что мы слишком хорошо знаем друг друга!» — подумала я в эту минуту, и как плохо быть предпоследним ребенком в семье, где полно старших братьев с большим опытом манипулирования людьми и их использования.
— Ты же тоже не рассказал мне, какие у вас, францисканцев, проблемы с Его Святейшеством, а я-то тебя просила, — выкрутилась я.
— Давай договоримся, — с радостью предложил он, беря меня за локоть и снова пускаясь в путь. — Я расскажу тебе, почему я приехал, а ты мне расскажешь, откуда ты знаешь всемогущего государственного секретаря.
— Не могу.
— Конечно, можешь! — весело зашумел он, как ребенок, получивший новые ботинки. Кто бы подумал, что этому эксплуататору младших сестер уже пятьдесят лет! — Под тайной исповеди. Там в часовне у меня есть облачение. Пойдем.
— Послушай, Пьерантонио, все очень серьезно и…
— Замечательно, это здорово, что все серьезно!
Больше всего меня злило то, что я сама себя выдала, что только притворись я чуть получше, я не оказалась бы в таком положении. Именно я подняла зайца для этой прилипчивой, неутомимой легавой, и чем больше я мучилась, тем больше росло его любопытство. Так вот, с этим покончено!
— Хватит уже, Пьерантонио, в самом деле. Я ничего не могу тебе рассказать. Ты-то как раз должен понимать это лучше всех.
Мой голос, наверное, прозвучал очень строго, потому что я заметила, что он отказался от своих намерений и резко изменил тон.
— Ты права… — согласился он сокрушенно. — Есть вещи, о которых рассказывать нельзя… Но никогда не думал, что моя сестра замешана в темные дела ватиканских властей!
— Я и не замешана, просто они воспользовались моими услугами для необычного расследования. Что-то очень странное, не знаю… — задумчиво пробормотала я, пощипывая нижнюю губу большим и указательным пальцами. — Я вся в растерянности.
— Какой-то странный документ?.. Таинственная рукопись?.. Какой-то постыдный секрет из прошлого церкви?..
— Если бы! Этого я уже навидалась. Нет, это что-то гораздо более непривычное, и хуже всего то, что от меня утаивают нужную мне информацию.
Мой брат остановился и с решимостью посмотрел на меня.
— Так переступи через них.
— Не понимаю, — сказала я, тоже останавливаясь и сбивая концом ботинка жучка с травинки.
К вечеру стало прохладно. Скоро в саду зажгут фонари.
— Просто переступи. Они же хотят чуда? Вот и дай им его. Знаешь, у меня в Иерусалиме масса проблем, больше, чем ты себе можешь представить. — Он снова медленно зашагал, и я пошла за ним. Внезапно мой брат больше чем когда-либо напоминал важного главу державы, на которого давит тяжесть полномочий. — Святой Престол поручил нам, францисканцам Святой Земли, много разных и сложных заданий: от восстановления католического культа в Святых Местах до заботы о паломниках, не говоря уже о поддержке библейских исследований и об археологических раскопках. У нас есть школы, больницы, амбулатории, дома престарелых, а сверх всего — сама функция кустода, которая влечет за собой множество политических конфликтов с нашими соседями других конфессий. Знаешь, какова моя главная проблема в данный момент?.. Святая Трапезная, где Иисус учредил Евхаристию. Сейчас это мечеть, и находится она в ведении израильских властей. И вот, Ватикан постоянно давит на меня, чтобы я договорился о ее выкупе. А деньги они мне дают?.. Нет! — сердито воскликнул он; щеки и лоб его начали сильно краснеть. — Сейчас у меня в Палестине и Израиле, в Иордании, Сирии, Ливане, Египте, на Кипре и на Родосе работают триста двадцать монахов из тридцати шести разных стран, и не забывай, что Святая Земля — это зона конфликтов, где борьба ведется с помощью автоматов, бомб и отвратительных политических маневров. Как мне содержать всю эту кухню духовной, культурной и социальной работы?.. Думаешь, мне может помочь мой орден, у которого нет за душой ни лиры? Или думаешь, что твой богатейший Ватикан мне что-то дает?.. Ничего, никто мне ничего не дает! Святой Отец направил деньги церкви, миллионы и миллионы, полученные из-под полы, через подставных лиц, фальшивые фирмы и банковские переводы в оффшорные зоны, чтобы поддержать польский профсоюз «Солидарность» и свергнуть коммунизм в своей стране. Как ты думаешь, сколько лир он дает нам в обмен за то, что требует, а?.. Ни одной! Ничего! Ноль!
— Это не совсем верно, Пьерантонио, — с горечью проговорила я. — Каждый год церковь во всем мире собирает для вас пожертвования.
Он взглянул на меня горящими от гнева глазами.
— Не смеши меня! — презрительно бросил он, повернулся ко мне спиной и зашагал назад к дому.
— Ладно, но по крайней мере объясни мне, как я могу получить нужную мне информацию, — взмолилась я ему вслед, пока он удалялся гигантскими шагами.
— Будь умнее, Оттавия! — не оборачиваясь, воскликнул он. — Сегодня в мире есть масса способов добиться желаемого. Нужно только расставить приоритеты, решить, что важно, а что нет. Подумай, насколько ты готова проявить непослушание или действовать самостоятельно, в обход своего начальства и даже… — он поколебался, — и даже переступая через то, что подсказывает тебе собственная совесть.
В голосе моего брата звучала глубокая горечь, словно ему приходится все время жить с невыносимым грузом сознания, что он действует против указаний собственной совести. Я задумалась, смогла ли бы я, хватило ли бы мне смелости для того, чтобы нарушить полученные приказы и самостоятельно раздобыть нужную мне информацию. Но еще не сформулировав до конца вопрос, я уже знала ответ: да, конечно, да, но как?
— Я готова, — заявила я посреди сада. Мне не помешало бы вспомнить крылатую фразу: «Будь осторожнее с желаниями, они могут сбыться». Но я этого не сделала.
Брат вернулся.
— Что тебе нужно? — воскликнул он. — Что ты ищешь?
— Информацию.
— Так купи ее! А если не можешь купить, раздобудь ее сама!
— Как? — растерянно спросила я.
— Ищи, разнюхивай, допытывайся у тех, у кого она есть, расспрашивай их с умом, ищи в архивах, в ящиках, в корзинах для бумаг, обыскивай кабинеты, компьютеры, мусор… Если это необходимо, стащи ее!
Я провела очень беспокойную ночь без сна, беспрестанно ворочаясь в своей старой постели. Рядом со мной без задних ног спала Лючия, тихонько похрапывая в блаженном забытьи. Слова Пьерантонио бились у меня в голове, и я не представляла, как на практике воплотить все те ужасные вещи, которые он мне насоветовал: как с умом расспросить кремниевую скалу Глаузер-Рёйста? Как обыскать кабинеты государственного секретаря или архиепископа монсеньора Турнье? Как залезть в ватиканские компьютеры, не имея ни малейшего понятия о том, как работают эти проклятые машины?
Совершенно вымотавшись, я заснула, когда сквозь жалюзи на окнах уже начал проникать свет. Помню только, что мне приснился Пьерантонио и что сон был не из приятных, так что я была бесконечно рада увидеть на следующее утро, как он, свежий и бодрый, с еще мокрыми после душа волосами, служил мессу в домовой часовне.
Мой отец-именинник вместе с матерью сидел на первой скамье. Я видела их спины (спина отца была намного более согнутой и неуверенной) и почувствовала гордость за них, за большую семью, которую они основали, за любовь, которой они наделили своих девятерых детей, а теперь дарили ее и своим многочисленным внукам. Я смотрела на них и думала, что они прожили всю жизнь вместе, конечно, разделяя неприятности и проблемы, но пребывая неделимыми в своем единстве, неразлучными.
Выйдя с мессы, самые младшие, устав от неподвижности во время церемонии, пошли играть в сад, а все остальные отправились в дом завтракать. В уголке длинного стола, образовав отдельную от взрослых группку, сидели мои старшие племянники. Как только мне представилась такая возможность, я взяла за шкирку Стефано, четвертого из сыновей Джакомы и Доменико, и утащила его в угол:
— Ты ведь учишь информатику, Стефано?
— Да, тетя. — Парень смотрел на меня с некоторым беспокойством, словно его тетя вдруг сошла с ума и может пырнуть его ножом в живот. Почему подростки такие странные?
— И в твоей комнате есть подключенный к интернету компьютер?
— Да, тетя, — теперь он с гордостью улыбался, с облегчением убедившись, что тетя не собирается его убивать.
— Ну, тогда мне нужно попросить тебя об одолжении…
Мы со Стефано провели в его комнате все утро, прилипнув носами к монитору и потягивая «кока-колу». Он был разумным парнем, свободно чувствовал себя в сети и замечательно управлялся с поисковыми системами. К обеду, отблагодарив племянника за чудесную работу с помощью кругленькой суммы (разве не сказал мне Пьерантонио купить информацию?), я знала, кем был мой эфиоп, как он погиб и почему расследованием занимались христианские церкви. И все это было настолько серьезно, что, спускаясь по лестнице, я не могла унять дрожь в ногах.
В понедельник ночью я вернулась в Рим, охваченная растерянностью и страхом. Я сделала то, чего никогда от себя не ожидала: я ослушалась, разыскала важную информацию не очень правильными методами и вопреки желанию церкви. Я чувствовала себя крайне неуверенно, мне было страшно, словно за мой дурной поступок молния божественного гнева может испепелить меня с минуты на минуту. Следовать нормам всегда намного легче: не нужно угрызений совести и ощущения вины, не возникает неуверенности, и, кроме всего прочего, ты можешь гордиться сделанным. Я не испытывала никакого удовлетворения от моей презренной работы ищейки и, уж конечно, никакого удовлетворения собой. Я волновалась и не знала, как смогу говорить с Глаузер-Рёйстом. Я была уверена, что у меня на лбу будет написано, что я провинилась.
В ту ночь я молилась, прося утешения и прощения. Я бы что угодно отдала, чтобы забыть то, что я знала, и иметь возможность вернуться в тот момент, когда я сказала Пьерантонио: «Я готова», чтобы просто переделать эту фразу и снова обрести внутренний мир. Но это было невозможно… Когда на следующее утро я закрыла дверь лаборатории и увидела печальный силуэт, наклеенный скотчем на дверь и покрытый рисунками и каракулями фломастером, я против собственной воли вспомнила имя эфиопа: Аби-Рудж Иясус… Бедный Аби-Рудж, подумала я, медленно направляясь к столу, на котором лежали ужасные фотографии его изуродованного тела, он погиб страшной смертью, такой никто не пожелает, хотя она, несомненно, сопоставима с грандиозностью его прегрешения.
Направив указательные пальцы на клавиатуру компьютера, мой племянник Стефано, на глаза которому спадали две темные пряди волос, спросил меня: «Что тебе нужно найти, тетя Оттавия?», а я ответила: «Аварии… какую-то аварию, в которой погиб молодой эфиоп». — «Когда это было?» — «Не знаю». — «А где это случилось?» — «Тоже не знаю». — «Значит, ты ничего не знаешь». — «Вот именно», — ответила я, беспомощно пожимая плечами. И, исходя из этих данных, он начал с головокружительной скоростью просматривать тысячи документов. Он запустил сразу несколько окон с разными поисковиками: «Вергилий», «Яху Италия», «Гугл», «Ликос», «Догпайл»… В поисковой строке он задал слова «авария» и «эфиоп», хотя, ориентируясь на огромное количество страниц и информации на английском, он написал их также на этом языке: «accident» и «Ethiopian». В компьютер Стефано стали сразу же поступать тысячи документов, которые он, однако, так же быстро забраковывал, убедившись, что авария никак не связана с эфиопом, который по какой-то другой причине упоминался тремя строками ниже, или что эфиопу было восемьдесят лет, или что и происшествие, и эфиоп относились к эпохе Александра Великого. Тем не менее те страницы, которые казались как-то связанными с тем, что я искала, он сохранял в папку, виртуальную, конечно, которую назвал «Тетя Оттавия».
За моей спиной дверь лаборатории открылась и мягко закрылась.
— Доброе утро, доктор.
— Доброе утро, капитан, — не оборачиваясь, сказала я. Я не могла отвести глаз от бедного Аби-Руджа.
Стефано отключился от интернета незадолго до обеда, и мы начали просеивать собранную информацию. После первой чистки у нас не осталось ни одного документа на итальянском; после второй, чрезвычайно тщательной и скрупулезной, мы наконец получили то, что искали. Это были пять статей, опубликованные между средой, 16 февраля, и воскресеньем, 20 февраля этого года: английское издание греческой газеты «Кафимерини», бюллетень Афинского агентства новостей и три эфиопские публикации под названием «Пресс Дайджест», «Эфиопиан Ньюс Хедлайнз» и «Аддис Трибьюн».
Вкратце история была такова: во вторник, 15 февраля, взятый напрокат самолет «Сессна-182» в 21:35 врезался в гору Хелмос (Ορος Ωελμος) на Пелопоннесе. Погибли как пилот, двадцатитрехлетний грек, который только что получил лицензию, так и пассажир, эфиоп по имени Аби-Рудж Иясус, тридцати пяти лет. Согласно переданному руководству аэропорта Александруполи на севере Греции плану полета, самолет направлялся на аэродром Каламата на Пелопоннесе, куда рассчитывал приземлиться в 21:45. За десять минут до назначенного времени без всяких сигналов бедствия пролетающий на высоте 2355 метров над лесистой горой Хелмос самолет резко снизился до 2000 футов и исчез с радаров. По сигналу диспетчеров к месту поспешили пожарники из ближайшего городка Кертази, которые нашли еще дымящиеся обломки самолета, разбросанные в радиусе километра, и мертвых пилота и пассажира, висящих на одном из деревьев. Эта информация содержалась в основном в греческих газетах, которые сообщали о происшествии по данным своих местных корреспондентов. В «Кафимерини» также был помещен очень нечеткий снимок, на котором можно было увидеть Аби-Руджа на носилках. Несмотря на то что узнать его было очень трудно, у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он: его образ врезался мне в память, столько раз я снова и снова рассматривала фотографии его вскрытия. Корреспондент Афинского агентства новостей давал более подробную информацию и описывал смертельные раны обоих мужчин, которые, в случае пассажира, соответствовали ранам моего эфиопа. Похоже, скрытые одеждой шрамы остались для репортеров незамеченными.
— У меня хорошие новости, доктор Салина.
— Вот как?.. Что же, рассказывайте, — без особого интереса откликнулась я.
Однако мое внимание как магнит привлекла одна фраза, затерянная в заметке Афинского агентства новостей: пожарники нашли на земле, у ног тела Иясуса, словно выпавшую у него из рук при последнем вздохе красивую серебряную шкатулку, которая от удара открылась, и из нее выпали странные кусочки дерева.
Эфиопские газеты, напротив, об аварии едва упоминали, не приводя никаких подробностей, а ограничивались адресованной к читателям просьбой помочь найти родных Аби-Руджа Иясуса из народности оромо, пастухов и земледельцев из центральных народов Эфиопии. Они обращали свою просьбу в особенности к руководителям лагерей беженцев (в стране свирепствовал ужасный голод), а также, и это было самым примечательным, к религиозным властям Эфиопии, поскольку у погибшего были найдены «очень святые и ценные реликвии».
— Пожалуй, вам стоит обернуться и посмотреть на то, что я вам показываю, — не унимался капитан.
Я неохотно обернулась, с трудом выходя из глубокой задумчивости, и увидела капитальную фигуру швейцарца, на лице которого (о чудо!) красовалась широчайшая улыбка, протягивающего мне в вытянутой руке фотографию большого размера. Я взяла ее со всем безразличием, на которое была способна, и презрительно взглянула. Однако в тот же миг выражение моего лица изменилось, и я удивленно вскрикнула. На фотографии виднелся ярко освещенный солнечным светом фрагмент стены из красноватого гранита, на котором находились рельефные изображения двух маленьких крестов в прямоугольных рамках, увенчанных лучистыми коронами с семью зубцами.
— Наши кресты! — с восторгом воскликнула я.
— Пять мощнейших компьютеров Ватикана без перерыва работали четыре дня, чтобы в конце концов обнаружить то, что находится сейчас у вас в руке.
— И что это находится у меня в руке? — Я была бы готова запрыгать от радости, если бы не сознание, что в моем возрасте это произведет ужасное впечатление. — Скажите же, капитан! Что у меня в руке?
— Фотография фрагмента юго-западной стены православного монастыря Святой Екатерины на Синае.
Глаузер-Рёйст был доволен не меньше моего. Он открыто улыбался, и, хотя его тело ни на миллиметр не двигалось и было таким же застывшим, как обычно (руки в карманах брюк, борта красивого пиджака цвета морской волны откинуты назад), на его лице была написана такая радость, которую я не могла даже ожидать от такого человека, как он.
— Святая Екатерина на Синае? — удивилась я. — Монастырь Святой Екатерины на Синае?
— Именно, — подтвердил он. — Монастырь Святой Екатерины на Синае. В Египте.
Я не могла поверить своим ушам. Монастырь Святой Екатерины был священным местом для любого палеографа. После ватиканской его библиотека была самой недоступной, имела самую большую коллекцию древних свитков в мире и так же скрывалась от чужаков за облаком тайны.
— Какое же отношение имеет монастырь Святой Екатерины на Синае к эфиопу? — удивленно спросила я.
— Понятия не имею. Честно говоря, я рассчитывал, что именно этим вопросом мы сегодня и займемся.
— Что ж, тогда за работу, — подхватила я, водружая на переносицу очки.
В фондах ватиканской библиотеки находилось огромное количество книг, мемуаров, сборников и трактатов об этом монастыре. Тем не менее большинство людей не имели даже отдаленного понятия о существовании такого важного места, как этот православный храм, находящийся у подножия горы Синай, в самом сердце египетской пустыни, в окружении священных вершин, и построенный вокруг места, не имеющего себе равных по религиозному значению: места, где Яхве явился Моисею в образе Неопалимой Купины.
История монастыря снова свела нас со старыми знакомыми: в IV веке нашей эры, в 337 году, императрица Елена, мать императора Константина (с кем связана одноименная христограмма или хрисмон), повелела построить в этой долине прекрасное святилище, потому что многие христиане начали отправляться туда в паломничество. Среди этих первых христиан была знаменитая Эгерия, монахиня из Галисии, которая совершила длительное путешествие по Святой Земле от Пасхи 381-го до Пасхи 384 года, которое мастерски описала в своем «Путешествии». Эгерия рассказывает, что в том месте, где позже возвели монастырь Святой Екатерины на Синае, группа отшельников присматривала за небольшим храмом, под апсидой которого скрывался еще живой священный Куст. Проблема отшельников заключалась в том, что место это было на пути, связывавшем Александрию с Иерусалимом, и на них постоянно нападали жестокие кочевники из пустыни. Поэтому два века спустя император Юстиниан и его супруга императрица Феодора наняли византийского архитектора Стефаноса Айлисиоса для постройки в том месте крепости для защиты святого монастыря. Согласно последним исследованиям, на протяжении веков стены укреплялись, а многие их части даже перестраивались, так что от первоначальной постройки осталась только юго-западная стена, украшенная любопытными крестами, воспроизведенными на коже нашего эфиопа, а также древнее святилище, построенное по приказу святой Елены, матери Константина, и отремонтированное и подправленное Стефаносом Айлисиосом в VI веке. И в таком виде монастырь и остался с тех пор, восхищая и поражая эрудитов и паломников.
В 1844 году в библиотеку монастыря допустили немецкого исследователя, и он обнаружил там знаменитейший Синайский кодекс, самую древнюю известную полную копию Нового Завета, датированную ни много ни мало IV веком. Конечно, этот немецкий исследователь, некий Тишендорф, кодекс украл и продал его Британскому музею, где он и находится с тех пор и где я имела возможность жадно лицезреть его несколько лет назад. И я говорю, что лицезрела его жадно, потому что в то время в моих руках находился его возможный близнец, Ватиканский кодекс того же века и, возможно, того же источника. Параллельное изучение обоих кодексов позволило бы мне провести одно из важнейших палеографических исследований за всю историю. Но это было невозможно.
К концу дня у нас была обширная и интереснейшая подборка документов о любопытном православном монастыре, но мы все еще не выяснили, какая связь может существовать между шрамами нашего эфиопа тридцати с небольшим лет и юго-западной стеной монастыря Святой Екатерины, возведенной в VI веке.
Мой мозг, привыкший быстро синтезировать информацию и добывать важные данные из любой путаницы документов, уже создал сложную теорию на основе повторяющихся элементов этой истории. Однако поскольку предполагалось, что основная ее часть мне неизвестна, я не могла поделиться своими мыслями с капитаном Глаузер-Рёйстом, хотя мне хотелось бы знать, пришел ли он к таким же заключениям. Я сгорала от желания задавить его моими выводами и доказать, кто тут самый умный и самый толковый. На следующей исповеди отцу Пинтонелло придется наложить на меня очень суровое покаяние за гордыню.
— Чудесно, все закончено! — вырвалось у Глаузер-Рёйста в конце вечера, когда он захлопнул лежавший перед ним толстый том по архитектуре.
— Что закончено? — поинтересовалась я.
— Наша работа, доктор, — заявил он. — Все.
— Все? — пробормотала я, выпучив глаза от удивления. Я, конечно, знала, что рано или поздно моя роль в этой истории кончится, но мне ни на секунду не приходило в голову, что в такой интересный момент нашего исследования меня одним махом выбросят из игры.
Глаузер-Рёйст посмотрел на меня с тем скудным сочувствием и пониманием, на которые была способна его каменная природа, будто между нами за эти двадцать дней выросли таинственные нити доверия и товарищества, о которых я не подозревала.
— Мы закончили порученную вам работу, доктор. Больше вы ничего не можете сделать.
Я была так растеряна, что не могла вымолвить ни слова. В горле у меня образовался комок, мало-помалу разраставшийся так, что я не могла дышать. Глаузер-Рёйст внимательно смотрел на меня. Я знала, что он видит, как я бледнею до невозможного, и через секунду решит, что я падаю в обморок.
— Доктор Салина, — вымолвил сбитый с толку швейцарец, — с вами все в порядке?
Со мной было все в порядке. Просто мой мозг работал на полную катушку, и остатки энергии и крови моего парализованного организма были сосредоточены в серой массе, которая готовилась к броску к цели.
— Как это я ничего больше не могу сделать?
— Простите, доктор, — пробормотал он. — Вы получили задание, и мы его уже выполнили.
Я открыла глаза и решительно взглянула на него:
— Почему вы отстраняете меня, капитан?
— Монсеньор Турнье уже сказал вам это, доктор, еще до начала работы… Разве вы не помните? Ваши палеографические знания были необходимы, чтобы разобраться в знаках на теле эфиопа, но это только малая часть текущего расследования, охвата которого вы даже не можете себе представить. Я ничего не могу рассказать вам, доктор, но, хоть я и сожалею, вам придется оставить это исследование и вернуться к своей обычной работе, постаравшись забыть то, что произошло за последние двадцать дней.
Ладно. Играем в «или пан, или пропал». Конечно, это рискованно, но когда сталкиваешься с такой могущественной и непоколебимой иерархической структурой, как католическая церковь, то или спасаешься, или попадаешь на арену цирка ко львам.
— Капитан, осознаете ли вы, — четко проговорила я, чтобы он не упустил ни малейшего слова, — что Аби-Рудж Иясус, наш эфиоп, не более чем маленький винтик в большой машине, которая по какой-то причине была запущена в ход, чтобы выкрасть священные реликвии Креста Господня? Вы понимаете, капитан, — Господи, как подталкивало меня отчаяние так чеканить слова! Я походила на древнего актера греческого театра, обращавшегося к богам, — что за всем этим может стоять только религиозная секта, которая считает себя наследницей традиций, уходящих корнями в эпоху зарождения Восточно-Римской империи, Византии и к императору Константину, мать которого, святая Елена, не только приказала возвести базилику Святой Екатерины на Синае, но и отыскала истинный Крест Господень в 326 году?
Серые глаза Глаузер-Рёйста и его побледневшее лицо, обрамленное светлыми металлическими отблесками волос на голове и челюсти, как никогда походили на свирепые беломраморные лица Геркулеса, которые выставлены в Капитолийских музеях в палаццо Нуово в Риме. Но я не давала ему передохнуть.
— Вы понимаете, капитан, что на теле Аби-Руджа Иясуса мы нашли семь греческих букв, ΣΤΑΥΡΟΣ, означающих «крест», семь крестов разных типов, которые воспроизводят рисунки с юго-западной стены монастыря Святой Екатерины на Синае, и что каждый из этих крестов увенчан зубчатой короной с семью лучами?.. Вы понимаете, что у Аби-Руджа в момент смерти были при себе важные реликвии Честного Креста Господня?
— Хватит!
Если бы он мог убить меня взглядом, он бы испепелил меня в ту же секунду. Сыпавшиеся из его стальных, свинцовых глаз искры летели в меня, как горящие стрелы.
— Откуда вы все это узнали? — закричал он, вставая на ноги и угрожающе приближаясь ко мне. Он и в самом деле навел на меня страх, но я не сдрейфила, на то я и Салина.
Соотнести странные деревяшки, найденные пожарными у ног тела Иясуса, с «очень святыми и ценными реликвиями», упомянутыми в эфиопских газетах, было не так уж сложно. Какие еще деревянные реликвии могли поставить на ноги Ватикан и другие христианские церкви? Это было очевидно. И шрамы Иясуса только подтвердили это. По общепринятой церковными историками легенде, святая Елена, мать Константина, нашла Честной Крест Господень в 326 году во время поездки в Иерусалим с целью отыскать Гроб Господень. Согласно известной «Золотой легенде» Иакова Ворагинского[3], когда Елена, которой в то время было восемьдесят лет, прибыла в Иерусалим, она подвергла пыткам мудрейших иудеев страны, чтобы они открыли все, что им было известно о месте, на котором был распят Христос (какая разница, что прошло более трех веков и что в свое время смерть Иисуса осталась совершенно незамеченной?). Она, естественно, смогла вырвать у них информацию, и ее отвели к предполагаемой Голгофе, лобному месту (нахождение которого с точностью не определено археологами и до сих пор), где около двухсот лет до этого император Адриан приказал возвести посвященный Венере храм. Святая Елена приказала снести святилище и провести там раскопки, при которых нашли три креста: само собой, крест Иисуса и двух разбойников. Чтобы узнать, который из трех принадлежал Спасителю, святая Елена приказала принести туда мертвого человека, и, как только его положили на Крест Господень, он воскрес. После этого счастливого события императрица вместе с сыном повелели заложить на месте находки роскошную базилику, храм Гроба Господня, в который они положили реликвию. На протяжении веков многие фрагменты оттуда разошлись по всему миру.
— Откуда вы все это знаете? — снова загремел кипящий от ярости капитан, стоявший уже в нескольких сантиметрах от меня.
— Что, вы с монсеньором Турнье думали, что я идиотка? — энергично возразила я. — Думали, что, если вы не дадите мне информацию или будете держать меня в стороне, вы сможете воспользоваться только той частью меня, которая вас интересует? Да ну, капитан! Я дважды получала премию Гетти за палеографические исследования!
Швейцарец на несколько бесконечных секунд застыл, не сводя с меня глаз. Я догадывалась, что в его голове сменялись разные чувства: злость, бессилие, ярость, инстинкты убийцы… и, наконец, лучик благоразумия.
Потом вдруг в абсолютной тишине он начал собирать фотографии Аби-Руджа, срывать с двери листы, составлявшие силуэт эфиопа, прятать в свою кожаную папку заметки, наброски, тетради и рисунки. Наконец он выключил компьютер и, не попрощавшись, не сказав ни слова, даже не оглянувшись, вышел из моей лаборатории и захлопнул дверь так, что задрожали стены.
В тот самый момент я поняла, что сама вырыла себе могилу.
Как объяснить мои чувства, когда, поднеся на следующее утро мое удостоверение к считывающему устройству, я увидела, как на настенной панели замигала красная лампочка, и услышала, как завыла похожая на пожарную сирена, из-за которой все находившиеся в прихожей тайного архива обернулись, глядя на меня, как на преступницу?.. Нет, этого не объяснишь. Это самое унизительное чувство, которое я когда-либо испытывала. Двое одетых в штатское охранников в черных очках и в наушниках с проводком, как у телефона, выросли передо мной, прежде чем я успела взмолиться Богу о том, чтобы мне провалиться сквозь землю, и очень вежливо попросили меня пройти с ними. Я до боли сжала веки; нет, это не может происходить на самом деле, это явно жуткий сон, и я вот-вот проснусь. Но любезный голос одного из этих мужчин вернул меня к действительности: я должна была идти с ними в кабинет префекта, преподобного отца Рамондино.
Я чуть не сказала им, что не стоит, чтобы они меня отпустили, что я уже знаю, что мне скажет преподобный отец. Но я смолчала и послушно пошла за ними ни жива ни мертва, зная, что мои годы работы в Ватикане подошли к концу.
Не стоит из болезненного интереса вспоминать произошедшее в кабинете префекта. У нас была очень корректная и вежливая беседа, в ходе которой он официально сообщил мне, что мой контракт расторгнут (мне, конечно, до последней лиры выплатят все, что в таких случаях положено законом) и что мое обязательство хранить молчание обо всем, связанном с архивом и с библиотекой, будет действительно до последнего дня моей жизни. Он также сказал мне, что он очень доволен моей работой и от души надеется, что я найду другое занятие, соответствующее моим многочисленным знаниям и умениям, и, наконец, с силой упершись кулаком в стол, он сообщил мне, что, если когда-нибудь мне взбредет в голову сделать малейшее упоминание о деле эфиопа, меня ждет суровое наказание и даже отлучение от церкви.
Он простился со мной крепким рукопожатием в дверях своего кабинета, где меня терпеливо поджидал доктор Уильям Бейкер, секретарь архива, со среднего размера коробкой в руках.
— Ваши вещи, доктор, — пренебрежительно заявил он.
Кажется, именно тогда я поняла, что стала изгоем, кем-то, кого уже не хотят видеть в Ватикане. Меня приговорили к остракизму, и я должна была покинуть Город.
— Будьте любезны, ваш ключ и ваше удостоверение, — произнес в довершение Бейкер, передавая мне коробку с моими скудными личными принадлежностями. Картонка была аккуратно заклеена широкой клейкой лентой. Я подумала, положили ли туда красную руку с дня рождения Изабеллы.
Но это было еще не все; не все и не самое худшее. Два дня спустя главная настоятельница моего ордена потребовала моего присутствия в центральном офисе. Конечно, обремененная тысячей обязанностей, меня приняла не она, а ее заместительница, сестра Джулия Саролли, которая довела до моего сведения, что я должна покинуть квартиру и общину на площади Васкетте, поскольку меня срочно направляют в провинцию Коннот в Ирландии, где я должна буду заведовать архивами и библиотеками нескольких древних монастырей этого района. Там я найду, добавила сестра Саролли, так необходимый мне духовный покой. Я должна была прибыть в Коннот на следующей неделе, между понедельником, 27-го, и пятницей, 31 марта. На когда мне заказать билеты? Возможно, я хотела заехать сначала на Сицилию, чтобы попрощаться с семьей… Я качнула головой, отказываясь от этого предложения; я настолько пала духом, что не могла сказать ни слова.
Я понятия не имела, как объяснить это матери. Мне было ее ужасно жаль, она всегда так гордилась своей дочкой Оттавией. Она будет очень переживать, и я чувствовала себя виноватой перед ней за эту боль. А что скажет Пьерантонио? А Джакома? Единственным преимуществом в этом изгнании было то, что я буду ближе к своей сестре Лючии, она в Лондоне, и что она поможет мне пережить этот провал. Потому что, как ни крути, это был именно провал, а я была просто неудачницей. Я подвела свою семью. Они, конечно, не станут меня меньше любить из-за того, что вместо Ватикана я буду работать в далеком затерянном уголке Ирландии, но я знала, что все мои братья и сестры и в особенности моя мать будут смотреть на меня уже по-другому. Бедная мама, она так гордилась мною и Пьерантонио! Теперь ей придется забыть об Оттавии и говорить только о Пьерантонио.
Поскольку была пятница Великого Поста, в тот вечер мы с Фермой, Маргеритой и Валерией отправились в базилику Святого Иоанна Латеранского, чтобы произнести молитву Крестного Пути и принять участие в богослужении. Между этими пропитанными историей стенами я почувствовала, что растворяюсь, уменьшаюсь, и сказала Богу, что принимаю наказание за мой неуемный грех высокомерия. Я все это заслужила: я думала, что обречена высшей властью за то, что ловко сумела раздобыть что-то, что мне не давали, и, руководствуясь этим, достигла своей цели. Теперь, сломленная и побежденная, я смиренно молила о прощении, раскаивалась в содеянном, сознавая, что это раскаяние приходит слишком поздно и что оно уже не сможет изменить мою кару. Я ощутила страх Божий и приняла этот Крестный Путь как еще одно доказательство божественной милости, которая позволяла мне разделить с Иисусом Христом боль и мучения крестных страстей.
В довершение всех моих бед ранним утром, словно отозвавшись на пожиравшую меня изнутри боль, Этна, вулкан, на который мы, сицилийцы, всегда смотрим с тревогой и с ужасом, потому что он наш и потому что мы его хорошо знаем, устроила потрясающее извержение: до восхода с ее склонов схлынуло море лавы, в то время как ее кратер извергал огонь и пепел на высоту 3200 метров. Палермо, к счастью, находится довольно далеко от вулкана, но это не спасает город от последствий извержения: землетрясений, перебоев с электроэнергией, с водой, проблем на автотрассах… Сильно беспокоясь, я позвонила домой: там никто не спал, и все прислушивались к новостям по радио и местному телевизору. Слава Богу, успокоили меня, никто не пострадал, и ситуация под контролем. В этот момент я должна была сказать им, что покидаю Рим и Ватикан и улетаю в Ирландию, но я не решилась; так велик был мой страх перед их реакцией и разочарованием. Когда я приеду в Коннот и устроюсь там, я что-нибудь придумаю, чтобы убедить их в том, что изменения эти только на пользу и что я в восторге от своего нового назначения.
В следующий четверг в час дня я села на самолет, который должен был увезти меня в изгнание. Только Маргерита смогла прийти со мной попрощаться. Она грустно поцеловала меня в обе щеки и настоятельно просила не противиться воле Божьей, постараться с радостью приспособиться к новому положению и бороться со своим сильным нравом. Это был самый печальный и тоскливый полет в моей жизни. Я не захотела смотреть фильм, не попробовала ни кусочка поставленной передо мной затянутой пластиковой пленкой еды, и единственным моим навязчивым занятием было кропотливое складывание слов, которые я скажу сестре Лючии, когда ей позвоню, и которые я должна буду сказать своей семье, когда буду в состоянии это сделать.
Почти два с половиной часа спустя, в пять вечера по ирландскому времени, мы наконец приземлились в аэропорту Дублина, и уставшие, раздраженные пассажиры кучей зашли в здание международного терминала, чтобы забрать багаж с ленты транспортера. Я сильно сжала свой огромный чемодан, глубоко вздохнула и направилась к выходу, отыскивая взглядом сестер, которые должны были меня встречать.
В этой стране мне наверняка доведется провести ближайшие двадцать — тридцать лет моей жизни, и, быть может, без всякой уверенности говорила я себе, если мне немного повезет, я смогу адаптироваться и быть счастливой. Такие у меня были глупые мысли, и, слыша их, я знала, что лгу, что обманываю саму себя: эта страна — моя могила, конец моих профессиональных амбиций, тупик для моих проектов и исследований. Зачем я столько училась? Зачем годами старалась и получала премию за премией, степень за степенью, если теперь все это мне будет ни к чему в этой несчастной деревне в провинции Коннот, где меня похоронят? Я с болью посмотрела на все, что меня окружало, спрашивая себя, сколько времени я смогу вынести такое постыдное положение, и с черной тоской вспомнила, что не нужно заставлять ждать моих ирландских сестер.
Но, к моему удивлению, там не было ни одной монахини из ордена Блаженной Девы Марии. Вместо них пара одетых по старинке в брыжи, сутаны и черные плащи молодых священников поспешили завладеть моим багажом, спрашивая меня (по-английски, разумеется), не я ли сестра Оттавия Салина. Когда я кивнула, они с облегчением переглянулись, поставили мой чемодан на тележку, и пока один из них решительно кинулся на нее с распростертыми руками, словно от этого зависит его жизнь, второй пояснил мне, что я должна сесть на обратный рейс в Рим, вылетающий через час.
Я ничего не понимала в происходящем, но они знали еще меньше. За те минуты, которые я пробыла с ними до того, как вручила стюардессе полученный от них посадочный талон, они сказали, что они работают в епископстве и что их послали в аэропорт, чтобы встретить меня с одного рейса и посадить на другой. Приказание поступило непосредственно от господина епископа, который находился в поездке по приходу и позвонил по сотовому телефону.
Вот и все, что я видела в Ирландской Республике: терминал международных рейсов. В восемь вечера я снова приземлилась во Фьюмичино (я целый день пролетала туда-сюда, как птицы!), и, к моему удивлению, пара стюардесс отвела меня в VIP-зону, где в отдельной комнате, усевшись в удобное креслице, меня ожидал кардинал-викарий Рима его высокопреосвященство Карло Колли, председатель конференции епископов Италии, который, поднявшись, в некотором замешательстве протянул мне руку.
— Ваше высокопреосвященство… — сказала я в качестве приветствия, преклоняя колено и целуя ему перстень.
— Сестра Салина… — смущенно проговорил он. — Сестра Салина… Вы не представляете, как мы сожалеем о случившемся!
— Ваше высокопреосвященство, как вы понимаете, я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите.
Он, конечно, имел в виду дурное обращение, которому меня подвергли за последние восемь дней и Ватикан, и мой орден, но я не собиралась легко сдаваться, поэтому я сделала вид, что думаю, что произошло какое-то несчастье, и поэтому меня вернули подобным образом.
— Кто-то из моей семьи?.. — намекнула я, изображая тревогу на лице.
— Нет, нет! Ах нет, нет! Боже упаси! С вашей семьей все в полном порядке!
— Тогда что же, ваше высокопреосвященство?
Кардинал-викарий Рима обливался потом, несмотря на работающий в комнате кондиционер.
— Пожалуйста, поедемте со мной в Город. Монсеньор Турнье вам все объяснит.
Через небольшую дверь мы вышли оттуда прямо на улицу, а там нас ждал лимузин черного цвета с номером SCV («Statto della Citta del Vaticano» — «Государство города Ватикан»), такой, какие есть у каждого кардинала для персонального пользования и которые римляне, большие плуты, окрестили «Se Cristo Vedesse»[4]. Садясь в машину рядом с кардиналом, я подумала, что должно было случиться что-то очень серьезное, не только потому, что меня прогоняли целый день из конца в конец европейского неба, но и потому, что встречать меня в аэропорт отправили самого председателя конференции епископов Италии (все равно как если бы служанку приехал встречать сам граф). Все это было очень странно.
Лимузин величаво проехал по римским улицам, запруженным туристами даже в этот холодный вечерний час, и через площадь Сант-Уффицио въехал в Город Ватикан сквозь так называемые ворота Петриано слева от площади Святого Петра, намного более незаметные и малоизвестные, нежели ворота Святой Анны. Когда одетые в свою кричащую униформу швейцарские гвардейцы пропустили нас дальше, мы поехали по проспектам, оставив слева дворец Инквизиции и Палату аудиенций, а затем, дав круг, объехали слева огромную ризницу Святого Петра, которая по своим размерам вполне могла бы быть второй базиликой, и выехали на просторную площадь Святой Марты, проехали мимо ее садов и фонтанов и остановились перед главным входом в новехонький «Дом святой Марты».
«Дом Святой Марты», названный так в честь святой Марфы, сестры Лазаря, которая приняла Иисуса в своем бедном доме в Вифании, был великолепным дворцом, постройка которого стоила более 35 000 миллионов лир[5] и который недавно возвели с двойной целью: с одной стороны, чтобы предоставить кардиналам удобную резиденцию во время предстоящего конклава, и с другой — чтобы служить роскошной гостиницей для высокопоставленных гостей, прелатов или всех тех, кто в состоянии позволить себе ее высочайшие расценки. То есть он был именно бедным домом святой Марфы.
Когда мы с его высокопреосвященством вошли в ярко освещенный и украшенный с великой пышностью холл, пожилой швейцар встретил нас и проводил в приемную. Как только управляющий узнал кардинала, он вышел из-за своей элегантной мраморной стойки и, оказывая нам всяческие знаки внимания, провел нас через широкий вестибюль по направлению к величественной, прихотливо изгибающейся лестнице, ведущей в бар с несколькими залами. Сквозь открытые двери я заметила библиотеку и в уголке — офис администрации. В другой стороне вырисовывался погруженный в полутьму конференц-зал гигантских размеров.
Управляющий, семенящий все время на шаг впереди нас, но слегка изогнувшись в нашу сторону, чтобы подчеркнуть превосходство кардинала, провел нас в ту часть бара, где виднелись двери нескольких приват-комнат. Он почтительно постучал в первую из них, приоткрыл ее, сделав знак, что мы можем войти, тут же отвесил изысканный поклон и исчез.
Внутри приват-комнаты, которая представляла собой нечто вроде зала заседаний с небольшим овальным столом в обрамлении черных современных кресел с высокой спинкой, нас ожидали трое: председательствовал монсеньор Турнье, восседавший во главе стола с не очень дружелюбным видом; справа от него сидел капитан Глаузер-Рёйст, такой же каменный, как обычно, но выглядел он странно, по-другому, так что я даже пригляделась повнимательнее и ужасно удивилась, заметив, что у него был превосходный загар (временами переходящий в красный, как у рака, оттенок), благодаря которому уже можно было отличить волосы от кожи, словно он неделю загорал на пляжах Адриатики среди туристов; и, наконец, справа от Глаузер-Рёйста, опустив голову и сжав руки, как будто в сильном волнении, сидел какой-то незнакомец.
Монсеньор Турнье и Глаузер-Рёйст встали нам навстречу. Мое внимание привлекли фотографии, ровным рядом висевшие на кремового цвета стенах: все понтифики этого века в своих белых сутанах и шапочках, с любезными отеческими улыбками. Я преклонила колено перед Турнье, а затем повернулась к игрушечному солдатику:
— Мы снова встретились, капитан. Это вам я обязана этой интересной поездкой в Дублин и обратно?
Глаузер-Рёйст усмехнулся и впервые с тех пор, как мы знакомы, решился прикоснуться ко мне, беря меня за локоть, чтобы подвести к креслу, где неподвижно сидел незнакомец, до смерти напугавшийся, увидев, что мы идем прямо к нему.
— Доктор, позвольте представить вам профессора Фарага Босвелла. Профессор… — Тот встал так быстро, что карман его пиджака зацепился за подлокотник кресла и резко затормозил его на полпути. Он пустился в отчаянную борьбу с карманом, пока наконец не освободил его, и только поправив на носу крохотные кругленькие очки, смог посмотреть мне прямо в глаза и робко улыбнуться. — Профессор Босвелл, представляю вам доктора Оттавию Салина, монахиню ордена Блаженной Девы Марии, о которой я вам уже говорил.
Профессор Босвелл испуганно протянул мне руку, которую я пожала без особого энтузиазма. Он был очень симпатичным мужчиной тридцати семи — тридцати восьми лет, почти таким же высоким, как Кремень, и был одет в простую одежду (синяя рубашка-поло, спортивная куртка, широкие, очень мятые бежевые брюки и грязные и поношенные грубые ботинки). Он нервно моргал, когда я пыталась удержать его взгляд, который постоянно испуганно избегал моего. Любопытный тип был этот профессор Босвелл: у него была смуглая кожа арабов, а черты лица являли собой замечательный образец еврейских особенностей, однако мягко и свободно ниспадающие с обеих сторон лица волосы были светло-светло-каштановыми, почти русыми, а глаза — совершенно голубыми, красивого бирюзового цвета, как у того актера, который снимался в том фильме… Как он назывался? Не помню, там все убивали друг друга за бензин и ездили на странных машинах. В общем, этот удивительный профессор Босвелл понравился мне почти с первого взгляда. Может, это из-за его неловкости (он спотыкался о неровности на полу, даже если их там не было) или робости (когда ему приходилось говорить, у него полностью пропадал голос), но я почувствовала внезапную волну расположения к нему, которая меня удивила.
Мы уселись вокруг стола, хотя теперь архиепископ-секретарь уступил место во главе собрания кардиналу Колли. Передо мной сидели Глаузер-Рёйст и профессор Босвелл, а рядом со мной — всегда такой приятный монсеньор Турнье. Хотя я умирала от нетерпения, чтобы узнать, что происходит, я решила, что должна изображать безразличие. В конце концов, если я здесь, то это потому, что я им снова нужна, и они слишком много причинили мне боли за последнюю неделю, чтобы унижаться и просить объяснений. Кстати, говоря об объяснениях, в моем ордене знают, где я в данное время нахожусь (или летаю)?.. Я вспомнила, что мои ирландские сестры не приехали в аэропорт меня встречать, значит, они должны об этом знать, поэтому я перестала переживать по этому поводу.
Первым взял слово капитан.
— Видите ли, доктор, — заговорил он германским баритоном, — события приобрели неожиданный поворот.
И говоря это, он наклонился вниз, поднял с пола свой кожаный кейс, не торопясь открыл его и вытащил оттуда обмотанный белым полотном сверток размером с праздничный торт. Если я ждала каких-то объяснений или другого подобия примирения, я должна была уже чувствовать себя полностью удовлетворенной. Все присутствующие смотрели на сверток так, будто там было самое замечательное сокровище мира, и провожали его глазами, пока он мягко скользил по столу, подталкиваемый рукой капитана. Теперь он оказался напротив меня, и я не очень знала, что с ним делать. Похоже, кроме меня, никто не дышал.
— Можете открыть, — голосом соблазнителя произнес Глаузер-Рёйст.
В моей голове в эту минуту пронеслась на сумасшедшей скорости тысяча не очень связных мыслей, но если я хоть в чем-то была уверена, так это в том, что если я открою сверток, то снова стану простым инструментом, которым пользуются, а потом швыряют на помойку. Они заставили меня вернуться в Рим, потому что я была им нужна, но я уже не хотела им помогать.
— Нет, спасибо, — возразила я, отталкивая сверток назад, в сторону Глаузер-Рёйста. — Не имею ни малейшего интереса.
Кремень откинулся в кресле и резким движением поправил воротник. Потом направил в мою сторону полный упрека взгляд:
— Все изменилось, доктор. Вы должны мне верить.
— Не будете ли вы так любезны, чтобы объяснить почему? Если мне не изменяет память, а память у меня превосходная, когда я видела вас в последний раз, ровно восемь дней назад, вы вышли из моей лаборатории, хлопнув дверью, а на следующий день, наверное, по чистой случайности, меня уволили с работы.
— Позвольте мне объяснить, Каспар, — вдруг вмешался монсеньор Турнье, наставнически поднимая руку в сторону Кремня и поворачивая кресло в мою сторону. В его голосе звучал театральный тон показного сожаления. — Капитан не хотел говорить вам, что… это я был виновником вашего увольнения. Да, я знаю, это слышать тяжело… — Да уж, подумала я, мир не готов услышать, что монсеньор Турнье сделал что-то не так. — Капитан Глаузер-Рёйст получил очень строгие приказы… от меня, должен добавить, и когда вы признались ему, что вам известны все подробности расследования, он посчитал себя обязанным… как сказать? Сообщить мне об этом, да, хотя вы должны знать, что он решительно возражал против вашего… увольнения. Сегодня я приехал, чтобы сказать, как я сожалею об ошибочной позиции, которую заняла по отношению к вам церковь. Это, несомненно, была… плачевная ошибка.
— Более того, сестра Салина, — заговорил в эту минуту кардинал Колли, — по личному решению кардинала государственного секретаря его высокопреосвященства Анджело Содано, теперь капитан Глаузер-Рёйст полностью возглавляет это расследование. Монсеньор Турнье, если можно так выразиться, уже не заправляет этим делом.
— И первые две вещи, о которых я попросил, принимая на себя руководство, — заключил Глаузер-Рёйст, нетерпеливо поднимая брови, — это ваше немедленное возвращение к расследованию в качестве члена моей рабочей группы и возобновление вашего контракта с тайным архивом и с библиотекой Ватикана.
— Именно так! — подтвердил кардинал Колли.
— Так что, доктор, — подытожил Кремень, — если у вас нет других вопросов, откройте наконец этот чертов сверток!
И от его резкого толчка сверток снова приехал на мою часть стола. Из горла профессора Босвелла вырвался крик ужаса.
— Простите, я не сдержался, — извинился капитан.
Честно говоря, я была в такой растерянности, что не знала, что и думать. Я положила руки на белое полотно свертка и застыла в нерешительности. Мне вернули работу в тайном архиве, я уже не изгой в Ватикане и, кроме того, я полноправный член исследовательской группы Глаузер-Рёйста, выполняющей задание, которое захватило меня с первой минуты. Это было больше, чем я могла ожидать в это самое утро, поднявшись с кровати, чтобы отправиться в изгнание! Внезапно, пока я переваривала эти хорошие новости, легкое щекочущее ощущение в ладонях заставило меня бессознательно потереть их, чтобы стряхнуть прилипшие к коже надоедливые песчинки. Я с удивлением смотрела на мелкие белые крупинки, как снег, падавшие на темное полированное дерево стола.
Глаузер-Рёйст указал на них пальцем:
— Не стоит так обращаться со священным песком из Синая.
Я посмотрела на него так, будто вижу в первый раз. Мое изумление было безгранично.
— Из Синая? — автоматически повторила я, со скоростью ветра связывая ниточки.
— Точнее, из монастыря Святой Екатерины на Синае.
— То есть?.. Вы хотите сказать, что были в монастыре Святой Екатерины на Синае? — упрекнула его я, наставив на него указательный палец правой руки. Невероятно! Пока я переживаю худшую в моей жизни неделю, он едет в место, которое по праву как палеографу следовало бы посетить мне. Но Кремень, казалось, не заметил моей обиды.
— Вот именно, доктор, — ответил он, возвращаясь к обычному нейтральному тону. — В итоге оказалось, что это необходимо. И так как я уверен, что у вас будет ко мне много вопросов, уверяю вас, что я отвечу на все… — он резко остановился и повернулся в сторону Босвелла, который съежился в кресле, — мы ответим на все вопросы, не скрывая от вас никакой информации.
Я, конечно, была обижена, но это не мешало мне обратить внимание на новое отношение Глаузер-Рёйста к монсеньору Турнье и к кардиналу Колли. Если на первой нашей встрече, на которой присутствовали также Содано и Рамондино, капитан скромно и послушно держался на втором плане, внимая только указаниям Турнье, сейчас он, казалось, не обращал на них ни малейшего внимания, словно они — только тени на стене.
— Хорошо, хорошо… — ответила я, поднимая руки в воздух и тяжело опуская их в знак покорности. — Начните с Аби-Руджа Иясуса и закончите этим свертком с синайским песком.
Глаузер-Рёйст посмотрел в потолок и набрал воздуха, перед тем как начать:
— Ладно, по порядку… Начало этой истории положило крушение «Сессны-182» 15 февраля в Греции. В ногах тела гражданина Эфиопии Аби-Руджа Иясуса пожарные нашли очень древнюю драгоценную серебряную шкатулку, украшенную эмалью и камнями, в которой были странные кусочки дерева, не имеющие на вид никакой ценности. Поскольку шкатулка выглядела как реликварий, гражданские власти связались с Греческой православной церковью, чтобы узнать, могут ли они дать какое-либо объяснение, и православные немало удивились, увидев, что один из этих фрагментов сухого дерева является не чем иным, как знаменитым Честным Древом[6] из монастыря Дохиар на горе Афон. Они быстро передали предупреждение во все многочисленные восточные православные патриархаты, и, убедившись, что один за другим все реликварии с фрагментами Креста Господня оказываются пустыми, они решили связаться с нами, католическими еретиками, поскольку именно мы обладаем самой большой в мире частью Животворящего Древа.
Капитан развалился в кресле, устраиваясь поудобнее, и продолжил:
— Все, что я рассказываю вам, произошло за ничтожнейшее время: с момента аварии не прошло и двадцати четырех часов, как Святой Синод Греческой церкви сообщил о происходящем его высокопреосвященству государственному секретарю, и он дал указание, чтобы все католические церкви мира, у которых были реликвии Честного Древа, как можно незаметнее проверили состояние реликвариев. В результате обнаружилось, что шестьдесят пять процентов реликвариев пусты, и среди них именно те, в которых находились самые большие фрагменты: реликвия Честного Креста из Вероны, кусочки Истинного Древа из церквей Святого Креста в Иерусалиме и Святого Иоанна Латеранского в Риме, фрагменты, хранившиеся в монастыре Санто-Торибио-де-Льебана и в городе Каравака-дела-Крус в Испании, щепочки из цистерцианского монастыря в Ла-Буассьер и из часовни Сент-Шапель во Франции. Но, и это очень важно, ограбления прошли и в Латинской Америке: обнаружили, что, кроме прочих, недостает больших фрагментов из кафедрального собора Мехико и из братства Иисуса-Назарянина Утешителя в Гватемале.
Я никогда не испытывала ни малейшего преклонения перед реликвиями. Никто из моей семьи не был склонен поклоняться экзотичным кусочкам костей, ткани или дерева, даже моя мать, которая придерживалась в религиозных делах тридентских взглядов, и, уж конечно, Пьерантонио, живущий в Святой Земле и нашедший во время археологических раскопок не одно тело с ароматом святости. Но рассказываемая капитаном история тронула меня до глубины души. Многие верующие действительно возлагают веру на священные предметы, и им никоим образом нельзя отказать в уважении к их верованиям. Кроме того, даже если со временем сама церковь и перестала практиковать это столь сомнительное поклонение, внутри нее все еще сохраняется течение, очень склонное к почитанию реликвий. Однако самое удивительное, что тут не шла речь о мумифицированной руке некой святой или о нетленных останках святого имярека. Речь шла о Кресте Господнем, о дереве, на котором предположительно тело Спасителя приняло муку и смерть, и было крайне странно, что, даже если все фрагменты Честного Древа в мире можно было бы априори расценивать как подделки или надувательство, какая-то банда фанатиков выбрала бы своей единственной целью эти щепки.
— Вторая часть этой истории, доктор, — невозмутимо продолжал Глаузер-Рёйст, — связана с обнаружением шрамов на теле Иясуса. Пока греческие и эфиопские власти безуспешно копались в житии и чудесах оного, Его Святейшество посредством своего государственного секретаря и руководствуясь просьбой церквей восточного обряда, не обладающих такими средствами для расследования, решил, что мы должны раскрыть, кто похищает реликвии Честного Древа и по какой причине. Если меня не подводит память, Папа приказал немедленно остановить кражи, вернуть украденные реликвии, найти воров и, естественно, отдать их в руки правосудия. Как только греческая полиция обнаружила странные шрамы эфиопа, сообщение об этом поступило к архиепископу Афинскому Христодулосу Параскевиаду, и, несмотря на то, что отношения с Римом у него не очень хорошие, он попросил о том, чтобы отсюда прислали особого агента, чтобы присутствовать при вскрытии. Этим агентом был я, и обо всех последующих событиях вы знаете не хуже моего.
Я целый день ничего не ела и начала чувствовать неприятные симптомы гипогликемии. Наверное, было уже очень поздно, но я не хотела смотреть на часы, чтобы не почувствовать себя еще хуже: я встала в семь утра, села на самолет в Ирландию, вечером вернулась в Рим и… Я была такой разбитой, что больно было даже дышать.
Рассказ еще далеко не закончен, вспомнила я, взглянув на лежащий передо мной белый сверток, но, несмотря на все мое любопытство, если я быстро не съем чего-нибудь, я просто упаду в обморок прямо за столом. Так что я воспользовалась внезапным молчанием капитана, чтобы спросить, можем ли мы сделать небольшой перерыв и что-нибудь поесть, потому что у меня голова идет кругом. В ответ послышались единодушные реплики одобрения, было очевидно, что никто не ужинал, так что его высокопреосвященство кардинал Колли сделал капитану знак, и тот, забрав у меня из рук сверток и снова спрятав его в свой кожаный кейс, на минуту вышел из комнаты и тут же вернулся с метрдотелем.
Несколько минут спустя комнату наводнила целая армия официантов в белых куртках, толкавших большие тележки, нагруженные огромным количеством еды. Его высокопреосвященство благословил пищу простой благодарственной молитвой, и все мы, даже стеснительный профессор Босвелл, с настоящей жадностью набросились на еду. Я была так голодна, что, чем больше я ела, тем больше испытывала голод. Я не вышла за рамки приличий, но ела так, будто голодала до этого целый месяц. В конце концов, заметив мелочную ухмылочку монсеньора Турнье, я решила остановиться, хотя к этому времени я уже порядком подкрепилась.
В течение всего ужина, пока мы не закончили пить вкусный дымящийся кофе-эспрессо, его высокопреосвященство кардинал Колли рассказывал нам, какие большие надежды возлагает Его Святейшество Иоанн Павел II на решение этой запутанной проблемы с кражей реликвий. Отношения с церквями восточного обряда, несмотря на многие годы стремления к экуменизму, были хуже некуда, и, если нам удастся вернуть им их фрагменты Честного Древа и покончить с кражами, возможно, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей I, два самых представительных лидера в плеяде православных отцов и церквей, будут расположены к диалогу и к примирению. Похоже, в данный момент эти два христианских патриарха находились в раздоре из-за передела влияния на православные церкви стран, входивших в состав Советского Союза, но оба они выступали неразрывным фронтом против Римской Церкви в вопросе о претензиях наших католиков православного обряда, униатов, которые требовали возвращения имущества, когда-то конфискованного коммунистическим режимом, теперь это имущество находилось в руках православных. В общем, по сути, речь шла об элементарном разделе власти и имущества. Иерархическая структура христианских церквей восточного обряда, которой, по крайней мере теоретически, вообще не существовало, представляла собой плотную сетку, сплетенную из исторических интриг и экономических интересов: патриархат Московский и Всея Руси, возглавляемый Его Святейшеством Алексием, удерживал под своим влиянием независимые православные церкви стран Восточной Европы (Сербии, Болгарии, Румынии…), а Вселенский Константинопольский патриархат, подвластный Его Божественному Святейшеству Варфоломею, управлял всеми остальными церквями (Элладской, Сирийской, Турецкой, Палестинской, Египетской, включая важнейшую Американскую греко-православную церковь). Однако границы были не столь четкими, как могло бы показаться на первый взгляд, и в рамках сфер влияния обоих патриархатов находились монастыри и храмы другого течения. Как бы там ни было, несмотря на то, что Вселенский Патриарх Константинопольский не имеет никакой власти над другими патриархами, он считается первым по авторитету среди других православных патриархов мира, включая Алексия, однако Патриарх Московский и Всея Руси, похоже, игнорирует эту древнюю, тысячелетнюю традицию, беспокоясь лишь о том, чтобы российские власти не разрешили католической церкви доступ в его ленное владение, что пока ему вполне успешно удается.
Одним словом, хаос; но мы должны помочь выравниванию каменистых путей, которые ведут к единению всех христиан, решив проблему с кражами, так как это послужит смазкой и горючим для выработавшегося уже мотора экуменизма.
За часы, проведенные нами в этой комнате, профессор Босвелл ни разу и рта не открыл, разве что для еды. Однако было видно, что он очень внимательно слушает все, что говорится, так как иногда, сам того не замечая, он незаметно кивал или качал головой. Это самый молчаливый человек, которого я когда-либо встречала. Казалось, что обстановка для него слишком помпезная и что он чувствует себя очень неловко.
— Так, так… профессор Босвелл, — произнес тут монсеньор Турнье, читая мои мысли. — Кажется, настал ваш черед. Кстати, вы говорите на моем языке? Понимаете, что я говорю? Вы поняли что-то из того, что тут было сказано?
Я заметила, что Глаузер-Рёйст сощурил глаза и пристально смотрит на монсеньора, а профессор Босвелл смущенно заморгал и откашлялся в отчаянной попытке совладать с голосом.
— Я чудесно вас понимаю, монсеньор, — пробормотал он с заметным арабским акцентом. — Моя мать была итальянкой.
— А, замечательно, замечательно! — воскликнул Турнье, широко улыбнувшись.
— Монсеньор, профессор Фараг Босвелл, — уточнил Глаузер-Рёйст резким тоном, не оставлявшим никаких сомнений, — не считая арабского и коптского языков, в совершенстве владеет греческим, турецким, итальянским, французским, английским, латынью и ивритом.
— В этом нет особой заслуги, — заикаясь, поспешил объяснить профессор. — Мой дед по отцовской линии был евреем, мать — итальянкой, а все остальные члены семьи, да и я сам, — копто-католики.
— Но фамилия у вас английская, профессор, — удивленно заметила я, хотя тут же вспомнила, что Египет долгое время был британской колонией.
— Это вам понравится, доктор, — вставил Глаузер-Рёйст, снова странно улыбаясь, — профессор Босвелл — правнук доктора Кеннета Босвелла, одного из археологов, обнаруживших византийский город Оксиринх.
Оксиринх, один из важнейших городов Египта византийской эпохи, на века утерянный в песках пустыни, вернулся к жизни в 1895 году благодаря английским археологам Бернарду Гренфеллу, Артуру Ханту и Кеннету Босвеллу и до сегодняшнего дня считается самым богатым источником византийских папирусов и настоящей библиотекой утраченных произведений классических авторов.
— И вы сами, разумеется, тоже археолог, — предположил монсеньор Турнье.
— Да. Я работаю… — Он помедлил, наморщил лоб и поправил себя: — Работал в Греко-Римском музее в Александрии.
— Но вы там уже не работаете? — удивленно спросила я.
— Доктор, настало время рассказать вам новую историю, — заявил Глаузер-Рёйст. И он снова склонился к своему кожаному кейсу, покоившемуся на полу, и достал сверток из белого полотна с синайским песком. Но теперь он не передал его мне, а аккуратно поставил на стол и, не выпуская из рук, внимательно смотрел на него, и в глазах его появился сильный металлический блеск. — На следующий день после того, как я ушел из вашей лаборатории, и после разговора с монсеньором Турнье, о котором вы уже знаете, я сел на самолет и отправился в Каир. В аэропорту меня встретил присутствующий здесь профессор Босвелл, которого копто-католическая церковь приставила ко мне в качестве переводчика и гида.
— Его Святейшество Стефан II Гаттас, — перебил его Босвелл, нервно надевая очки, — Патриарх нашей церкви, лично просил меня об этом одолжении. Он просил меня сделать все для меня возможное, чтобы помочь капитану.
— Помощь профессора оказалась воистину неоценимой, — добавил капитан. — Сегодня у нас не было бы… этого, — и он кивком указал на сверток, — если бы не он. Встречая меня в аэропорту, профессор Босвелл приблизительно знал о стоящей передо мной задаче и предоставил в мое распоряжение все свои знания, связи и средства.
— Я бы выпил еще чашечку кофе, — перебил тут кардинал Колли. — Вы присоединитесь?
Монсеньор Турнье быстро взглянул на часы и кивнул. Глаузер-Рёйст снова встал и вышел из комнаты, но хоть он и задержался на несколько минут больше, чем я могла вынести в таком обществе, вернулся он с громадным подносом, уставленным чашками, с большим кофейником в центре. Пока мы наливали себе кофе, капитан продолжал рассказ.
Попасть в монастырь Святой Екатерины на Синае было, судя по его словам, нелегко. Туристов там принимают в очень ограниченные часы визитов и водят еще более ограниченным маршрутом по территории монастыря. Принимая во внимание, что они не знали, что им искать и как это искать, им требовалась большая свобода передвижений и много времени. Поэтому профессор составил рискованный план, который тем не менее великолепно сработал.
Хотя в 1782 году православный монастырь Святой Екатерины на Синае отделился от Иерусалимского патриархата по давно забытым и неясным причинам, превратившись в автокефальную церковь, так называемую Синайскую православную церковь, патриархат все еще имеет определенное влияние на монастырь и его главу, настоятеля и архиепископа Синайской церкви. Так вот, зная об этом влиянии, Его Святейшество Стефан II Гаттас попросил Патриарха Иерусалимского Диодора I выдать рекомендательные письма капитану Глаузер-Рёйсту и профессору Босвеллу с просьбой полностью открыть для них двери монастыря. Почему монастырь Святой Екатерины должен был прислушаться к просьбе Патриарха Иерусалимского? Очень просто, потому что один из двоих посетителей, иностранец из Европы, был крупным немецким филантропом, желающим пожертвовать монастырю несколько миллионов марок. В сущности, в 1997 году, испытывая отчаянную потребность в деньгах, монахи в первый и единственный раз за всю историю согласились выставить свои драгоценнейшие сокровища на великолепной экспозиции в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Целью этой выставки было не только получение денег, выплаченных монастырю самим музеем, но и, кроме того, привлечение инвесторов, готовых финансировать реставрацию древнейшей библиотеки и необыкновенного музея икон.
Так что, стремясь найти новые данные, которые бы подвинули расследование вперед, капитан Глаузер-Рёйст и профессор Босвелл явились в офис Синайской православной церкви в Каире и с полнейшим хладнокровием рассказали им свою легенду. Тем же вечером они арендовали джип, способный пересечь пустыню, и отправились в монастырь. Их встретил сам настоятель, архиепископ Дамиан, очень внимательный и умный человек, который приветствовал их и предложил им свое гостеприимство на все время, какое они пожелают. В тот же вечер они начали осмотр монастыря.
— Я видел кресты, доктор, — взволнованно признался Глаузер-Рёйст. — Я их видел. Они точно такие, как на теле нашего эфиопа. Их тоже всего семь, они такие же, как на шрамах. Они просто ждали меня там на стене.
«А я не видела, — подумала я. — Не видела, потому что меня оставили за бортом. Я не была в египетской пустыне, не скакала в джипе по барханам, потому что монсеньор Турнье решил, что сестру Салина надо уволить за то, что она слишком много знает, потому что ему с самого начала не нравилось, что этим делом займется женщина».
— Каюсь, но я испытываю по отношению к вам острую зависть, капитан, — вслух призналась я, отхлебнув большой глоток кофе. — Мне хотелось бы взглянуть на эти кресты. В конце концов, они такие же мои, как и ваши.
— Вы правы, — согласился капитан. — Мне тоже хотелось бы, чтобы вы их увидели.
— В любом случае, сестра, — вмешался профессор Босвелл со своим заметным арабским акцентом, — и хоть это и небольшое утешение, вы… — он уклончиво заморгал и подтолкнул очки вверх по переносице, — что вы смогли бы сделать в Святой Екатерине? Монахи не так легко пускают к себе женщин. Они, конечно, не доходят до крайностей горы Афон в Греции, куда, вы же знаете, не пускают даже самок животных, но не думаю, что они разрешили бы вам заночевать в монастыре или свободно передвигаться там, как, к счастью, смогли сделать мы. В своем отношении к женщинам православные монахи очень похожи на мусульман.
— Это правда, — подтвердил Глаузер-Рёйст. — Профессор прав.
Это меня не удивило. Как правило, дискриминация женщин присутствует во всех религиях мира: одни по непонятным причинам отводят им второстепенную роль, другие позволяют плохо с ними обращаться и притеснять. Все это было отвратительно, но, похоже, никто не стремился искать выход из этой ситуации.
Православный монастырь Святой Екатерины находится в сердце долины под названием Вади эд-Дейр у подножия отрога горы Синай и является одним из прекраснейших мест, сотворенных природой с вмешательством человеческих рук. На прямоугольнике территории, вокруг которой в VI веке возвел стены Юстиниан, хранились невообразимые сокровища и несравнимые красоты, которые заставляли неметь от изумления тех, кто входил в ворота монастыря и был допущен внутрь. Пространство простирающейся вокруг пустыни и окаймляющие его бесплодные горы красноватого гранита очень плохо готовят паломников к тому, что они находят в монастыре: бесподобную византийскую базилику, множество часовен, огромную трапезную, вторую по значению библиотеку в мире, самую знаменитую коллекцию прекраснейших икон… и все это украшено золотыми светильниками, мозаиками, деревянной резьбой, мрамором, инкрустациями, золоченым серебром, драгоценными камнями… Неповторимое пиршество для чувств и несравненное возвеличение веры.
— За пару дней, — продолжал свой рассказ Глаузер-Рёйст, — в поисках чего-нибудь, связанного с эфиопом, мы с профессором обшарили монастырь сверху донизу. Присутствие семи крестов на юго-западной стене начало утрачивать для меня всякий смысл. Я стал подумывать, не идет ли речь о какой-то глупой случайности и не продвигаемся ли мы в ошибочном направлении. Но на третий день… — его лицо расплылось в ослепительной улыбке, и он обернулся к профессору, ища его подтверждения. — На третий день нас наконец представили отцу Сергию, заведовавшему библиотекой и музеем икон.
— Монахи очень осмотрительны, — почти шепотом пояснил профессор. — Это чтобы вы поняли, почему они заставили нас два дня ждать, прежде чем показали свои самые ценные сокровища. Они никому не доверяют.
Тут я взглянула на часы: было три часа утра. Я больше не могла, даже после двух чашек кофе. Но Кремень сделал вид, что не заметил моего жеста и не видит моего усталого лица, и непоколебимо продолжал:
— Отец Сергий зашел за нами около семи вечера, после ужина, и повел нас по узеньким улочкам монастыря, освещая дорогу старой масляной лампой. Это был толстый молчаливый монах, и вместо черной камилавки, как у всех, на нем была остроконечная шерстяная скуфейка.
— И он постоянно теребил себя за бороду, — добавил профессор, словно это его очень рассмешило.
— Когда мы подошли к библиотеке, монах вытащил из складок рясы железное кольцо, увешанное ключами, и стал открывать замок за замком, пока не открыл все семь.
— Снова семь, — вырвалось у меня в полудреме, потому что на ум мне пришли буквы и кресты Аби-Руджа.
— Двери открылись с сильным скрипом, и внутри было темно, как в волчьей пасти, но хуже всего был запах. Вы даже представить себе не можете… Просто тошнотворный.
— Пахло гнилой кожей и старым тряпьем, — уточнил Босвелл.
— Мы пошли в темноте между рядов стеллажей, заставленных византийскими манускриптами, и их выделенные сусальным золотом буквы искрились в свете лампы отца Сергия. Наконец мы остановились перед стеклянным шкафом. «Здесь мы храним некоторые из самых древних кодексов. Можете смотреть все, что хотите», — сказал нам инок. Я думал, он шутит — ведь ничего не было видно!
— Кажется, именно тогда я обо что-то споткнулся и ударился об угол одного из этих старых шкафов, — заметил профессор.
— Да, это было тогда.
— И тогда я сказал отцу Сергию, что если они хотят, чтобы иностранный гость дал им свои деньги на реставрацию библиотеки… — он напряженно кашлянул и снова поправил очки, — они как минимум должны показать ему все в нормальных условиях: при дневном свете и без такой таинственности, и тогда отец Сергий сказал мне, что они должны беречь манускрипты, потому что их уже обворовывали, и что мы должны ценить, что нам показывают самые ценные сокровища монастыря. Но поскольку я продолжал протестовать, в конце концов инок отошел в угол и нажал на выключатель на стене.
— Оказывается, в библиотеке был ослепительный электрический свет, — подтвердил капитан. — Монахи Святой Екатерины берегут свои манускрипты очень просто: показывают их только тем, кто приходит с разрешения архиепископа, как в нашем случае, и, кроме того, показывают их в темноте, чтобы никто не мог представить, что же действительно они там хранят. Когда приезжает какой-нибудь ученый, получивший разрешение, они ведут его в библиотеку вечером и держат его в потемках, пока он смотрит интересующий его манускрипт. Так никто никогда и не заподозрит, что еще там было. Думаю, похищение Синайского кодекса Тишендорфом в 1844 году наложило на монахов Святой Екатерины тяжелый и нестираемый след.
— Такой же след оставит и наша кража, капитан, — сокрушенно пробормотал Босвелл.
— Вы стащили манускрипт из монастыря? — встревожилась я, вдруг пробудившись из сладкого забытья, в которое погрузилась, убаюканная рассказом.
Ответом на мой вопрос послужила глубочайшая тишина. Я растерянно переводила взгляд с одного на другого, но окружавшие меня четыре лица превратились в лишенные выражения восковые маски.
— Капитан… — настаивала я, — пожалуйста, ответьте мне. У вас хватило совести выкрасть манускрипт из монастыря Святой Екатерины на Синае?
— Судите сами, — холодно ответил он, протягивая мне праздничный торт, завернутый в белое полотно, — а потом скажете, не сделали бы вы на моем месте то же самое.
От замешательства лишившись способности как-то реагировать, я посмотрела на сверток так, будто это была крыса или таракан. Я и не думала снова прикоснуться к этому.
— Откройте, — внезапно приказал мне монсеньор Турнье.
Я повернулась к кардиналу Колли, ища у него поддержки, но его взгляд блуждал где-то под столом. Профессор Босвелл снял очки и вытирал их краем куртки.
— Сестра Салина, — снова нетерпеливо окликнул меня монсеньор Турнье, — я только что сказал вам открыть сверток. Вы что, меня не слышали?
Мне ничего не оставалось, как повиноваться. Не время было ломаться и прислушиваться к голосу совести. Белое полотно оказалось сумкой, и как только я ослабила ее завязки, показались уголки древнего кодекса. Я не верила своим глазам… Мое волнение усиливалось по мере того, как я вытаскивала тяжелый фолиант. Наконец в моих руках оказался толстый и основательный византийский манускрипт примитивной квадратной формы с деревянными крышками переплета, обтянутыми тисненой кожей, на которой виднелся рельеф семи крестов монастыря Святой Екатерины (два столбца по три креста по обе стороны обложки и один внизу, замыкая нижний ряд крестов), монограмма Константина в центральной верхней части, а под ней — греческое слово из семи букв, содержащее в себе, похоже, ключ ко всей истории: ΣΤΑΥΡΟΣ («Крест»). Пока я глядела на все это, моя голова опустела, как яичная скорлупа, а руки начали дрожать так сильно, что я чуть не уронила кодекс на пол. Я попыталась взять себя в руки, но не смогла. Наверное, по большей части причиной этого была жуткая усталость, которую я испытывала, но монсеньору Турнье пришлось вырвать у меня рукопись, чтобы обеспечить ее сохранность.
Помню только, что в тот момент я услышала нечто, крайне меня удивившее: капитан Глаузер-Рёйст впервые рассмеялся.
Понятно, что не в наших силах воскрешать мертвых, потому что это чудотворное умение находится лишь в Божьей руке. Но хотя мы не можем заставить кровь снова бежать по венам, а мысль вернуться в безжизненный мозг, мы можем восстановить краски, стертые временем с пергамента, и таким образом восстановить идеи и мысли, записанные кем-то на велени. Мы не способны сотворить чудо и оживить мертвое тело, но можем совершить волшебство и пробудить дремлющий дух, погруженный в летаргический сон внутри средневекового кодекса.
Как палеограф я была в состоянии прочесть, дешифровать и интерпретировать любой древний рукописный текст, но я никак не могла угадать, что было написано на этих жестких, полупрозрачных, пожелтевших листах пергамента, буквы на которых века растворили до практически нечитаемого состояния.
Кодекс Иясуса, как мы решили назвать в честь нашего эфиопа выкраденный Глаузер-Рёйстом и Босвеллом из монастыря Святой Екатерины манускрипт, находился в совершенно плачевном состоянии. По словам капитана, исследовав библиотеку монастыря в течение пары дней, они с профессором наткнулись в углу, рядом с кучей дров, которыми монахи пользовались, чтобы согревать помещение в холодные зимние месяцы, на корзины с выброшенными пергаментами и папирусами, которые использовали для разведения и раздувания огня. Чтобы отвлечь отца Сергия, пока Глаузер-Рёйст исследовал содержимое этих корзин, профессор Босвелл принес в библиотеку бутылку наилучшего египетского вина «Омар Хайям», роскошное наслаждение, доступ к которому имеют лишь немусульмане и туристы (как всегда предусмотрительный, профессор привез с собой из Александрии несколько бутылок, чтобы подарить их архиепископу Дамиану в подарок при прощании в знак благодарности). Довольный таким подношением отец Сергий в ответ подарил профессору другую бутылку вина, которое изготовляли в монастыре, и, пока суд да дело, оба напились до чертиков, весело запели старые египетские песни (до того, как постричься в монахи, отец Сергий был матросом) и встретили вновь появившегося после долгого отсутствия Глаузер-Рёйста, который к тому времени прятал на спине под рубашкой кодекс Иясуса, радостными возгласами.
Как рассказывает капитан, кодекс был в одной из корзин с мусором, под грудой отдельных страниц, рваных свитков и других кодексов, отложенных монахами на растопку из-за плохой сохранности, как в случае в нашим манускриптом, либо из-за незначительной ценности. Глаузер-Рёйст сказал, что, когда он увидел тиснение на переплете кодекса, стерев рукой толстый слой пыли и грязи, он так вскрикнул от удивления, что решил, что разбудил всю общину монастыря Святой Екатерины. К счастью, даже находившиеся поблизости отец Сергий и профессор Босвелл ничего не услышали.
На следующий день с восходом солнца они покинули монастырь. Но монахи о чем-то догадались, увидев похмелье отца Сергия, потому что, не доезжая нескольких километров до Каира, когда уже почти смеркалось, зазвонил сотовый телефон профессора Босвелла, и оказалось, что это секретарь Его Святейшества Стефана II Гаттаса, который сообщил, что им нельзя въезжать в город, вообще ни в один город Египта, а следует как можно скорее по второстепенным дорогам направиться на запад, в сторону Израиля, чтобы постараться пересечь границу и скрыться от полиции, поскольку архиепископ Синайский, настоятель Дамиан, заявил о возможной краже манускриптов двумя мошенниками, напоившими библиотекаря.
Они снова поехали в Бильбайс, пересекли Суэцкий канал через Аль-Кантару и всю ночь ехали до Аль-Ариша, находящегося неподалеку от израильской границы, где их ждал служащий Апостольского представительства в Иерусалиме с дипломатическими паспортами Святого Престола. Они прошли через пограничный пункт Рафах и спустя неполных два часа наконец отдыхали в представительстве. Вскоре, пока я садилась в самолет, улетавший в Ирландию, их «Боинг-747» израильской авиакомпании «Эль-Аль» вылетал из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, а три с половиной часа спустя они приземлились на римском военном аэродроме в Чьямпино, как раз тогда, когда я отправлялась в обратный путь.
Ну вот, если тогда нам казалось, что все это были сплошные проблемы и сложности, то мы просто не представляли, что еще ждет нас впереди.
Едва перелистав кодекс в ту ночь, я поняла, что он в настолько плохом состоянии, что мы с трудом сможем извлечь оттуда пару абзацев в нормальном виде, с которыми я смогу работать. На нем еле-еле виднелись пятна и тени, словно на акварели, на которую вылили несколько стаканов воды. Пергамент, который, по существу, мало чем отличается от гладкой кожи барабана, не так хорошо впитывает чернила, как бумага, и со временем они становятся более расплывчатыми и могут полностью стереться, в зависимости от того, из чего они были приготовлены. Если в этом манускрипте когда-то и была полезная информация, касающаяся того, почему Аби-Рудж и наверняка другие ему подобные похищали сейчас фрагменты Честного Креста, то теперь ее извлечь было невозможно… По крайней мере так думала я, но, конечно, я всего лишь палеограф из тайного архива Ватикана, а не археолог из прославленного Греко-Римского музея Александрии, и поэтому мои знания технических приемов, используемых для восстановления слов на древнем папирусе и пергаменте, оставляли желать лучшего, как продемонстрировал, конечно, без злого умысла, профессор Фараг Босвелл.
В пятницу утром, пока я еще спала в своих покоях в «Доме святой Марты», преподобный отец Рамондино спустился в Гипогей и сообщил начальникам отделов информатики, реставрации документов, палеографии, кодикологии и фоторепродукции, что на время они и находящийся в их распоряжении персонал должны забыть о возвращении в свои монастыри, общины и послушнические корпуса; объявлено военное положение, и никто не выйдет из архива, пока поставленная перед ними работа не будет окончена. Как только он сообщил им о том, что это за работа, начальники отделов запротестовали, говоря, что на ее осуществление уйдет как минимум месяц кропотливых усилий, посвященных исключительно ей в ущерб другим задачам, на что префект ответил, что у них есть неделя, и что если за неделю они не закончат, то могут собирать чемоданы и забыть о карьере в Ватикане. Скоро стало ясно, что такая срочность была ни к чему, но в тот момент казалось, что необходимо максимально форсировать ситуацию.
Под руководством профессора Босвелла отдел реставрации документов начал с того, что снял с кодекса переплет, разобрав его на листы ин-фолио[7] и обнажив квадратные дощечки крышек переплета, которые оказались изготовленными из кедрового дерева, как это было типично для византийских манускриптов. Тип переплета явно позволял датировать кодекс IV–V веками нашей эры. Разделив дипломы[8] пергамента (всего их было 182, то есть 364 страницы), изготовленные из великолепной кожи нерожденной газели, которая изначально, вероятно, была чистейшего белого цвета, мастерская фоторепродукции начала пробы, чтобы определить, какой из двух возможных методов (инфракрасная фотография или цифровая фотография высокого разрешения с помощью охлаждаемой высокочувствительной телекамеры CCD) позволяет как можно полнее восстановить текст. В конце концов было принято решение использовать комбинацию обоих методов, так как изображения, полученные с их помощью, после обработки стереомикроскопом и сканирования могли быть легко наложены друг на друга на экране компьютера. Таким образом, пожелтевшая хрупкая велень начала раскрывать свои прекрасные тайны: от пустого или в лучшем случае заполненного тенями былых букв листа мы медленно перешли к замечательному черновому варианту унциальных[9] букв греческого письма, не имевших ни ударений, ни пробелов между словами, разделенными на два широких столбца по тридцать восемь строчек каждый. Поля были широкими и пропорциональными, а начальные буквы абзацев можно было легко отличить, так как они выходили на левое поле и были написаны пурпурным цветом в отличие от всего остального текста, написанного черными чернилами на основе сажи.
Когда реставрация первого диплома была завершена, текст все еще нельзя было прочитать целиком: в нем было множество неполных слов и фраз, которые, на первый взгляд, восстановить было невозможно, целые фрагменты, в которых инфракрасные лучи, стереомикроскоп и высокочувствительная цифровая съемка не смогли обнаружить ничего примечательного. Тогда настал черед отдела информатики. С помощью сложных программ графического дизайна из восстановленного текста выбрали набор букв, и, принимая во внимание, что текст рукописный, а значит, написание знаков варьируется, нашли пять разных написаний каждой буквы. Затем терпеливо измерили вертикальные и горизонтальные черточки, кривые и диагональные линии и пустые промежутки каждой буквы, толщину и ширину основы, глубину нисходящих с нее линий и высоту линий восходящих, и когда все это было сделано, меня позвали, чтобы продемонстрировать мне самое любопытное действо, которое мне приходилось когда-либо наблюдать: имея полное изображение диплома на экране монитора, программа автоматически с непостижимой скоростью подставляла буквы, которые помещались в пустые промежутки, и проверяла, соответствуют ли они остаткам или следам чернил на велени, если таковые имелись. Когда недостающее звено в цепочке находилось, компьютер проверял, есть ли получившееся слово в словаре замечательной программы «Ibycus», в которую были внесены все известные произведения греческой литературы (библейской, патриотической и классической), а если это слово ранее встречалось в тексте, он сравнивал и его написание, чтобы убедиться в точности находки.
Как я сказала, все происходило очень быстро, но, несмотря на это, процесс был очень кропотливый, так что только после целого дня они смогли выдать мне наконец полное изображение первого диплома в почти идеальном состоянии — 95 % текста было восстановлено. Чудо свершилось: дух, погруженный в летаргический сон в кодексе Иясуса, вернулся к жизни, и настал момент, когда я могла прочесть его слова и понять его смысл.
Я была искренне взволнована, когда, вернувшись в Гипогей после мессы в четвертое воскресенье Великого Поста в соборе Святого Петра, я наконец уселась за свой рабочий стол и надела на нос очки, готовая начать работу. Мои помощники, у которых была такая же копия, как у меня, также были готовы начать палеографический анализ, основанный на изучении элементов письма: его строения, угловатости и наклона, «дуктуса»[10], лигатур, связок, ритма, стиля и т. д.
К счастью, в византийском варианте греческого языка очень мало использовались сокращения часто встречающихся слов и стяжки, так типичные для латыни и средневековых копий классических авторов. Однако в порядке компенсации за эту поблажку особенности такого развитого языка, как греческий эпохи Византии, могли привести к значительным заблуждениям, так как ни манера письма, ни значение слов не были такими же, как во времена Эсхила, Платона или Аристотеля.
Прочтя первый диплом кодекса Иясуса, я вся загорелась. Писец, упомянувший, что ранее он носил имя Мирогена из Неаполиса, но в момент написания текста именовавший себя все время Катоном, сообщал, что по воле Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа несколько братьев доброй воли, дьяконов[11] храма Гроба Господня в Иерусалиме и набожных поклонников Честного Креста, организовали нечто вроде братства под названием ΣΤΑΥΡΟΦΥΛΑΧΕΣ («ставрофилахи») или «хранители Креста». Его, Мирогена, избрали архимандритом братства под именем Катона в первый день первого месяца 5850 года.
— Пять тысяч восемьсот пятидесятого? — удивился Глаузер-Рёйст.
Капитан с профессором сидели передо мной, по другую сторону стола, и слушали, как я расшифровывала содержание диплома.
— На самом деле, — пояснила я, подняв на лоб очки, — этот год соответствует 341 году нашей эры. Византийцы начинали отсчет времени от 1 сентября 5509 года, когда, по их верованиям, Бог создал землю.
— То есть этот Мироген, — заключил профессор, с силой сцепляя пальцы рук, — византиец, дьякон храма Гроба Господня, становится главой братства ставрофилахов 1 сентября 341 года, если не ошибаюсь, пятнадцать лет спустя после находки Честного Креста святой Еленой.
— И с этого момента, — прибавила я, — нарекается Катоном и начинает писать эту летопись.
— Надо было бы найти дополнительную информацию об этом братстве, — вставая с места, предложил капитан. Хоть он и был координатором операции, занят он был меньше всех и очень хотел чувствовать себя полезным. — Я этим займусь.
— Хорошая мысль, — кивнула я. — Необходимо получить историческое подтверждение существования ставрофилахов из других источников, помимо кодекса.
В дверь лаборатории тихо постучали. С улыбкой во весь рот вошел префект Рамондино.
— Я хочу пригласить вас пообедать в ресторан «Дома святой Марты», если вы не возражаете, — с довольным видом произнес он, — чтобы отметить ваши успехи в расследовании.
Но расследование шло далеко не так успешно, как мы полагали: в тот же вечер, в то время, как я с почестями возвращалась в крохотную квартирку на площади Васкетте, была похищена важная реликвия Животворящего Древа, исчезнувшая из серебряного реликвария из монастыря Сен-Гюдюль в Брюсселе.
Капитана Глаузер-Рёйста не было весь понедельник. Как только в Ватикане получили известие о краже, он первым же самолетом вылетел в Брюссель и вернулся только во вторник днем. Пока его не было, мы с профессором Босвеллом продолжали работать в лаборатории Гипогея. По мере того как реставраторы совершенствовали свои методы работы, ускоряя процесс, восстановленные дипломы поступали ко мне на стол все быстрее и быстрее, и из-за этой быстроты у меня часто было не больше двух-трех часов, чтобы прочесть и начисто переписать рукописный текст, до того, как приносили следующую порцию данных.
Кажется, именно вечером того понедельника в начале апреля мы с профессором Босвеллом в полном одиночестве ужинали в служебном кафетерии тайного архива. Вначале я думала, что будет сложно поддерживать разговор с таким стеснительным и молчаливым человеком, но профессор скоро проявил себя очень приятным собеседником. Мы много говорили на разные темы. После того, как он снова рассказал мне всю историю похищения кодекса, он поинтересовался моей семьей. Он спросил, есть ли у меня братья и сестры и живы ли еще мои родители. Сначала, удивившись таким поворотом беседы в сторону личной жизни, я ответила очень коротко, но, услышав, сколько нас в племени Салина, он захотел узнать обо всех поподробнее. Помню, я даже нарисовала ему на салфетке схему, чтобы он мог представить, о ком я говорю. Удивительно все-таки найти кого-то, кто умеет слушать. Профессор Босвелл не задавал прямых вопросов, даже не проявлял особенного любопытства. Он просто внимательно смотрел на меня и в нужный момент кивал или улыбался. И, разумеется, я попалась на крючок. Прежде чем опомниться, я уже рассказала ему всю свою жизнь. Он весело смеялся, и я решила, что настало время перейти к контратаке, потому что вдруг почувствовала себя совершенно беззащитной, словно я слишком проговорилась и испытывала какое-то чувство вины. Так что я спросила его, не беспокоит ли его возможная потеря работы в Греко-Римском музее Александрии. Он нахмурился и снял очки, устало потирая переносицу.
— Работа… — пробормотал он и ненадолго задумался. — Вы не знаете, что происходит в Египте, так ведь, доктор?
— Нет, не знаю, — в недоумении ответила я.
— Понимаете… Я копт, а быть в Египте коптом означает быть парией.
— Профессор, вы меня удивляете, — ответила я. — Ведь вы, копты, являетесь настоящими потомками древних египтян. Арабы пришли намного позже. Ведь даже ваш язык, коптский язык, происходит прямо от демотического, на котором говорили во времена фараонов.
— Да, но… знаете, все не так прекрасно, как вам кажется. Если бы все думали, как вы. На самом деле копты в Египте — этническое меньшинство, разделенное к тому же на католиков и православных. С начала фундаменталистской революции «ирхебины»… я имею в виду — террористы исламской группировки «Аль-Гамаа аль-Исламийя» постоянно убивают членов наших маленьких общин: в апреле 1992 года они застрелили четырнадцать коптов в провинции Асьют за то, что те отказались платить за «крышу». В 1994 году группа вооруженных «ирхебинов» напала на коптский монастырь Дейр-эль-Мухаррак недалеко от Асьюта, убила монахов и прихожан, — вздохнул он. — Теракты, кражи, угрозы, побои происходят постоянно… В последнее время они начали закладывать бомбы на входе в главные церкви Александрии и Каира.
Про себя я подумала, что, очевидно, египетское правительство не прилагает особых усилий, чтобы помешать этим преступлениям.
— К счастью, — вдруг, рассмеявшись, воскликнул он, — должен признать, я плохой копто-католик. Уже много лет я не хожу в церковь, и это спасло мне жизнь.
Не переставая улыбаться, он надел очки, аккуратно приладив их за ушами.
— В июне прошлого года «Аль-Гамаа аль-Исламийя» заложила бомбу на входе в церковь Святого Антония в Александрии. Погибли пятнадцать человек. Среди них мой младший брат Юханна, его жена Зоэ и их пятимесячный сын.
Я онемела от потрясения и ужаса и опустила глаза.
— Какой ужас… — еле смогла я проговорить.
— Ну, для них… для них страдания окончены. Не окончены они для моего отца, он никогда не сможет это пережить. Вчера, когда я ему звонил, он просил, чтобы я не возвращался в Александрию, чтобы я остался здесь.
Я не знала, что сказать. Какие слова уместны при таких горестях?
— Моя работа мне нравилась, — продолжал он. — Но если я ее потерял, а это кажется наиболее вероятным, я начну все сначала. Могу сделать это в Италии, как хочет отец, подальше от опасностей. У меня даже гражданство есть. От матери, вы же знаете.
— Ах да! Ваша мать была ведь итальянкой, да?
— Она родом из Флоренции, если быть точным. В середине пятидесятых годов, когда снова вошел в моду Египет и фараоны, моя мать только-только окончила факультет археологии и получила стипендию для работы на раскопках Оксиринха. Мой отец, тоже археолог, однажды заехал туда в гости, и видите, что вышло… Жизнь — странная штука! Мать всегда говорила, что вышла замуж за отца, потому что он носит фамилию Босвелл. Но она, конечно, шутила. — Он снова улыбнулся. — На самом деле мои родители были счастливой парой. Она хорошо адаптировалась к обычаям своей новой страны и к новой религии, хотя в глубине души ей всегда больше нравился римско-католический обряд.
Мне очень хотелось узнать, унаследовал ли он глаза такого насыщенного цвета морской волны от матери (у многих итальянок в северной части страны глаза голубые) или от далекого английского предка, но спросить его об этом мне показалось неудобным.
— Профессор Босвелл… — начала я.
— Вы не против, если мы будем называть друг друга по имени, доктор? — перебил он меня, как всегда, внимательно глядя в глаза. — Здесь все ведут себя слишком церемонно.
Я усмехнулась.
— Потому что здесь, в Ватикане, — пояснила я, — личные отношения строятся в очень жестких рамках.
— Ну а что, если мы преступим рамки? Вы думаете, монсеньор Турнье или капитан Глаузер-Рёйст будут шокированы?
Я расхохоталась.
— Точно! — борясь с приступом икоты, выговорила я. — Ну и пусть злятся!
— Чудесно! — воскликнул профессор. — Значит… Оттавия?
— Приятно познакомиться, Фараг.
И мы пожали друг другу руки над столом.
В тот день я узнала, что профессор Босвелл, Фараг, — приятнейший человек, абсолютно не похожий на Босвелла, который появлялся на людях. Я поняла, что профессора смущают не люди, они ему нравятся, а группы людей, и чем они многочисленнее, тем хуже: он заикался, моргал, задыхался, все время поправлял очки, сомневался, откашливался…
На следующий день из Брюсселя вернулся Глаузер-Рёйст. Он появился в лаборатории с хмурым лицом, насупленными бровями и сжатыми в тончайшую, почти незаметную линию губами.
— Плохие вести, капитан? — увидев его, спросила я, отрывая глаза от диплома (уже четвертого), который мне только что принесли.
— Плохие, очень плохие.
— Пожалуйста, сядьте, расскажите.
— Рассказывать нечего, — процедил он сквозь зубы, плюхаясь на стул, заскрипевший под его весом. — Нечего. Никаких следов, признаков насилия, взломанных дверей, никаких улик или зацепок. Безупречная кража. Въезд в страну за последние недели какого-нибудь эфиопа тоже не подтвердился. Бельгийская полиция допросит проживающих в стране эфиопов на случай, если они смогут предоставить какую-то информацию. Они позвонят мне, если появятся новости.
— Возможно, в этот раз вор — не эфиоп, — предположила я.
— Мы уже об этом думали. Но больше у нас ничего нет.
Он рассеянно оглянулся.
— А как дела у вас? — спросил он наконец, увидев лежащий на столе диплом. — Сильно продвинулись?
— Процесс идет все быстрее, — удовлетворенно кивнула я. — Вообще-то пробка образуется на мне. Я не могу расшифровывать и переводить со скоростью, с которой работают все остальные в группе. Это очень сложные тексты.
— Кто-то из ваших помощников может вам помочь?
— У них и так масса проблем с палеографическим анализом! Пока они работают над вторым Катоном.
— Вторым Катоном? — поднимая брови, спросил он.
— Да, да! Похоже, Мироген вскоре умер, в 344 году. После него братство ставрофилахов выбрало архимандритом некого Пертинакса. Сейчас мы над ним работаем. По оценкам моих помощников, Катон II (так он сам себя называет) был очень образованным человеком с изысканным словарным запасом. Греческий язык, на котором говорили в Византии, — пояснила я, — по произношению очень отличался от классического греческого, на основе которого были закреплены лингвистические и лексикографические нормы. — Капитан непонимающе посмотрел на меня, так что я привела пример: — Тогда происходило то, что теперь происходит с современным английским: детям сначала приходится научиться произносить слова по буквам, а потом запоминать их, потому что устная речь не имеет ничего общего с письменной. После веков изменений византийский греческий был не менее сложным.
— А, понятно, понятно!..
Слава Богу, с облегчением подумала я.
— Пертинакс, или Катон II, вероятно, получил хорошее образование в каком-то монастыре, где переписывались манускрипты. Грамматика у него безупречная, а стиль очень изящен в отличие от писаний Катона I, похоже, не очень образованного человека. Кое-кто из моих помощников считает, что Пертинакс скорее не бывший монах, а, возможно, кто-то из членов королевской семьи или константинопольской знати, потому что его почерк отличается элегантностью, пожалуй, можно сказать, он слишком изящен для монаха.
— И о чем пишет Катон II?
— Я только что закончила его летопись, — удовлетворенно заявила я. — Во время его правления братство чрезвычайно разрослось. На религиозные празднества в Иерусалим приезжало множество паломников, и многие из них навсегда оставались на Святой Земле. Некоторые из этих иностранцев стали членами братства, и Катон II пишет о том, как сложно управлять такой многочисленной и разношерстной общиной. Он даже предлагает ввести ограничения на прием новых членов, но не решается это сделать, потому что Патриарх Иерусалимский очень доволен ростом братства. В эти годы… — сказала я, сверяясь с записями, — Патриархом должен был быть Максим II или Кирилл I. Я уже попросила в архиве, чтобы они просмотрели их биографии, может быть, там что-то найдется.
— Кто-то искал прямую информацию о братстве в базах данных?
— Нет, капитан. Это ваше занятие. Неужели забыли, что вы сами вызвались?
Глаузер-Рёйст тяжело встал, будто движения давались ему с трудом. В его элегантнейшем костюме, помявшемся и неряшливом после поездки, была заметна странная, абсолютно несвойственная ему небрежность. Он выглядел удрученным.
— Я приму душ в казармах и вечером вернусь, чтобы взяться за дело.
— Мы с профессором Босвеллом и префектом скоро поднимемся в служебный кафетерий. Если вы хотите с нами пообедать…
— Не ждите меня, — отказался он, выходя из лаборатории. — У меня срочная аудиенция с государственным секретарем и Его Святейшеством.
За Катоном II последовали Катон III, Катон IV, Катон V… По какой-то непонятной причине все архимандриты ставрофилахов избирали это странное имя как символ верховной власти в этом братстве. Таким образом, ко всем известным титулам Папы и Патриарха добавлялся еще этот странный Катон. Профессор Босвелл на целый день закрылся в библиотеке с семью толстыми фолиантами «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха[12] и досконально проштудировал биографии двух единственных известных в истории Катонов: римских политиков Марка Катона и Катона Утического. Через несколько долгих часов он вернулся из библиотеки с относительно правдоподобной теорией, которую мы временно одобрили ввиду отсутствия какой бы то ни было другой.
— Думаю, не может быть и малейших сомнений, — очень уверенно сказал нам он, — что один из этих двух Катонов стал образцом для архимандритов ставрофилахов.
Мы сидели у меня в лаборатории вокруг моего старого деревянного стола, покрытого бумагами и записями.
— Марк Катон, которого называют Катоном Старшим, — продолжил он, — был сумасшедшим фанатиком, защитником самых старых и традиционных римских ценностей, на манер американцев-южан, которые верят в превосходство белой расы и симпатизируют ку-клукс-клану. Он презирал греческий язык и культуру, потому что считал, что они ослабляют римлян, и по этой же причине ненавидел все иноземное. Он был тверд и холоден, как камень.
— Ну и портрет ты нарисовал! — весело заявила я. Глаузер-Рёйст взглянул на меня с тем самым странным неудовольствием, с каким смотрел все время, с тех пор как понял, что мы с Фарагом сошлись лучше, чем с ним.
— Он служил Риму как квестор, эдил, претор, консул и цензор между 204-м и 184 годами до нашей эры. Будучи богат, вел чрезвычайно умеренный образ жизни и считал излишними все ненужные расходы, например, расходы на еду для старых рабов, которые уже не могут работать. Он просто их убивал для экономии и советовал римским гражданам следовать его примеру во благо Республики. Он считал себя совершенством и образцом для подражания.
— Этот Катон мне не нравится, — заявил Глаузер-Рёйст, аккуратно складывая вчетверо один из моих листков с записями.
— Да, мне тоже, — согласился Фараг, кивая головой. — Несомненно, внимание братства привлек другой Катон, Катон Утический, правнук первого и человек, достойный всякого восхищения. Будучи квестором Республики он вернул казначейству Рима честность, которой оно лишилось много веков назад. Это был в высшей степени порядочный и искренний человек. Как судья он был неподкупен и беспристрастен, так как питал уверенность в том, что для того, чтобы быть справедливым, нужно просто этого захотеть. Его искренность вошла в пословицу, и в Риме, желая что-то категорически опровергнуть, говорили: «Это не так, пусть даже это сказал сам Катон!» Он был ярым противником Юлия Цезаря, которого не без оснований обвинял в коррупции, амбициозности и грязных манипуляциях, а также в том, что тот хотел единовластно править во всем Риме, который в то время был Республикой. Они с Цезарем до смерти ненавидели друг друга. Долгие годы они продолжали ожесточенную борьбу, один с тем, чтобы стать единоличным господином великой империи, а другой с тем, чтобы ему помешать. Когда наконец Юлий Цезарь добился триумфа, Катон уехал в Утику, где у него была вилла, и распорол себе живот мечом, так как, по его словам, ему не хватало трусости на то, чтобы просить Цезаря сохранить ему жизнь, и храбрости на то, чтобы просить прощения у своего врага.
— Интересно… — заметил Глаузер-Рёйст, внимательно слушавший рассказ Фарага. — Имя Цезаря, великого врага Катона, со временем стало титулом римских императоров, цезарей, так же, как имя Катона превратилось в титул архимандритов братства — Катонов.
— Действительно интересно, — согласилась я.
— Катон Утический стал образцом свободолюбия, — продолжал Фараг, — так что Сенека, например, говорит: «Ни Катон не жил, когда умерла свобода, ни свободы не было после смерти Катона»[13], а Валерий Максим вопрошает: «Что будет со свободой без Катона?»[14]
— То есть имя Катона стало синонимом честности и свободы, как имя Цезаря — синонимом безграничной власти? — уточнила я.
— Именно, — ответил профессор, и мы одновременно и одинаковым жестом поправили очки на переносицах.
— Это… действительно очень странно, — согласился Глаузер-Рёйст, по очереди глядя то на него, то на меня.
— Мы находим интересные фрагменты в этой невероятной головоломке, — заметила я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. — Самое замечательное — то, что мне удалось вычитать в летописи Катона V.
— Что же? — заинтригованно спросил Фараг.
— Катоны писали летопись в монастыре Святой Екатерины на Синае!
— Серьезно?
Я решительно кивнула.
— В общем-то я подозревала об этом, потому что такой кодекс, как кодекс Иясуса, не могли сделать где-нибудь вне монастыря или какой-нибудь крупной константинопольской библиотеки. Велень нужно разрезать и проколоть в ней крошечные отверстия, отмечающие начало и конец текста на странице; надо ее разлиновать (линии процарапывались шильцем), чтобы строчки были ровными, надо начертить инициалы каждого абзаца или нарисовать миниатюру… В общем, это кропотливая работа, для которой нужны опытные руки. И не нужно забывать, что дипломы нужно еще переплести. Катоны явно пользовались услугами какой-то специальной мастерской, а поскольку содержание летописи считалось секретным, это мог быть только самый удаленный от мира монастырь.
— Но монастырей, которые могли бы сделать эту работу, сотни! — возразил Фараг.
— Да, это правда, но монастырь Святой Екатерины был воздвигнут по воле святой Елены, императрицы, нашедшей Крест Господень, и не забывай, что именно там вы нашли кодекс. Логично предположить, что кодекс хранился в монастыре и либо Катоны приезжали туда, чтобы написать свою летопись, либо кодекс отсылали им, а потом они возвращали его в монастырь. Это объясняет то, что о нем потом забыли. Может быть, ставрофилахи уже не пишут летописей или случилось что-то, что им помешало это сделать. Так или иначе, Катон V пишет, что его путешествие в монастырь Святой Екатерины было сложным и опасным, но, будучи в таком возрасте, он не мог больше откладывать этот момент.
— Насколько я понимаю, отношения между братством и монастырем должны были быть очень тесными, — вставил Фараг. — Наверное, мы никогда не узнаем, насколько тесными.
— Что еще мы знаем?
— Ну… — Я перелистала свои быстрые заметки, сделанные наспех из толстых отчетов, которые мне предоставляли мои помощники. — Еще много не переведено, но можно сказать, что большинство Катонов заполняют своей летописью только несколько строчек, другие исписывают страницу или диплом, некоторые — еще больше: два или три диплома, но таких меньше всего. Однако все они без исключения едут в монастырь Святой Екатерины в 5–10 последних лет своей жизни, и если забывают или не могут упомянуть о чем-нибудь важном, в начале своей летописи об этом повествует следующий Катон.
— Нам известно, сколько всего было Катонов?
— С точностью сказать я не могу, капитан. Отдел информатики еще не восстановил полный текст рукописи, но до завоевания Иерусалима персидским царем Хосроем II в 614 году было тридцать шесть Катонов.
— Тридцать шесть Катонов! — восхитился капитан. — И что случилось в братстве за это время?
— Да, похоже, ничего особенного! Его главной проблемой были латинские паломники, которые тысячами приезжали в памятные даты. Им пришлось организовать рядом с Животворящим Древом нечто вроде преторианской гвардии ставрофилахов, потому что, кроме прочих непотребств, многие паломники, склонившись для поцелуя, выдирали из Креста зубами щепки, чтобы увезти их с собой как реликвию. Около 570 года, во время правления Катона XXX, разразился громкий скандал. Группа подкупленных ставрофилахов организовала похищение реликвии. Это были бывшие паломники, которые вступили в братство за год до этих событий и которых никто никогда бы не заподозрил, если бы их не поймали на горячем. Тогда снова начались старые споры о принятии новых членов. Судя по всему, туда набивалась всякая латинская шваль, готовая урвать кусок и удрать. Но даже в этом случае и в последовавшие за ним годы ничего предпринято не было. Иерусалимский, Александрийский и Константинопольский Патриархи оказывали большое давление, чтобы предотвратить возможные изменения, поскольку миссия охраны порядка, выполняемая ставрофилахами, высоко ценилась, и они не хотели, чтобы братство стало подобием закрытого клуба с ограниченным доступом.
— А вы, капитан? — вдруг с интересом спросил Фараг. — Вы нашли дополнительную информацию о ставрофилахах, которую собирались искать?
В последние дни мы видели, как он лихорадочно работает за компьютером, распечатывает страницу за страницей и раз за разом их перечитывает. Я ждала, что он в любую минуту сообщит нам о какой-нибудь интересной находке, но дни шли, и Кремень опять был самим собой: невозмутимым и молчаливым Кремнем.
— Я действительно искал, но абсолютно ничего не нашел. — Казалось, он погрузился в глубокие раздумья. — Ну… это не совсем верно. Я нашел одно упоминание, но оно так незначительно, что я не думал, что о нем стоит и говорить.
— Капитан, прошу вас! — возразила я в справедливом негодовании.
— Ну хорошо, слушайте… — начал он и потянул за края пиджака, одергивая его. — Это упоминание я нашел в любопытной рукописи галисийской монахини.
— В «Путешествии» Эгерии? — язвительно перебила я. — Я уже говорила вам об этой книге, когда мы разыскивали данные о монастыре Святой Екатерины на Синае.
Капитан кивнул.
— Именно, в «Путешествии» Эгерии, написанном между Пасхой 381-го и Пасхой 384 года. Ну вот, в главе, где она описывает литургию в Пасхальную пятницу в Иерусалиме, она утверждает, что ставрофилахи отвечали за охрану реликвии и следили за приближающимися к ней верующими. Испанская монахиня видела их собственными глазами.
— Значит, все подтверждается! — радостно провозгласил Фараг. — Ставрофилахи существовали! Кодекс Иясуса говорит правду.
— Значит, за работу, — грубо пробурчал Глаузер-Рёйст. — Государственный секретарь очень недоволен отсутствием результатов.
* * *
Впервые в своей жизни я не заметила наступления Страстной недели. Я не была на мессе в Вербное воскресенье, в Страстной четверг и в Пасхальное воскресенье; не пошла на покаянное поминовение страстей Господних и на Пасхальную всенощную службу. Вплоть до того, что я даже пропустила еженедельную исповедь у доброго отца Пинтонелло. Все, кто находился в Гипогее, получили папскую привилегию, которая освободила нас от религиозных обязанностей. Его Святейшество появился во всех средствах массовой информации за отправлением службы Страстной недели (доказывая этим, что ошибаются все те, кто толкует о его немощи) и хотел, чтобы мы продолжали работать под землей, пока не решим проблему. И, откровенно говоря, несмотря на усталость, мы проявляли настоящее рвение: мы перестали ходить в служебный кафетерий, потому что нам приносили еду в лабораторию; перестали возвращаться на ночь домой, потому что нам подготовили номера в «Доме святой Марты»; отбросили отдых и перерывы, потому что у нас уже просто не было времени. Мы стали добровольными затворниками, постоянно одолеваемыми одной лихорадкой: лихорадкой увлекательного открытия хранимого на протяжении веков секрета.
Единственным, кто довольно часто выходил оттуда, был капитан. Кроме того, что у него были обычные встречи с государственным секретарем Анджело Содано, на которых он информировал кардинала о продвижении расследования, Глаузер-Рёйст ночевал в казарме швейцарской гвардии (у офицеров и унтер-офицеров там были отдельные комнаты) и иногда проводил там по нескольку часов, тренируясь на стрельбище и решая проблемы, о которых мы не имели ни малейшего понятия. Загадочный человек был этот капитан Глаузер-Рёйст: сдержанный, немногословный, почти всегда молчаливый, а иногда даже немного зловещий. По крайней мере так казалось мне, потому что Фараг так не считал. Он был уверен, что Глаузер-Рёйст — простой и приятный человек, который страдает от того, какую работу ему приходится делать. Они много говорили в Египте во время многочасовой поездки на джипе, когда проехали из одного конца страны в другой, и хотя капитан не открыл ему, в чем заключались его обязанности, Фараг почувствовал, что они не слишком ему по сердцу.
— Ну а что еще он тебе говорил? — спросила я, умирая от любопытства, однажды, когда мы вдвоем сидели в моей лаборатории и работали (наконец-то!) над одним из последних двойных листов кодекса. — Упомянул какие-то детали, или рассказал о себе, или проговорился про что-то интересное?
Фараг от души рассмеялся. Белые зубы заблестели на фоне темной кожи.
— Единственное, что я помню, — весело сказал он, стараясь скрыть арабский акцент при произношении, — это что он сказал, что пошел в швейцарскую гвардию, потому что там служили все члены его семьи с тех пор, как его предок, командир швейцарской гвардии Каспар Рейст, спас Папу Климента VI от войск Карла V во время разграбления Рима.
— Вот так да! Значит, капитан из знатной семьи!
— Еще он сказал, что родился в Берне и окончил университет в Цюрихе.
— И что он изучал?
— Агрономию.
Я оторопела.
— Аграрную инженерию?..
— А что в этом такого? — удивился он. — Ну, может, это тебе больше понравится: кажется, он сказал, что окончил еще Римский университет по специальности «Итальянская литература».
— Не могу себе представить, чтобы он строил парники для овощей-фруктов, — наугад произнесла я, все еще находясь под впечатлением.
Фараг так рассмеялся, что ему пришлось утирать слезы ладонями.
— Ты невыносима! Вбила себе что-то в голову и… — Он на секунду взглянул на меня блестящими глазами и тут же качнул головой и ткнул пальцем в диплом, который мы так и не закончили. — Может, вернемся к работе?
— Да, так будет лучше. Мы остановились здесь. — И я отметила ручкой точку посредине второго столбца страницы.
Когда персидский царь Хосрой II захватил Иерусалим в 614 году, братство ставрофилахов вступило в полосу кризиса. После победы Хосрой увез Животворящее Древо в Ктесифон, столицу империи, и положил его у ног своего трона как символ собственной божественности. Самые слабые члены братства в страхе бежали и рассеялись, а те немногие, кто остался под руководством Катона XXXVI, считая себя виновными в утрате реликвии, принялись искупать свое мнимое нерадение ужасными постами, епитимьями, бичеваниями и приношением разных жертв. Некоторые даже умерли от ран, нанесенных самоистязанием. Прошло пятнадцать горестных лет, на протяжении которых византийский император Ираклий продолжал воевать с Хосроем II, пока окончательно не одолел его в 628 году. Вскоре после этого, во время волнующей церемонии, проведенной 14 сентября того же года, Истинный Крест вернули в Иерусалим, и сам император пронес его через город. Ставрофилахи почтили это событие активным участием в процессии и в торжественном религиозном обряде воздвижения реликвии на ее место. С тех пор этот день, 14 сентября, навсегда отмечен в церковных календарях как праздник Воздвижения Честного Креста Господня.
Но время горестей не кончилось. Всего девять лет спустя, в 637 году, к воротам Иерусалима подошла другая могучая армия: мусульмане во главе с халифом Омаром. К тому времени у братства был новый, тридцать седьмой, Катон, носивший ранее имя Анастасий, который решил, что нечего сидеть сложа руки при виде приближающейся опасности. Когда по городу распространились вести о новом нашествии, Катон XXXVII выслал для переговоров с халифом группу старших ставрофилахов. Был подписан секретный договор, и сохранность Честного Креста была гарантирована в обмен за помощь братства в поисках христианских и иудейских сокровищ, тщательно спрятанных горожанами, как только те узнали о приближении мусульман. Омар выполнил свое слово, а ставрофилахи — свое. На протяжении многих лет был мир, и все три монотеистические религии — христианская, иудейская и мусульманская — мирно сосуществовали.
В этот период затишья братство в корне преобразилось. Усвоив урок с потерей Честного Креста во время персидского нашествия и с отличным результатом своего позднейшего договора с арабами, как никогда убежденные в том, что их простая миссия заключалась сугубо в охране Святого Древа, ставрофилахи стали более скрытными, менее зависимыми от патриархатов, более незаметными, а также намного более могущественными. В их рядах появились люди из лучших семейств Константинополя, Антиохии, Александрии, Афин и итальянских городов Флоренции, Равенны, Милана, Рима… Это уже не была группка крепких парней, готовых загрызть паломников, осмелившихся прикоснуться к Кресту Господнему. Это были хорошо обученные, образованные люди, скорее военные и дипломаты, чем дьяконы и монахи.
Как они этого добились? Да сделав то, что еще в IV веке предлагал Катон II: установили некоторые правила приема. Новые члены братства должны были уметь читать и писать, владеть латынью и греческим, знать математику и музыку, астрологию и философию, а кроме того, пройти определенные испытания на физическую силу и выносливость. Постепенно ставрофилахи стали важной независимой организацией, радеющей о выполнении своей особой миссии.
Проблемы начались с прибытием новых волн паломников из Европы, среди которых были люди разных классов и сословий, но преобладали бродяги, нищие, воры, аскеты, искатели приключений и мистики; живописные персонажи, искавшие себе место, где можно было жить и умереть. В IX и X веках ситуация ухудшилась, халифы Иерусалима перестали проявлять такое великодушие, как Омар, и запретили латинянам вход в святые места. В 1009 году халиф Аль-Хакем, сумасшедший, с которым у Иерусалимского патриархата и у самого братства уже бывали серьезные проблемы, приказал разрушить все немусульманские святилища. Пока воины Аль-Хакема ровняли с землей церковь за церковью и храм за храмом, ставрофилахи бросились спасать Крест и спрятали его в месте, приготовленном ими на такой случай: в потайном склепе под самим храмом Гроба Господня, где обычно хранилась реликвия. Они смогли уберечь ее от уничтожения, но ценой жизни нескольких ставрофилахов, которые вступили в рукопашный бой с солдатами, чтобы их братья смогли добраться до потайного места.
Вечером Пасхального воскресенья отдел фотографической репродукции закончил 182-й, последний, диплом, а два дня спустя, в первые дни мая, мои помощники завершили палеографический анализ. Оставалось только закончить мою работу, самую медленную и кропотливую, так что силы были перегруппированы, и другие отделы, которые уже закончили со своим заданием, от этой работы освободили, а весь мой отдел взялся за переводы. Таким образом, мы с Глаузер-Рёйстом и Фарагом смогли усесться поудобнее и читать страницы, которые нам доставляли из лаборатории.
В 1054 году, не став ни для кого неожиданностью, произошел великий раскол христианской церкви. Христиане римского и православного обряда вступили в открытый конфликт из-за ничтожных теологических нюансов и раздела власти (Рим хотел, чтобы Папа был признан единственным правонаследником Петра, а Патриархи отвергли эту идею, говоря, что все они являются законными преемниками апостола, следуя примеру первых христианских общин). Ставрофилахи не стали ни на чью сторону, несмотря на то, что их положение, таким образом, становилось невыносимым. Они оставались верны лишь себе и Кресту, и их отношение ко всем остальным характеризовалось глубоким недоверием, которое с каждыми новыми политическими или религиозными волнениями становилось все более и более явным.
Пока Катон LXVI размышлял, какие срочные меры нужно принять для защиты братства от критики и нападок, которым оно подвергалось со стороны обеих христианских церквей, Святую Землю снова охватила война: весной 1097 года в Константинополе собрались четыре больших войска крестоносцев, намеревавшихся двинуться к Иерусалиму и освободить Святые места от мусульманского ига.
Группа ставрофилахов-переговорщиков снова тайно покинула город, чтобы направиться навстречу бессчетным европейским войскам под предводительством Готфрида Бульонского. Они нашли их два месяца спустя, во время осады Антиохии после одержания победы над турецкими войсками в Никее и Дорилее. Согласно летописи Катона LXVI, Готфрид Бульонский не согласился на сделанное братством предложение. Он сказал им, что главной целью этого крестового похода является именно Истинный Крест, символ которого украшает одежду всех воинов, и что он не откажется от него ни за какие мусульманские, иудейские или православные сокровища. Он также сказал им, что поскольку ставрофилахи не захотели присоединиться к римской церкви во время великой схизмы, как только он возьмет город, он объявит об их отлучении от церкви и навсегда распустит братство.
Переговорщики вернулись в Иерусалим с дурными вестями, и хранителей Креста охватило настоящее отчаяние. Катон LXVI собрал всех ставрофилахов на ассамблею, которая состоялась в храме Гроба Господня ночью 3 июля 1098 года, и объявил им о надвигающейся опасности. Он предложил спрятать реликвию и уйти в подполье, и это предложение было единодушно поддержано присутствующими. Именно в этот момент ставрофилахи прекратили свое открытое существование.
Год спустя после месяца блокады крестоносцы с помощью осадных орудий взяли Иерусалим и в буквальном смысле слова вырезали всех его жителей. На улицах было столько крови, что лошади становились на дыбы и в ужасе ржали, а солдаты не могли ходить. В разгар этой бойни Готфрид Бульонский направился в храм Гроба Господня, чтобы взять в руки Истинный Крест, но там его не было. Он приказал привести к себе всех выживших ставрофилахов, но ни одного из них не нашли. Он предал пыткам православных священников, и они наконец признались, что среди них было трое скрытых ставрофилахов: трое самых молодых монахов по имени Агапий, Илия и Феофан, которые остались в Иерусалиме, чтобы присматривать за реликвией. Готфрид запытал их до смерти, стегая плетьми, предавая огню, а затем четвертовав. Самый слабый из них, Феофан, не устоял. Когда его уже привязали за руки и за ноги к лошадям, в последний момент он выкрикнул, что тайный склеп находится под храмом. Солдаты Готфрида Бульонского приволокли его туда, и, почти бесчувственный, он кое-как указал место. Потом его бросили на улице на произвол судьбы, и судьба его была в том, чтобы умереть от ножевых ран, нанесенных неведомой рукой.
Так Истинный Крест стал важнейшей реликвией крестоносцев, и с тех пор они возили его с собой во все битвы. Перед боем его показывали солдатам, чтобы возбудить в них боевой дух, и, как говорили они, благодаря Животворящему Древу в течение ста лет никто не смог их победить. Огромное количество фрагментов Креста были отправлены в Европу в качестве подарков королям, Папам, монастырям и знатным семействам Запада. Святое Древо было разделено на куски и роздано, как куски пирога, ибо туда, куда попадала его щепа, приплывали богатства в виде паломников и верующих. Ставрофилахи созерцали этот раздел на расстоянии, не в силах помешать ему. Их досада переросла в затаенную злобу, в слепую ярость, и они поклялись во что бы то ни стало вернуть все, что останется от Честного Креста. Но в то время эта задача была неосуществима.
Как рассказывает в летописи Катон LXXII, семьдесят второй, кое-кто из братьев внедрился к крестоносцам, чтобы лучше следить за передвижениями Древа. Они боялись, как бы Крест не попал в руки мусульман во время какой-нибудь битвы или стычки, так как и арабы, и турки прекрасно знали, какое значение он имеет для латинян, и понимали, что, отняв у них Крест, они уменьшат их победы. В то самое время, около 1150 года, другие группы ставрофилахов отправились в главные христианские города Востока и Запада. Их план заключался в налаживании отношений с влиятельными и могущественными людьми, которые могли бы выступать ходатаями от имени братства и защищать его интересы или, если представится возможность, потребовать возвращения реликвии. Отправившиеся в путь со временем связались с некоторыми из множества тайных религиозных обществ и орденов, которые изобиловали в средневековой Европе, твердо основываясь на принципах христианства: от европейских тамплиеров и катаров до обществ последователей Святой Веры, «Массени дю Сен-Грааль», братства «Компаньоннаж», миннезингеров или Верных любви. Ставрофилахи связались почти со всеми ими, происходил обмен информацией и взаимное проникновение (многие ставрофилахи стали членами этих орденов и обществ, и наоборот). Они также набрали в свои ряды много выдающихся юношей, занимавших выгодные позиции в тех городах, где они осели, чтобы они возмужали под крылом у братства, а затем заняли свое место у власти, предназначенное им семейством и рождением, но для этих мальчишек роль хранителей Честного Креста была чем-то эфемерным: Святое Древо оставалось в Иерусалиме, а Иерусалим был слишком далеко. Многие из них спустя несколько лет покидали братство, и именно один из этих перебежчиков сообщил церковных властям в Милане все, что знал о ставрофилахах. Для того молодчика это предательство не имело ни малейшего значения, жизнь его не изменилась, и он никогда не вспомнил об этом эпизоде. Однако год спустя в Иерусалиме и Константинополе членов братства, включая Катона LXXV, арестовали и посадили в тюрьму, где им напомнили, что они отлучены от церкви, а их братство распущено еще сто лет назад Готфридом Бульонским, поэтому они считаются повторно впавшими в ересь и, следовательно, осуждаются на смерть. Всех их без исключения казнили.
Следующий Катон, повествующий об этих печальных событиях в начале своего рассказа, был из ставрофилахов, осевших в Антиохии. Он созвал всех своих братьев на ассамблею в этом городе в конце 1187 года, и ему пришлось начать приветствие с ужасной новости, уже переходившей из уст в уста: предводитель айюбидов Саладин разбил крестоносцев в битве при Гаттине в Галилее и, по свидетельству присутствовавших при этом ставрофилахов, вырвал из рук побежденного короля крестоносцев Ги де Лузиньяна реликвию Честного Креста. Древо Господне попало в руки мусульман.
На этой встрече в Антиохии, затянувшейся на несколько месяцев, было принято много важных решений. Кроме избрания братьев Никифора Пантевгена, Софрония из Теллы, Иоахима ал-Сандали, Дионисия из Дара и Авраама бар-Абдуна, которым предстояло проникнуть в войско Саладина, чтобы присматривать за Честным Крестом вблизи и выкрасть его, если представится возможность, была определена также необходимость тщательного отбора будущих ставрофилахов, чтобы никогда не повторилось предательство, стоившее жизни братьям из Иерусалима и Константинополя и Катону LXXV. Для этого пятнадцать братьев из Рима, Равенны, Афин, Антиохии и Александрии возьмут на себя подготовку настолько строгого процесса инициации, чтобы только действительно самые лучшие и самые преданные могли вступить в братство. К тому, кто не сможет пройти испытания, не будет проявлено ни малейшего милосердия, его рот будет закрыт навсегда. Группе из двенадцати ставрофилахов поручили найти самое потайное и безопасное место в мире, где можно спрятать реликвию, когда она будет возвращена. Как только Крест Господень вернется в руки братства, он никогда уже не выйдет из этого места, и никогда никакому осквернителю не позволено будет к нему прикоснуться. Ни прикоснуться, ни увидеть, ибо тайник должен быть воистину неприступным. Двенадцать братьев отправятся по свету искать подходящее место, а остальные ставрофилахи в это время направят все свои усилия на срочное возвращение реликвии. Более чем восьмисотлетнее существование не могло закончиться крахом.
Через несколько месяцев во власти Саладина была уже вся Святая Земля, и крестоносцы были вынуждены отойти к берегам Тира в Ливане. За организацией Второго крестового похода стояли ставрофилахи.
В августе 1191 года Ричард Львиное Сердце наконец окружил мусульманские войска и одержал над ними победу во многих битвах. Мусульмане согласились начать переговоры о возвращении Животворящего Древа, и группа посланцев христианского короля, в которой был один ставрофилах, смогла увидеть реликвию и поклониться ей, но тут Ричард в каком-то абсурдном и необъяснимом порыве казнил две тысячи мусульманских пленных, и Саладин прервал переговоры.
Группа ставрофилахов, которой было поручено организовать процесс инициации для новых членов братства, завершила свою работу в июле 1195 года. Сообщение об этом донесли до всех братьев эмиссары, объехавшие все основные города мира, и вскоре испытаниям подвергся первый кандидат. Вот как Катон LXXVI описывал их сущность:
«Дабы души их могли в чистоте предстать перед Честным Крестом Спасителя и быть достойными простереться перед ним, должно им прежде очиститься от всех грехов и смыть с себя все бесчестье. Искупление семи тяжких смертных грехов да свершится в семи городах, облеченных ужасной славой в порочном их процветании, сии суть Рим, погрязший в гордыне, Равенна, знаменитая завистью, Иерусалим, известный гневом, Афины, несущие печать лености, Константинополь, где процветает алчность, Александрия, город чревоугодия, и Антиохия, вертеп сладострастия. В каждом из них, как в земном чистилище, да искупят они грехи свои, дабы войти в заповедное место, именуемое нами, ставрофилахами, Рай Земной, ибо ветвь Древа Добра и Зла, даденная Адаму архангелом Михаилом и посаженная им, породила Древо, из которого был сооружен Крест, где и умер Христос. И дабы братья одного города знали о случившемся в других городах, пройдя каждое испытание, соискатель да будет отмечен знаком Креста, получая один знак за каждый стертый с души смертный грех как память об искуплении. Да будут эти Кресты крестами стены монастыря Святой Екатерины в святом месте Синая, где даровал Бог Моисею скрижали Завета. Иже соискатель с семью крестами войдет в Рай Земной, мы примем его как своего брата, и он навсегда будет являть на теле своем хрисмон и священное слово, придающее смысл нашим жизням. Иже он не дойдет, да смилостивится Господь над его душой».
— Семь испытаний в семи городах… — пробормотал Фараг, пораженный услышанным. — И один из них — Александрия, из-за греха чревоугодия.
Мы уже два дня изучали и анализировали последнюю часть материалов, бурный XII век, и все, что мы читали, приближало нас к Аби-Руджу Иясусу: шрамирование в виде семи крестов Святой Екатерины, христограмма и слово «ставрос». От одной только мысли о том, что ставрофилахи еще существуют тысячу шестьсот пятьдесят девять лет спустя после основания братства, захватывало дух, но мне кажется, в этот момент никто из нас уже не сомневался, что именно они стояли за похищениями реликвий Честного Древа.
— Где же этот Рай Земной? — спросила я, снимая очки и потирая усталые глаза.
— Может быть, об этом написано в последнем дипломе, — предположил Фараг, беря со стола текст, подготовленный моими помощниками. — Ну, дело подходит к концу! Эй, капитан!
Но капитан Глаузер-Рёйст не шелохнулся. Он потерянно смотрел в одну точку.
— Капитан?.. — окликнула я его и весело взглянула на Фарага: — Кажется, он заснул.
— Нет, нет… — ошарашенно пробормотал Кремень. — Я не сплю.
— Тогда что с вами?
Мы с Фарагом смотрели на него в полнейшем изумлении. Лицо у капитана осунулось, взгляд блуждал. Он вдруг поднялся и посмотрел на нас с высоты своего огромного роста невидящими глазами.
— Продолжайте с работой. Мне нужно проверить одну вещь.
— Вам нужно что?.. — начала было я, но Глаузер-Рёйст уже вышел за дверь. Я обернулась к Фарагу, который, судя по выражению лица, тоже не мог поверить в происходящее. — Что с ним стряслось?
— Хотел бы я это знать.
В принципе поведение капитана было объяснимо: много часов в день мы работали под постоянным давлением, почти не спали, и наша жизнь проходила в искусственной атмосфере Гипогея, где мы не видели солнца и были лишены свежего воздуха. Полная противоположность полезной для здоровья прогулке на природе или деньку на пляже. Но мы очень торопились, и наши старания превышали пределы благоразумия, так как мы опасались, что в любую минуту нам могут сообщить дурные вести о какой-нибудь новой краже Честного Древа. И мы были абсолютно вымотаны.
— Давай продолжать, Оттавия.
Последний Катон — интересно, что по списку он был семьдесят седьмым, — начал свою хронику прекрасной благодарственной молитвой: в 1219 году братству удалось спасти Истинный Крест.
— Они вернули его! — взволнованно воскликнула я.
Я совсем забыла, что ставрофилахи были отрицательными персонажами.
— Это же очевидно, разве не ясно?
— Что же тут очевидного… — обиженно откликнулась я.
— Ну что ты, ведь Истинный Крест исчез! Или ты уже забыла об истории? Никто никогда не узнал, что с ним случилось.
Фараг, конечно, был прав. Я и вправду так устала, что мой мозг был больше похож на суп из нейронов.
Честное Древо таинственным образом исчезло во время пятого, последнего, крестового похода, в начале XIII века. Катон LXXVII, само собой, рассказывал об этом с другой, гораздо более пристрастной точки зрения. По его словам, в то время, как армия императора Священной Римско-Германской империи Фридриха II осаждала порт Дамиетту в дельте Нила, султан Аль-Камиль предложил вернуть Честное Древо, если латиняне покинут Египет. Незадолго до этого, преодолев многочисленные опасности и затруднения, ставрофилах Дионисий из Дары, один из пятерых братьев, которые тридцать два года назад проникли в войско Саладина, был назначен казначеем султана. Он так вошел в роль важного мамлюка-царедворца, что, когда однажды ночью он появился в скромной хибаре Никифора Пантевгена с большим свертком в руках, тот его не узнал. Оба они пали ниц перед реликвией Креста и долго плакали от счастья, а затем отправились на поиски трех остальных братьев. С первыми лучами зари пятеро переодетых ставрофилахов пустились в путь в сторону монастыря Святой Екатерины на Синае, где скрывались до тех пор, пока в сопровождении многочисленной группы братьев туда не прибыл Катон LXXVII. Именно в это время Катон LXXVII пишет свою радостную повесть, в конце которой сообщает, что братство ставрофилахов навсегда укроется в Раю Земном, который наконец отыскали другие братья.
— Но он не пишет, где это! — воскликнула я, крутя в руках листок.
— Думаю, надо дочитать до конца.
— Он не скажет, вот увидишь!
И, конечно, Катон LXXVII не писал, где находится Рай Земной. Он только упоминал, что дорога до него очень дальняя, и стало быть, поскольку подготовка к долгому путешествию уже закончена, он должен поставить точку в своем повествовании, потому что они отправляются в путь немедленно. Кодекс они поручали заботам монахов монастыря Святой Екатерины, в библиотеке которого он и пробыл уже девять веков, и он не без сожаления сообщал, что больше в нем не будут записывать историю братства. «Мои наследники, — в заключение писал он, — продолжат летопись в нашем новом убежище. Там мы сможем защитить то немногое, что из-за низости человеческой осталось от Святого Древа. Наша судьба предначертана. Да хранит нас Господь».
— Вот и все, — закончила я чтение, в отчаянии выронив лист из рук.
Мы с Фарагом надолго безмолвно застыли, как две соляные статуи, не в силах поверить, что все кончено, а знаем мы не намного больше, чем в начале. Где бы ни находился Рай Земной ставрофилахов, похищенные в наши дни в христианских церквях реликвии Честного Древа находились там, но, кроме удовлетворения от знания, кто именно является вором, нам не было дано никакой другой радости.
Долгие месяцы исследований, все силы тайного архива и ватиканской библиотеки, брошенные на выполнение этого папского поручения, бесконечные часы затворничества в Гипогее, в течение которых весь персонал работал не покладая рук… И все эти усилия почти ни к чему не привели.
Я глубоко вздохнула, резко опустив голову так, что мой подбородок коснулся груди. Усталые шейные позвонки захрустели, как раздавленное стекло.
С тех пор, как началась вся эта история, я не спала толком ни одной ночи. Меня мучила бессонница, в номере «Дома» я то и дело просыпалась от малейшего шума, который издавали маленький холодильник, деревянная мебель, настенные часы, шевеливший жалюзи ветер… А если я все-таки спала, меня выматывали длинные сны, в которых со мной происходили ужасно странные вещи. Кошмарами их назвать было нельзя, но во многих мне было действительно страшно, как в том, что мне приснился в эту ночь, когда я видела, как иду по огромному проспекту, раскопанному из-за ремонтных работ и усеянному опасными ямами, через которые мне доводилось переходить по хлипким доскам или перебираться, цепляясь за веревки.
После обескураживающего завершения нашего приключения, пребывая в неведении о том, что же случилось с капитаном, мы с Фарагом отправились в «Дом», поужинали и разошлись по своим номерам со свинцовым отчаянием на лицах. У меня совершенно опустились руки, и хотя Фараг пытался утешить меня, говоря, что, когда мы отдохнем, мы сможем выудить из истории Катонов то, что мы ищем, я улеглась в постель в совершенно подавленном состоянии, которое привело меня на раскопанный проспект, усеянный ямами.
Я висела на веревке, под ногами у меня была пустота, и я раздумывала, как бы отступить, как вдруг раздавшийся телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть на постели и открыть глаза в полной темноте. Я не знала, где я, не понимала, что это за гром, не знала, смогу ли удержать рвущееся наружу сердце, но осознавала, что сна не было и в помине и все мои чувства обострены до предела. Когда я смогла как-то отреагировать на происходящее и скоординировала свое положение в пространстве и во времени, я стукнула по выключателю, зажигая лампу, и очень раздраженно ответила на звонок.
— Да? — рыкнула я, показывая в трубку клыки.
— Доктор?
— Капитан?.. Но… Бога ради! Вы знаете, который час? — И я отчаянно попыталась сфокусировать взгляд на висевших на стене напротив кровати часах.
— Полчетвертого, — совершенно спокойно ответил Глаузер-Рёйст.
— Полчетвертого утра, капитан!
— Профессор Босвелл спустится через пять минут. Я у стойки администрации «Дома». Прошу вас поторопиться, доктор. Сколько времени вам нужно на подготовку?
— На подготовку к чему?
— Мы идем в Гипогей.
— В Гипогей? Сейчас?..
— Вы идете или нет? — Капитан начал терять терпение.
— Иду, иду! Дайте мне пять минут.
Я пошла в ванную и включила свет. Струя холодного неонового блеска резанула мне по глазам. Я умылась и почистила зубы, провела расческой по спутанным волосам и, вернувшись в комнату, быстро натянула черную юбку и толстый шерстяной свитер бежевого цвета. Захватив жакет и сумку, я вышла в коридор, все еще охваченная смутным ощущением нереальности происходящего, словно я прямиком перебралась с лесов проспекта из моего сна в лифт «Дома». Спускаясь вниз, я помолилась, прося у Бога не покидать меня, даже если я от невероятной усталости покидаю Его.
Фараг и Глаузер-Рёйст, оживленно переговариваясь, ждали меня в огромном сверкающем вестибюле. Полусонный Фараг нервно откидывал назад нечесаные пряди волос, а безупречно выглядевший капитан был на удивление бодр и свеж.
— Идемте, — увидев меня, отрубил он и направился к выходу на улицу, не оборачиваясь, чтобы убедиться, идем ли мы за ним.
Ватикан — самое маленькое государство в мире, но если прошагать пешком порядочный кусок около четырех утра по холоду и в абсолютной тишине, кажется, что идешь от одного побережья США к другому без единой остановки. Навстречу нам попадались черные лимузины с номерами «Если б видел Христос», на мгновение освещавшие нас фарами и терявшиеся в улочках Города, избегая нашего присутствия.
— Куда могут ехать кардиналы в такое время? — удивленно спросила я.
— Никуда они не едут, — сухо ответил Глаузер-Рёйст. — Они возвращаются. И лучше не спрашивайте откуда, потому что ответ вам не понравится.
Я моментально умолкла, словно на рот мне навесили замок, и подумала, что, в конце концов, капитан прав. Частная жизнь кардиналов курии действительно беспорядочна и непристойна, но это уже проблемы их совести.
— И они не боятся огласки? — поинтересовался Фараг, несмотря на резкий тон ответа капитана. — Что случится, если какая-нибудь газета все опубликует?
Глаузер-Рёйст некоторое время шагал молча.
— В этом заключается моя работа, — наконец отрезал он, — не давать выставлять на свет грязные делишки Ватикана. Церковь свята, но ее члены, несомненно, большие грешники.
Мы с профессором многозначительно переглянулись и больше не разомкнули рта до самого прихода в Гипогей. У капитана были ключи и коды доступа ко всем дверям тайного архива, и, судя по тому, как уверенно он проходил от одного контроля к другому, было ясно, что он приходит сюда в одиночку уже не первую ночь.
Наконец мы попали в мою лабораторию, которая уже не имела ничего общего с тем аккуратным кабинетом, которым она была несколько месяцев назад, и мое внимание привлекла лежавшая на моем столе толстая книга. Я направилась к ней, словно под притяжением магнита, но Глаузер-Рёйст опередил меня справа и схватил книгу, не дав мне на нее взглянуть.
— Доктор, профессор… — заговорил Кремень, заставляя нас поспешно усесться на стулья, чтобы его слушать. — Книга, которую я держу в руках, — нечто вроде путеводителя, который приведет нас к Раю Земному.
— Только не говорите, что ставрофилахи издали «Бедекер»[15]! — с сарказмом заметила я. Капитан бросил на меня испепеляющий взгляд.
— Что-то в этом роде, — ответил он, поворачивая книгу, чтобы мы увидели ее название.
На мгновение мы с Фарагом застыли, не в состоянии что-либо сказать, пораженные увиденным не меньше, чем школьники, попавшие на ритуал вуду.
— «Божественная комедия» Данте? — удивилась я.
Или капитан издевается над нами, или, что еще хуже, он совершенно спятил.
— Вот именно, «Божественная комедия» Данте.
— Но… В смысле, Данте Алигьери? — выговорил Фараг, еще более удивленный, чем я, если только это возможно.
— Профессор, разве есть еще какая-нибудь «Божественная комедия»? — вопросил Глаузер-Рёйст.
— Просто… — пробормотал Фараг, с недоверием глядя на него. — Просто, капитан, согласитесь, то, что вы говорите, бессмысленно. — Он тихонько засмеялся, будто услышал анекдот. — Ну же, Каспар, не надо нас надувать!
Вместо ответа Глаузер-Рёйст уселся на мой стол и открыл книгу на странице, помеченной наклейкой красного цвета.
— «Чистилище», — прочитал он, как старательный школьник. — Песнь первая, стихи 31 и далее. Данте подходит со своим учителем Вергилием к дверям Чистилища и говорит:
И некий старец мне предстал пред очи,
Исполненный почтенности такой,
Какой для сына полон облик отчий.
Цвет бороды был исчерна-седой,
И ей волна волос уподоблялась,
Ложась на грудь раздвоенной грядой.
Его лицо так ярко украшалось
Священным светом четырех светил,
Что это блещет солнце — мне казалось.[16]
Капитан выжидающе посмотрел на нас.
— Да, очень красиво, — заметил Фараг.
— Несомненно, очень поэтично, — цинично подтвердила я.
— Неужели вы не видите? — в отчаянии спросил Глаузер-Рёйст.
— Но что вы хотите, чтобы мы увидели? — воскликнула я.
— Старца! Разве вы его не узнаете? — Видя наши удивленные взгляды и полное непонимание, написанное на наших лицах, капитан покорно вздохнул и принялся за объяснения, как терпеливый учитель начальной школы: — Вергилий заставляет Данте почтительно преклониться перед старцем, и тот спрашивает их, кто они. Тогда Вергилий отвечает ему и говорит, что по просьбе Иисуса и Беатриче (умершей возлюбленной Данте) он показывает ему царства загробного мира. — Он перелистнул страницу и снова зачитал:
Весь грешный люд я показал ему;
И души показать ему желаю,
Врученные надзору твоему.
Ты благосклонно встреть его приход:
Он восхотел свободы, столь бесценной,
Как знают все, кто жизнь ей отдает.
Ты это знал, приняв как дар блаженный
Смерть в Утике, где ризу бытия
Совлек, чтоб в грозный день ей стать нетленной.
— Утика! Катон Утический! — закричала я. — Этот старец — Катон Утический!
— Наконец-то! Именно это я хотел, чтобы вы увидели: Катон Утический, давший имя архимандритам братства ставрофилахов, является Хранителем Чистилища в «Божественной комедии» Данте. Вам не кажется, что это значимый факт? Вы знаете, что «Божественная комедия» состоит из трех частей: «Ада», «Чистилища» и «Рая». Каждая из них была опубликована отдельно, хоть вместе они и составляют единое целое. Обратите внимание на параллели между текстом последнего Катона и Дантовыми стихами «Чистилища». — Он полистал страницы вперед и назад и взял с моего стола список с последнего двойного листа кодекса Иясуса. — В стихе 82 Вергилий говорит Катону: «Дай нам войти в твои семь царств», поскольку Данте должен очиститься от семи смертных грехов, по одному на каждый круг или уступ горы Чистилища: гордыни, зависти, гнева, лености, алчности, чревоугодия и сладострастия, — перечислил он. После чего взял список с двойного листа и зачитал: — «Искупление семи тяжких смертных грехов да свершится в семи городах, облаченных ужасной славой в порочном их процветании, сии суть Рим, погрязший в гордыне, Равенна, знаменитая завистью, Иерусалим, известный гневом, Афины, несущие печать лености, Константинополь, где процветает алчность, Александрия, город чревоугодия, и Антиохия, вертеп сладострастия. В каждом из них, как в земном чистилище, да искупят они грехи свои, дабы войти в заповедное место, именуемое нами, ставрофилахами, Рай Земной».
— И наверху горы Дантова Чистилища находится Рай Земной? — уже с интересом спросил Фараг.
— Именно так, — утвердительно кивнул Глаузер-Рёйст, — вторая часть «Божественной комедии» кончается, когда Данте, очистившись от семи смертных грехов, попадает в Рай Земной и оттуда уже может войти в Рай Небесный, которому посвящена третья и последняя часть поэмы. Но мало того, послушайте, что говорит Данте ангел, хранитель дверей Чистилища, когда тот молит его позволить ему войти:
Семь «P»[17] на лбу моем он начертал
Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул,
Когда войдешь, след этих ран», — сказал.[18]
— Семь «P», по одной за каждый смертный грех! — продолжал капитан. — Понимаете? Данте избавится от них, одной за другой, по мере того, как будет искупать грехи на семи уступах Чистилища, а ставрофилахи отмечают посвященных семью крестами, одним за каждый смертный грех, искупленный в семи городах.
Я не знала, что и думать. Неужели Данте был ставрофилахом? Это звучало несколько абсурдно. Меня не покидало ощущение, что мы плывем по бурному морю и так устали, что не видим горизонта.
— Капитан, как вы можете быть настолько уверенным в своих утверждениях? — спросила я, не в силах помешать сомнениям повлиять на тон моего голоса.
— Послушайте, доктор, я знаю эту поэму как свои пять пальцев. Я глубоко изучал ее в университете и могу заверить вас, что «Чистилище» Данте — это, как вы выразились, путеводитель «Бедекер», который приведет нас к ставрофилахам и к похищенным реликвиям Древа Господня.
— Но почему вы так уверены в этом? — упрямо настаивала я. — Может быть, это случайность. Весь материал, используемый Данте в «Божественной комедии», является частью средневековой христианской мифологии.
— Вы помните, что в середине XII века несколько групп ставрофилахов отправились из Иерусалима в главные христианские города Востока и Запада?
— Да, помню.
— И помните, что эти группы связались с катарами, обществом последователей Святой Веры, «Массени дю Сен-Грааль», миннезингерами и Верными любви, и это только немногие из этих организаций христианского и инициаторского типа?
— Да, и это помню.
— Хорошо, так позвольте сказать вам, что Данте Алигьери с ранней юности был членом общества Верных любви и со временем занял очень высокое положение среди последователей Святой Веры.
— Серьезно?.. — пробормотал Фараг, моргая от удивления. — Данте Алигьери?
— А как вы думаете, профессор, почему люди ничего не понимают, читая «Божественную комедию»? Она кажется всем красивой и слишком длинной поэмой, перегруженной метафорами, которые исследователи всегда интерпретируют в духе аллегорий, связанных со святейшей католической церковью, таинствами или другими подобными глупостями. И все думают, что Беатриче, его возлюбленная Беатриче, была дочерью Фолько Портинари, которая умерла от родов в возрасте двадцати лет. Так вот это не так, и именно поэтому никто не понимает, о чем пишет поэт, потому что все читают поэму с неправильной точки зрения. Беатриче Портинари — это не та Беатриче, о которой пишет Данте, а главным героем поэмы является вовсе не католическая церковь. «Божественную комедию» нужно расшифровывать, как поясняют некоторые специалисты. — Он отошел от стола и вытащил из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенный лист бумаги. — Вы знали, что каждая из трех частей «Божественной комедии» состоит ровно из тридцати трех песен? Знали, что в каждой из этих песен имеется ровно 115 или 160 строк, и сумма цифр этих чисел составляет 7? Думаете, что это случайность в такой колоссальной поэме, как «Божественная комедия»? Знали, что все три части — «Ад», «Чистилище» и «Рай» — оканчиваются одним и тем же словом: «светила», имеющим астрологический символизм? — Он глубоко вздохнул. — И все это — лишь малая часть секретов, скрытых в поэме. Я мог бы перечислять их десятками, но так мы никогда не закончим.
Мы с Фарагом смотрели на него с глупейшим видом. Мне никогда не пришло бы в голову, что шедевр итальянской литературы, который я возненавидела в школе оттого, что его так долго нужно было вычитывать, представлял собой компендиум эзотерической мудрости… или нет?
— Капитан, вы пытаетесь сказать нам, что «Божественная комедия» — это своего рода инициаторская книга?
— Нет, доктор, я не пытаюсь сказать вам, что это своего рода инициаторская книга. Я категорически заявляю вам, что это она и есть. В этом нет ни малейшего сомнения. Хотите еще доказательств?
— Хочу! — увлеченно воскликнул Фараг.
Капитан снова взял книгу, которую он оставил на столе, и открыл ее на другой закладке.
— Песнь девятая «Ада», стихи с 61-го по 63-й:
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
— И все? — разочарованно спросила я.
— Обратите внимание, доктор, — пояснил мне Глаузер-Рёйст, — что эти стихи находятся в девятой песни, а девять — чрезвычайно важное для Данте число, поскольку, как он утверждает во всех своих произведениях, Беатриче — это девять, а в средневековой символической нумерологии девять — это Мудрость, Высшее Знание, Наука, дающая объяснение миру за пределами веры. Кроме того, это таинственное заявление находится между шестьдесят первым и шестьдесят третьим стихом песни, сумма цифр которых составляет семь и девять, и не забывайте, что у Данте случайностей не бывает, не случайны даже запятые: в Аду девять кругов, на которых находятся души осужденных в зависимости от их грехов, в Чистилище семь уступов горы, а в Раю снова девять небес… Семь и девять, понимаете? Но я обещал вам другие доказательства, и я их вам предоставлю. — Его бесконечное хождение вперед-назад начало раздражать меня, но мне было неудобно просить его постоять на месте; казалось, что он предельно сосредоточен на том, что рассказывает. — Как утверждают большинство специалистов, Данте вступил в общество Верных любви в 1283 году, в возрасте 18 лет, вскоре после второй теоретической встречи с Беатриче (первая произошла, по его собственным словам, в «Новой жизни», когда им обоим было девять, и, как видите, вторая встреча случилась опять девять лет спустя, когда ему было 18). Верные любви были тайным обществом, ставившим целью духовное обновление христианства. Имейте в виду, что мы говорим о времени, когда коррупция уже нанесла ущерб престижу римской церкви, сосредоточившей богатства, власть, амбиции… Это было время понтификата Бонифация VIII, памятное ужасными событиями. Верные любви пытались бороться с этой развращенностью и вернуть христианству его первоначальную чистоту. Говорят даже, что Верные любви, последователи Святой Веры и францисканцы были тремя различными ветвями одного и того же терциарного ордена тамплиеров. Но это, конечно, недоказуемо. Известно только, что Данте получил образование у францисканцев и всегда поддерживал с ними тесные отношения. В общество Верных любви входили поэты Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя, Лапо Джанни, Форезе Донати, сам Данте, Гвидо Гвиницелли, Дино Фраскобальди, Гвидо Орланди и другие. Главой Верных любви во Флоренции был Гвидо Кавальканти, всегда пользовавшийся славой экстравагантной персоны и еретика, и именно он принял Данте в это тайное общество. Как образованные люди, интеллигенция развивающегося средневекового общества, они не мирились с окружающей их жизнью и во весь голос обличали аморальность церкви и попытки Рима положить конец зарождающимся свободам и научному познанию. Может ли, скажите, «Божественная комедия» быть, как это утверждают, великим религиозным творением, возвеличивающим католическую церковь, ее ценности и добродетели? Я думаю, что нет, и на самом деле даже поверхностное прочтение текста демонстрирует злобу и недовольство Данте многими Папами и кардиналами, прогнившей церковной иерархией и богатствами церкви. Однако официальные исследователи так исказили слова поэта, что заставляют его говорить то, чего он никогда не говорил.
— Но что общего у Данте со ставрофилахами? — поинтересовался Фараг.
— Простите… — смутился капитан. — Я слишком увлекся. Я хочу сказать, что Данте был связан со ставрофилахами. Он был знаком с ними и, возможно, даже какое-то время был членом братства. Но затем он, конечно, предал их.
— Предал их? — удивилась я. — Почему вы так думаете?
— Потому что он выдал их секреты, доктор. Потому что он подробно рассказал в «Чистилище» о процессе инициации братства. Нечто подобное сделал Моцарт, раскрыв ритуал инициации масонов, к которым он принадлежал, в своей опере «Волшебная флейта». Вы помните, что со смертью Моцарта также связано много загадок? Вне всякого сомнения, Данте Алигьери был ставрофилахом и воспользовался знаниями для того, чтобы достигнуть поэтического успеха, чтобы обогатить свое литературное произведение.
— Ставрофилахи бы ему этого не позволили. Они покончили бы с ним.
— А кто вам сказал, что они этого не сделали?
Я широко раскрыла рот.
— Они это сделали?
— Знаете ли вы, что после публикации «Чистилища» в 1315 году Данте исчез на четыре года? О нем ничего не известно до января 1320 года, когда… — он глотнул воздуха и посмотрел на нас в упор, — когда он внезапно снова появляется в Вероне и произносит речь о море и земле в церкви Святой Елены! Почему именно там, после четырех лет молчания? Не пытался ли он попросить прощения за то, что сделал в «Чистилище»? Нам никогда этого не узнать. Известно только, что сразу после окончания выступления он во весь опор летит в Равенну, где правит его большой друг Гвидо Новелло да Полента. Очевидно, что он искал защиты, потому что в тот самый год он получил приглашение читать лекции в Болонском университете и отказался, сославшись на опасения, что, покинув Равенну, он подвергнется серьезной опасности, опасности, о природе которой он никогда не распространялся и которую невозможно объяснить с исторической точки зрения. — Капитан на мгновение в раздумье умолк. — К несчастью, год спустя его друг Новелло попросил его об особом одолжении: заступиться за него перед венецианским дожем, который собирался захватить Равенну. Данте отправился в путь, но вернулся из этого путешествия смертельно больным, в ужасной лихорадке, от которой он вскоре скончался… Вы знаете, в какой день он умер?
Мы с Фарагом не издали ни звука. По-моему, мы даже не дышали.
— 14 сентября, в праздник Воздвижения Честного Креста Господня.
Конечно, на следующее утро ни я, ни профессор в Гипогей не явились, потому что из-за невероятных открытий капитана спать мы отправились около шести утра, и нервы у нас были на взводе. Однако днем мы все трое снова были в сборе, усевшись вокруг одного из столов в ресторане «Дома», и лица у нас были такие сонные, что испугались бы даже привидения. Хотя у пришедшего последним Глаузер-Рёйста лицо было скорее не сонным, а закаменевшим в ледяную маску, увидев которую, я встревожилась:
— Капитан, что-то случилось? На вас лица нет.
— Нет, — сухо ответил он, садясь к столу и разворачивая на коленях салфетку. Было ясно, что все уже сказано. Мы с Фарагом переглянулись и поняли друг друга с одного взгляда: лучше не настаивать. Поэтому мы завели разговор о перспективах профессора Босвелла на будущее в Италии, а Кремень замкнулся в молчании. Только за десертом он соизволил раскрыть рот, естественно, для того, чтобы сообщить нам дурные вести.
— Его Святейшество очень недоволен, — резко выпалил он.
— Не думаю, что у него есть на это основания, — возразила я. — Мы работаем изо всех сил.
— Значит, этого недостаточно, доктор. Папа сообщил мне, что очень недоволен результатами нашей работы. Если в течение ближайшего времени мы не предоставим ему результаты, он назначит на работу над этой операцией другую группу. Кроме того, информация о похищениях Честного Древа чуть не просочилась в прессу.
— Как такое может быть? — обеспокоенно спросила я.
— Много людей в разных уголках мира уже знают о происходящем. Кто-то из них проговорился. Мы смогли остановить все в последний момент, но не знаем, надолго ли.
Фараг задумчиво пощипывал нижнюю губу.
— Мне кажется, ваш Папа ошибается, — наконец сказал он. — Не понимаю, как он может угрожать нам тем, что подключит к работе другую группу исследователей. Он что, думает, что от этого мы начнем больше работать? Я бы запросто посвятил других в то, что мы уже знаем. В четыре руки работается быстрее, так ведь? Или ваш Папа действительно очень недоволен, или он обращается с нами как с маленькими детьми.
— Он очень недоволен, — пояснил Кремень. — Так что вернемся к работе.
Не прошло и получаса, как мы снова были в подвале Гипогея, сгрудившись вокруг моего стола. Капитан предложил начать с того, что каждый из нас прочтет всю «Божественную комедию», делая заметки обо всем, что привлечет наше внимание, а в конце дня мы сведем наши наблюдения воедино. Фараг не поддержал эту идею, сказав, что нас интересует только одна часть — «Чистилище», а две другие, «Ад» и «Рай», мы должны только просмотреть по верхам, не теряя времени, и полностью сосредоточиться на самом важном. Воспользовавшись этой лазейкой, я отреагировала еще более резко: положив руку на сердце, я призналась, что до смерти ненавижу «Божественную комедию», что мои учителя литературы в школе добились, что я ее не выношу, и что я не в состоянии прочесть этот талмуд, так что лучше всего перейти прямо к делу, а все остальное пропустить.
— Но, Оттавия, — не согласился Фараг, — так мы можем пропустить массу важных деталей.
— Вовсе нет, — твердо заявила я. — Капитан у нас зачем? Он от этой книги в восторге, а кроме того, знает и поэму, и автора так, словно они его родня. Пусть капитан читает весь текст, а мы поработаем над «Чистилищем».
Глаузер-Рёйст поджал губы, но ничего не сказал. Было заметно, что он недоволен.
Так мы и начали работать. В тот же день генеральный секретариат ватиканской библиотеки предоставил нам еще два экземпляра «Божественной комедии», и я заточила карандаши и приготовила блокноты, готовясь по прошествии двадцати (или более) лет снова сойтись один на один с книгой, которая казалась мне самой ужасной литературной тягомотиной за всю историю человечества. Думаю, что не преувеличу, сказав, что душа у меня болела от одного только взгляда на эту книжечку, которая угрожающе лежала у меня на столе с исхудалым орлиным профилем Данте на обложке. Я не то чтобы не могла прочитать чудесный текст Данте (в своей жизни я читала гораздо более трудные вещи: целые тома нудного научного содержания или средневековые рукописи тяжеловесной теологии и патристики!), просто я никак не могла отогнать от себя воспоминание о тех далеких школьных днях, когда нас снова и снова заставляли читать самые известные фрагменты «Божественной комедии», до исступления талдыча, что это скучное и непонятное нечто является одним из предметов величайшей гордости Италии.
Через десять минут после того, как я уселась с книгой, я снова подточила карандаши, а закончив с этим делом, решила, что неплохо бы сходить в туалет. Вскоре я вернулась и снова заняла свое место, но уже через пять минут глаза у меня начали слипаться, и я решила, что пора что-нибудь перекусить, так что я поднялась в кафетерий, заказала чашечку кофе-эспрессо и спокойно ее выпила. Потом я неохотно вернулась в Гипогей, и тут ко мне пришла отличная мысль: не теряя времени, прибрать в ящиках стола, чтобы избавиться от громадного количества ненужных бумажек и хлама, которые годами, словно по волшебству, накапливаются в углах. В семь вечера, снедаемая угрызениями совести, я собрала вещи и отправилась в квартиру на площади Васкетте (в которой уже много дней не появлялась), сначала, конечно, распрощавшись с Фарагом и с капитаном, которые, закрывшись в смежных с моим кабинетах, были поглощены трогательным чтением великого шедевра итальянской литературы.
Во время короткой дороги домой я читала себе суровые наставления о таких вещах, как ответственность, долг и выполнение взятых на себя обязательств. Взяла и оставила там бедолаг (такими они казались мне в ту минуту) вкалывать не за страх, а за совесть, а сама с испугу сбежала, как манерная школьница. Я поклялась себе, что на следующий день с самого утра усядусь за рабочий стол и возьмусь за дело без всяких отговорок.
Когда я открыла двери дома, мне в нос ударил сильный запах соуса болоньезе. Мой желудок в гневе проснулся и заворчал. В конце маленького, узкого коридорчика высунулась Ферма и улыбнулась мне в знак приветствия, однако на лице у нее мелькнуло беспокойство, которое бросилось мне в глаза.
— Оттавия?.. Сколько дней о тебе ни слуху ни духу! — радостно воскликнула она. — Как хорошо, что ты появилась!
Я подошла понюхать приятный аромат, шедший из кухни.
— Можно мне на ужин немного замечательного соуса, который ты готовишь? — спросила я, снимая жакет по дороге к кухне.
— Это же просто обычные спагетти! — с ложной скромностью возразила она. На самом деле Ферма готовила замечательно.
— Ладно, значит, мне необходима тарелка этих домашних спагетти с болоньезе.
— Не волнуйся, сейчас будем ужинать. Маргерита и Валерия скоро вернутся.
— А куда они пошли? — поинтересовалась я.
Ферма укоризненно взглянула на меня и резко остановилась в нескольких шагах передо мной. Мне показалось, что она с каждым днем все больше седеет, словно седина у нее множится по часам или по минутам.
— Оттавия… Разве ты не помнишь про воскресенье?
Воскресенье, воскресенье… что мы должны были делать в воскресенье?
— Ферма, не заставляй меня думать! — простонала я, на время отказываясь от ужина и направляясь к гостиной. — Что там с воскресеньем?
— Это будет четвертое воскресенье Пасхи! — воскликнула она так, словно настал конец света.
Я окаменела на месте. В воскресенье нужно будет возобновить обеты, а я об этом забыла.
— Боже мой! — с болью прошептала я.
Ферма вышла из гостиной, с горечью покачивая головой. Она не решилась меня ни в чем упрекнуть, зная, что такая ужасная оплошность с моей стороны вызвана этой странной работой, которой я занимаюсь и из-за которой я исчезла из дома и была вдалеке от них и от своей семьи. Но я-то себя упрекнула. Словно всего, что случилось в тот день, было еще мало, Бог наказал меня еще одной провинностью. Понурив голову, в одиночестве, я на время забыла об ужине и отправилась прямо в молельню просить прощения за мой проступок. Дело было не столько в том, что я упустила из виду юридическое продление обета (это была обычная формальность, запланированная на воскресенье), а в том, что я забыла об очень важном моменте, который все годы после принятия обета я переживала с радостью и полнотой. Конечно, я была не совсем обыкновенной монахиней из-за моей необычной работы и особого расположения, которым я пользовалась у ордена, но ничто в моей жизни не имело бы ни малейшего значения, если бы ее оплот и основание, мои отношения с Богом, не стояли бы для меня на первом месте. Поэтому я молилась с болью в сердце и обещала прилагать больше усилий к тому, чтобы быть с Христом, так, чтобы приближающееся продление обета было для меня новым актом отдачи Ему, полным радости и ликования.
Когда я услышала, что пришли Маргерита и Валерия, я перекрестилась и встала с пола, опираясь на подушки, на которых сидела, причем мои суставы отозвались на движение в разной степени болезненными ощущениями. Может, лучше было бы, подумала я, раз и навсегда заменить это современное убранство молельни более классическим вариантом со стульями или скамеечками для коленопреклонения, потому что малоподвижный образ жизни, который я вела в последнее время, начал сказываться на моем здоровье: кроме разбитых шейных позвонков, меня стали подводить колени — после продолжительного неподвижного сидения они начинали болеть. Я стремительно превращалась в хилую старуху.
Поужинав с сестрами, перед тем, как уйти в мою маленькую комнату, уже начавшую казаться мне чужой, я позвонила на Сицилию. Сначала я поговорила со своей невесткой Розалией, женой моего старшего брата Джузеппе, потом с Джакомой, которая отобрала у нее трубку и хорошенько отругала меня за то, что я пропала и не подавала никаких признаков жизни столько дней. Внезапно ни с того ни с сего она резко выпалила: «Пока!», а затем я услышала мягкий голос матери:
— Оттавия?..
— Мама! Как ты, мама? — радостно спросила я.
— Хорошо, доченька, хорошо… У нас все хорошо. У тебя как дела?
— Как всегда, много работы.
— Ну и хорошо, так и продолжай, так и надо. — Голос у нее был радостный и довольный.
— Ладно, мама.
— Ну, солнышко, береги себя. Обещаешь?
— Конечно.
— Звони почаще, мне нравится говорить с тобой. Кстати, в следующее воскресенье тебе нужно возобновлять обет, так ведь?
Мама никогда не забывала определенные важные даты в жизни своих детей.
— Да.
— Будь счастлива, доченька! Мы все будем молиться о тебе дома на мессе. Целую тебя, Оттавия.
— А я тебя, мама. Пока.
В ту ночь я заснула со счастливой улыбкой на губах.
Ровно в восемь утра, как я и обещала себе накануне вечером, я сидела за столом с очками на носу и с карандашом в руке, готовая выполнить свой долг и прочитать «Божественную комедию» без дальнейших проволочек. Я открыла книгу на гладкой, отливающей перламутром двести семидесятой странице, в центре которой красовалось набранное мелким шрифтом слово «Чистилище», и, вздохнув и набравшись храбрости, перевернула страницу и начала читать:
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar si crudele;
e canteró di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al del diventa degno.[19]
Так гласили первые стихи Данте. Согласно сноске внизу страницы, начиналось путешествие по второму царству 10 апреля 1300 года, в Пасхальное воскресенье, около семи утра. В песне первой Вергилий с Данте, идущие из Ада, подходят к Предчистилищу, подобному безлюдной равнине, где они тут же встречают хранителя этого места, Катона Утического, который горько корит их за присутствие там. Однако, как уже рассказывал нам Глаузер-Рёйст, после того, как Вергилий все ему объясняет и говорит, что Данте необходимо изучить загробные царства, Катон предоставляет им всяческую помощь, чтобы они могли отправиться в тяжкий путь:
Ступай, и тростьем опояшь его,
И сам ему омой лицо, стирая
Всю грязь, чтоб не осталось ничего.
Нельзя, глазами мглистыми взирая,
Идти навстречу первому из слуг,
Принадлежащих к светлым сонмам Рая.
Весь этот островок обвив вокруг,
Внизу, где море бьет в него волною,
Растет тростник вдоль илистых излук.
Таким образом, Вергилий с Данте направляются по долине вниз, к морю, и великий поэт из Мантуи мочит ладони о покрытую росой траву, чтобы смыть грязь, оставшуюся на лице флорентийца после путешествия по Аду. Затем, достигнув пустынного пляжа, перед которым находится островок, он опоясывается тростником, как велел Катон.
В следующих семи песнях, охватывающих время с рассвета до заката первого дня, Вергилий с Данте проходят Предчистилище, встречая старых друзей и знакомых и вступая с ними в беседу. В песне третьей они наконец доходят до подножия горы Чистилища, на которой находятся семь кругов или уступов, на них души смывают свои грехи, чтобы попасть на небо. Тут Данте обращает внимание на то, что склоны столь круты, что вряд ли кому-то удастся на них вскарабкаться. Пока он раздумывает об этом, к ним подходит еле бредущая толпа душ: это отлученные от церкви, которые перед смертью раскаялись в своих грехах и теперь осуждены очень медленно кружить вокруг горы. В песне четвертой Данте с Вергилием находят узкую тропу, по которой они начинают подъем, прибегая к помощи рук и ног. В конце концов они попадают на широкую площадку, и тут же, чуть передохнув, Данте жалуется на ужасную усталость. В этот момент таинственный голос окликает их из-за камня, и, подойдя туда, они находят вторую группу душ: это нерадивые, медлившие с покаянием. Снова в путь, и в песне пятой они встречают тех, кто умер насильственной смертью и в последний миг раскаялся в грехах. В шестой песне происходит очень трогательная встреча: Данте с Вергилием находят душу знаменитого трубадура Сорделло де Джото, который в седьмой песне провожает их до долины нерассудительных властителей и поясняет, что, когда на горе Чистилища меркнет свет заката, всем нужно оставить свой путь и искать укрытия, ибо «ночью вверх уже нельзя идти».
После разговора с некоторыми властителями в долине начинается песнь девятая, в которой верный своему любимому числу девять Данте располагает настоящий вход в Чистилище. Разумеется, он вовсе не легок: согласно еще одной сноске, в «Божественной комедии» в этот момент около трех утра, и Данте, единственный смертный из числа присутствующих, не в силах противостоять сну и засыпает на траве, как ребенок. Ему снится сон, и в нем он видит орла, который молнией спускается вниз, хватает его когтями и возносит в небо. Данте в ужасе просыпается и обнаруживает, что уже настало утро следующего дня, и перед ним раскинулось море. Хранящий спокойствие Вергилий призывает его не пугаться, так как они наконец попали к желанной двери в Чистилище. Тут он рассказывает Данте, что, пока тот спал, появилась дама, назвавшаяся Лючией[20], и, взяв его на руки, осторожно вознесла его в это место и, положив его на землю, взглядом указала Вергилию путь, по которому они должны следовать. Мне понравилось упоминание святой покровительницы зрения, потому что она является одной из заступниц Сицилии вместе со святой Агедой, и именно в их честь назвали двух моих сестер.
В общем, освободившийся от сумрака сна Данте с Вергилием идут туда, куда указала Лючия, и находят три ступени, на которых перед дверью стоит ангел-хранитель Чистилища, первый из посланников Рая, о котором их предупреждал Катон.
«Скажите с места: вы зачем явились? —
Так начал он. — Кто вам дойти помог?
Смотрите, как бы вы не поплатились!»
«Жена с небес, а ей знаком зарок, —
Сказал мой вождь, — явив нам эти сени,
Промолвила: «Идите, вот порог».
Ангел-хранитель, держащий в руке сверкающий обнаженный меч, приглашает их подняться к нему. Первая ступень сделана из блестящего белого мрамора, вторая — из черного, шершавого, растресканного камня, а третья — из кроваво-красного порфира. Если верить очередной сноске, весь этот фрагмент является аллегорией таинства исповеди: ангел воплощает в себе священника, а меч символизирует его слова, призывающие к покаянию. Наверное, поэтому в этот момент я вспомнила о сестре Берарди, одной из моих преподавательниц литературы, которая, поясняя нам этот эпизод, говорила: «Ступень из белого мрамора означает взвешивание своих поступков; черный камень — боль раскаяния; красный порфир — радость покаяния». Какие только вещи не хранит наша память! Кто бы мне сказал, что по прошествии стольких лет я вспомню сестру Берарди (которая давным-давно умерла от старости) и ее скучные уроки литературы.
В эту минуту в мою дверь постучали, и, сияя улыбкой, появился Фараг.
— Как идут дела? — иронично спросил он. — Смогла одолеть детские психологические травмы?
— Все-таки нет, не смогла, — ответила я, откидываясь на стуле и поднимая очки на сморщенный лоб. — Эта поэма все еще кажется мне невыносимым занудством!
Он окинул меня долгим и очень странным взглядом, который я так и не смогла разгадать, а потом, словно очнувшись от длинного сна, заморгал и сглотнул слюну.
— Ну и… ну и где ты сейчас? — поинтересовался он, засовывая руки в широкие карманы своего поношенного пиджака.
— На разговоре с хранителем Чистилища, ангелом с мечом, который стоит на разноцветных ступенях.
— А, чудесно! — с восторгом отозвался он. — Это одно из интереснейших мест! Три ступени алхимии!
— Три ступени алхимии? — недоверчиво сморщила я нос.
— Да ну, Оттавия! Только не говори, что не знаешь, что эти три ступени символизируют три стадии алхимического процесса: Альбедо, Нигредо и Рубедо. Белое деяние, или «опус альбум», черное деяние, или «опус нигрум» и… — Он остановился, увидев выражение удивления на моем лице, и снова улыбнулся. — Что-то вспоминается, правда? Может быть, у тебя более на слуху греческие названия: левкозис, меланозис и иозис.
Я на минуту задумалась, вспоминая все прочитанное об алхимии в средневековых кодексах.
— Конечно, я помню, — чуть помедлив, ответила я, — но никогда не подумала бы, что ступени «Чистилища» связаны с алхимией. Я как раз вспоминала, что они символизируют таинство исповеди…
— Таинство исповеди? — удивился Фараг, подходя поближе к моему столу. — Смотри, что здесь написано: ноги ангела-хранителя стоят на ступени из порфира, а сидит он на пороге двери, сделанном из алмаза. Красное деяние, последняя стадия алхимического процесса, сублимация, ведет к обретению философского камня, тело которого состоит из алмаза, разве не помнишь?
Я была в замешательстве.
— Да, конечно…
Я не могла прийти в себя от удивления. Я бы никогда не подумала о таком объяснении. Оно явно было намного похвальнее другого, про исповедь, которое выглядело довольно натянутым.
— Похоже, я тебя поразил! — воскликнул довольный Фараг. — Ладно, дам тебе поработать. Читай дальше.
— Ладно. Увидимся за обедом.
— Мы за тобой зайдем.
Но я уже не слушала, не могла обратить на него ни малейшего внимания.
— Я сказал, что мы с Каспаром зайдем за тобой перед обедом! — довольно громко повторил Фараг, стоя в дверях. — Хорошо, Оттавия?
— Да, да… перед обедом, хорошо.
Данте Алигьери только что возродился для меня в новой форме, и я начала подумывать, что, быть может, Кремень был прав, утверждая, что «Божественная комедия» — инициаторская книга. Но, Боже мой, как все это могло быть связано со ставрофилахами? Я потерла переносицу и снова надела очки как следует, готовая с большим интересом и другими глазами читать те многие стихи, которые мне еще оставалось одолеть.
Фараг прервал меня, когда Вергилий с Данте стояли перед ступенями. Так вот, поднявшись на них, Вергилий говорит своему ученику, чтобы он смиренно просил ангела открыть засов.
И я, благоговением объятый,
К святым стопам, моля открыть, упал,
Себя рукой ударя в грудь трикраты.
Семь «P» на лбу моем он начертал
Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул,
Когда войдешь, след этих ран», — сказал.
Тогда ангел вытаскивает из-под одежды цвета золы или сухой земли два ключа: серебряный и золотой; вначале белым, а затем желтым ключом он, по словам Данте, открывает замки:
«Как только тот иль этот ключ свободно
Не ходит в скважине иль слаб нажим, —
Сказал он нам, — то и пытать бесплодно.
Один ценней; но чтоб владеть другим,
Умом и знаньем нужно изощриться,
И узел без него неразрешим.
Мне дал их Петр, веля мне ошибиться,
Скорей впустив, чем отослав назад,
Тех, кто пришел у ног моих склониться».
Потом, толкая створ священных врат:
«Войдите, но запомните сначала,
Что изгнан тот, кто обращает взгляд».
Хорошо, сказала я себе, если это не самый что ни на есть сборник инструкций для входа в Чистилище, то не знаю, что это вообще может быть. Несмотря на мой скептицизм, мне приходилось признать, что Глаузер-Рёйст был совершенно прав. Или по крайней мере так казалось, потому что мы не знали самого главного: где на самом деле находились Предчистилище, три алхимические ступени, ангел-хранитель и дверь с двумя ключами?
В обед, когда мы шли по вестибюлю тайного архива в сторону кафетерия, я вспомнила, что должна сообщить Глаузер-Рёйсту о временном перерыве в моем участии в расследовании.
— В воскресенье мне нужно продлить обет, капитан, — пояснила я, — и мне необходимо на несколько дней уединиться. Но в понедельник я обязательно вернусь к работе.
— У нас совсем нет времени, — сердито пробурчал он. — Только субботы вам будет недостаточно?
— А что такое продление обета? — поинтересовался Фараг.
— Ну… — смущенно ответила я. — Монахини ордена Блаженной Девы Марии продлевают свой обет каждый год. — Для монахини разговор о таких вещах — это разговор о самом личном и задушевном в ее жизни. — В других орденах послушники приносят вечный обет или продлевают его каждые два-три года. Мы это делаем каждый год, в четвертое воскресенье Пасхи.
— Обет бедности, целомудрия и послушания? — не унимался Фараг.
— Если быть точным, да… — ответила я, чувствуя все большую неловкость. — Но дело не только в этом… Ну, в этом, но…
— Что, разве среди коптов нет монахов? — выступил в мою защиту Глаузер-Рёйст.
— Есть, конечно, есть. Прости, Оттавия. Мне было очень интересно.
— Да ладно, ничего страшного, правда, — примирительно прибавила я.
— Я просто думал, что ты навсегда монахиня, — довольно не к месту пояснил профессор. — Очень хорошо придумано: продлевать обет каждый год. Так, если когда-нибудь передумаешь, можно спокойно уйти.
Ясный солнечный свет, косо лившийся из окон, на секунду ослепил меня. Сама не знаю почему, но я не сказала ему, что за всю историю моего ордена не было ни одного случая, чтобы кто-то ушел.
Как сложно понять пути Господни! Мы живем в абсолютной слепоте с дня нашего рождения до дня нашей смерти и не способны контролировать происходящее вокруг нас на том коротком промежутке между ними, который зовется жизнью. В пятницу вечером раздался звонок телефона. Мы с Фермой и Маргеритой были в молельне, читая кое-какие фрагменты книги отца Качорньи, основателя нашего ордена, и пытаясь подготовиться к воскресной церемонии. Не знаю как, но, услышав звонок, я инстинктивно почувствовала, что произошло что-то непоправимое. Трубку сняла Валерия, которая в этот момент была в гостиной. Минуту спустя дверь молельни тихонько открылась.
— Оттавия… — прошептала она. — Это тебя.
Я встала, перекрестилась и вышла. По ту сторону телефонного провода голос моей сестры Агеды звучал очень расстроенно:
— Оттавия. Папа с Джузеппе…
— Папа с Джузеппе?.. — переспросила я, потому что сестра замолчала.
— Папа с Джузеппе погибли.
— Папа с Джузеппе погибли? — наконец смогла выговорить я. — Да что ты говоришь, Агеда?
— Да, Оттавия. — Моя сестра тихонько заплакала. — Они оба погибли.
— Боже мой! — пробормотала я. — Что случилось?
— Авария. Ужасная авария. Их машина вылетела с дороги, и…
— Успокойся, пожалуйста, — сказала я сестре. — Не плачь перед детьми.
— Их тут нет, — простонала она. — Антонио увез их к своим родителям. Мама хочет, чтобы мы все съехались к ней.
— А мама? Как мама?
— Ты же знаешь, какая она сильная… — проговорила Агеда. — Но я за нее боюсь.
— А Розалия? И дети Джузеппе?
— Я ничего не знаю, Оттавия. Они все на вилле. Я сейчас туда выезжаю.
— Я тоже. Выеду сегодня вечерним паромом.
— Нет, — возразила мне сестра. — Не едь на пароме. Вылетай на самолете. Я скажу Джакоме, чтобы она послала людей встретить тебя в аэропорту.
Всю ночь мы провели в бдении, читая молитвы розария в гостиной первого этажа при свете расставленных вокруг нас на столах и камине свечей. Тела моего отца и брата еще находились в судебно-медицинском морге, хотя судья заверил мать, что рано утром нам отдадут тела, чтобы захоронить их на кладбище в усадьбе. Мои братья Чезаре, Пьерлуиджи и Сальваторе, вернувшиеся оттуда на рассвете, сказали нам, что они очень обезображены в аварии и что лучше не выставлять их в открытых гробах во время заупокойной службы. Мать позвонила в похоронное бюро, которое, похоже, было нашей собственностью, чтобы гримеры поработали над телами до того, как их привезут домой.
Моя невестка Розалия, жена Джузеппе, была потрясена этим горем. Безутешные дети были рядом с ней и окружили ее заботами, боясь, что ей станет плохо, потому что она непрерывно рыдала и смотрела в пустоту выпученными, как у безумца, глазами. Мои сестры Джакома, Лючия и Агеда были с матерью, которая вела молитвы розария с насупленным лбом и превратившимся в восковую маску лицом. Остальные невестки, Летиция и Ливия, принимали многочисленные визиты родных, которые, несмотря на поздний час, приходили в дом, чтобы принести свои соболезнования и присоединиться к молитвам.
А я?.. Ну, я ходила взад и вперед по громадному дому, поднималась и спускалась по лестницам, словно не могла сидеть на месте от сердечной боли. Добравшись до крыши, я выглядывала на небо из окна мансарды, а потом разворачивалась и снова спускалась к прихожей, проводя ладонью по гладким и блестящим деревянным перилам, по которым мы все катались, когда были маленькими. Мой мозг постоянно выуживал далекие воспоминания детства, воспоминания об отце и брате. Я без устали повторяла себе, что мой отец был замечательным, самым лучшим отцом и что мой брат Джузеппе, хоть и приобрел с годами нелюдимый нрав, был хорошим братом, который щекотал меня, когда я была еще девчушкой, и прятал игрушки, чтобы меня позлить. Оба они проработали всю жизнь, охраняя и приумножая семейное достояние, которым они глубоко гордились. Вот какими были мой отец и брат. И они погибли.
Соболезнования и плач продолжились на следующий день. На вилле «Салина» царили печаль и горечь. В саду стояли десятки машин, сотни людей пожимали мне руку, целовали и обнимали меня. Пришли все, кроме сестер Шьярра, и мне было очень обидно, потому что Кончетта Шьярра многие годы была моей лучшей подругой. Не скажу, что я не ожидала такого от младшей, Дории (последнее, что я знала о ней, это то, что, как только ей исполнилось двадцать, она покинула Сицилию и, перебиваясь то тут, то там, окончила факультет истории в какой-то там зарубежной стране и теперь работала секретарем в каком-то далеком посольстве), но от Кончетты? От Кончетты я такого не ожидала. Она очень любила моего отца, так же, как я высоко ставила ее родителей, и, несмотря на возможные деловые проблемы с нашей семьей, я ни на минуту не поверила бы в ее отсутствие, даже если бы мне поклялись, что она не придет.
Похороны прошли в воскресенье утром, потому что Пьерантонио смог приехать из Иерусалима только поздней ночью в субботу, а мать во что бы то ни стало хотела, чтобы именно он провел панихиду и отслужил заупокойную мессу. Я плохо помню о том, что было до приезда Пьерантонио. Знаю, что мы с братом крепко обнялись, но его тут же забрали от меня, и ему пришлось выносить целование рук и поклоны, полагающиеся ему по сану и по обстоятельствам. Потом, когда его оставили в покое, поев что-то, он закрылся с матерью в одной из комнат, и я уже не видела, как они вышли, потому что заснула на диване, на котором молилась.
В воскресенье рано утром, пока мы собирались в домашнюю церковь, где должна была состояться заупокойная служба, мне вдруг позвонил капитан Глаузер-Рёйст. Я пока бежала к ближайшему телефону, думала раздраженно: почему он звонит мне в такое время и в такой неподходящий момент, ведь перед отъездом из Рима я попрощалась с ним и рассказала о происшедшем, так что его звонок показался мне проявлением неуважения и плачевным, неуместным поступком. Конечно, при таких обстоятельствах я была не настроена на любезности.
— Это вы, доктор Салина? — спросил он, услышав мое короткое, сухое приветствие.
— Разумеется, это я, капитан.
— Доктор, — повторил он, не обращая внимания на мой неприветливый тон, — мы с профессором Босвеллом здесь, на Сицилии.
Если б меня в этот момент кольнули иглой, не пролилось бы ни капли крови.
— Здесь? — удивленно переспросила я. — Здесь, в Палермо?
— Ну, мы в аэропорту Пунта-Раизи, где-то в тридцати километрах от города. Профессор Босвелл пошел брать машину напрокат.
— Но что вы здесь делаете? Потому что, если вы приехали на похороны моего отца и брата, уже поздно. Вы не успеете сюда доехать.
Мне было неловко. С одной стороны, я была признательна за их расположение и желание быть со мной в такой тяжелый момент; с другой — мне казалось, что их поступок чрезмерен и неуместен.
— Мы не хотим вас беспокоить, доктор. — Громкий голос Глаузер-Рёйста перекрывал шум динамиков аэропорта, приглашающих на посадку пассажиров нескольких рейсов. — Мы подождем, пока окончатся похороны. Как вы думаете, в котором часу вы сможете с нами встретиться?
Моя сестра Агеда встала передо мной и начала стучать по наручным часам.
— Не знаю, капитан. Вы же понимаете, что это такое… Может, в обед.
— А раньше не получится?
— Нет, капитан, не получится! — довольно обиженно ответила я. — Может, вы забыли, мои отец с братом погибли, и у нас похороны!
Я так и видела, как по ту сторону телефонного провода он глубоко вздыхает, чтобы набраться терпения.
— Понимаете, доктор, мы нашли вход в Чистилище. Он здесь, на Сицилии. В Сиракузах.
У меня захватило дух. Мы нашли вход.
Я не захотела смотреть на отца с братом, когда гробы открыли, чтобы мы могли попрощаться с ними. Проявляя силу духа, мать приблизилась к ним и нагнулась сначала к отцу, поцеловав его в лоб, а потом к брату, которого тоже хотела поцеловать, — но тут она сломалась. Я видела, как она зашаталась и ухватилась одной рукой за край гроба, опираясь другой на набалдашник трости. Стоявшие за ней Джакома и Чезаре бросились поддержать ее, но она оттолкнула их резким жестом. Она склонила голову и разразилась немым плачем. Я никогда не видела, чтобы мать плакала. Ни я, ни кто-либо другой, и, думаю, от этого нам стало больнее, чем от всего происходящего. Мы в растерянности смотрели друг на друга, не зная, что делать. Агеда с Лючией тоже расплакались, и все мы, включая и их, и меня, сдерживаясь, подались вперед, в сторону матери, чтобы поддержать и утешить ее. Однако единственным, кто на самом деле подошел к ней, был Пьерантонио, который, ринувшись к ней из-за алтаря и поспешно сбежав по ступеням, обнял ее за плечи и утер ей слезы собственной рукой. Она приняла утешение, как маленькая, но все мы поняли, что в тот день произошел надлом, непоправимый сбой, начавший некий обратный отсчет, и что она никогда не оправится от этих смертей.
Панихида и похороны закончились, и пока мы возвращались в дом и ждали, когда подадут на стол, я попросила Джакому, чтобы она дала мне машину, чтобы съездить в Палермо, потому что договорилась встретиться с Фарагом и Глаузер-Рёйстом в двенадцать тридцать в ресторане «Ла Гондола» на улице Принчипе-ди-Скордиа.
— Ты что, с ума сошла? — воскликнула сестра, вытаращив глаза. — Разве можно в такой день ходить по ресторанам?
— Это по работе, Джакома.
— Мне все равно! Звони своим друзьям и говори им, чтобы приезжали обедать сюда. Ты никуда не поедешь, понятно?
Так что я позвонила по сотовому Глаузер-Рёйсту и объяснила, что по очевидным семейным обстоятельствам я не могла покинуть виллу и что они с профессором приглашены к нам на обед. Я, как могла, объяснила ему, как к нам проехать, и несколько раз уловила в его интонациях какую-то недомолвку, которая вызвала у меня раздражение.
Наконец они приехали, когда мы уже собирались садиться к столу. Капитан был, как всегда, безукоризненно одет и выглядел торжественно, а Фараг сменил свой обычный стиль чиновника из далекой африканской страны на одежду отважного исследователя и воинственного водителя джипов. Как только они вошли в дом, я начала их всем представлять. Профессор казался растерянным и скованным, но в его глазах явно читалось любопытство ученого, изучающего новый, неизвестный ранее вид животного. Глаузер-Рёйст, напротив, прекрасно владел ситуацией. Его апломб и уверенность в себе были приятны в этой грустной, напряженной атмосфере, в которой мы находились. Мать приняла их любезно, а стоявший рядом с ней Пьерантонио, к моему удивлению, поздоровался с капитаном очень сердечно, словно они уже были знакомы, но слишком наигранно. Поздоровавшись, они разошлись, будто одинаковые полюса двух магнитов.
Я со вчерашнего дня безуспешно хотела поговорить с Пьерантонио, но тут, когда мы, воспользовавшись хорошей погодой, вышли в сад пить кофе после обеда, он загнал меня в угол. Мой брат утратил свой всегдашний цветущий вид. Под глазами у него были темные круги, а на лбу прочертились морщины. Он взглянул на меня в упор и довольно резко схватил за запястье.
— Почему ты работаешь с капитаном Глаузер-Рёйстом? — без предисловий выпалил он.
— Откуда ты знаешь, что я с ним работаю? — удивленно ответила я.
— Мне сказала Джакома. А теперь отвечай на мой вопрос.
— Я не могу тебе ничего рассказать, Пьерантонио. Это связано с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, на именинах отца.
— Я уже не помню. Освежи мне память.
Я растерянно повела свободной рукой, повернув ее ладонью кверху.
— Что с тобой, Пьерантонио? Ты с ума сошел, что ли?
Будто очнувшись от сна, брат ошеломленно взглянул на меня.
— Прости, Оттавия, — пробормотал он, выпуская мою руку. — Я разнервничался. Извини.
— Но почему ты разнервничался? Из-за капитана?
— Прости, забудь об этом, не обращай внимания, — ответил он, отходя в сторону.
— Иди сюда, Пьерантонио, — скомандовала я серьезным и повелительным тоном; он резко остановился. — Ты никуда не уйдешь без объяснения.
— Крошка Оттавия бунтует против старшего брата? — с веселой улыбкой пошутил он. Но я не засмеялась.
— Говори, Пьерантонио, а то я на самом деле рассержусь.
Он очень удивленно посмотрел на меня и, снова нахмурив лоб, сделал два шага в мою сторону.
— Ты знаешь, кто такой Каспар Глаузер-Рёйст? Знаешь, чем он занимается?
— Знаю, — ответила я, — что он состоит в швейцарской гвардии, хоть и работает в церковном трибунале, и что он координирует расследование, в котором я принимаю участие как палеограф тайного архива.
Мой брат тяжело покачал головой.
— Нет, Оттавия. Не заблуждайся. Каспар Глаузер-Рёйст — самый опасный человек в Ватикане, черная рука, выполняющая постыдные дела церкви. Его имя связано с… — Он резко остановился. — Вот это да! Как это моя сестра работает с типом, которого боятся и небо, и земля?
Я превратилась в соляную статую и не могла никак отреагировать.
— Что скажешь, а? — не унимался брат. — Теперь ты не можешь дать мне объяснение?
— Нет.
— Ну, значит, разговор закончен, — подытожил он, повернулся и направился к группе людей, беседовавших вокруг садового стола. — Осторожно, Оттавия. Этот человек не такой, каким кажется.
Когда я смогла прийти в себя, я заметила вдалеке фигуры матери и Фарага, занятых оживленной беседой. Я пошла в их сторону неуверенным шагом, но на полпути дорогу мне перекрыла исполинская громада капитана.
— Доктор, мы должны выехать как можно скорее. Становится поздно, и скоро будет темно.
— Откуда вы знаете моего брата, капитан?
— Вашего брата?.. — удивился он.
— Послушайте, не притворяйтесь, что ничего не знаете. Я знаю, что вы знакомы с Пьерантонио, так что не лгите.
Кремень с невозмутимым видом оглянулся вокруг.
— Полагаю, отец Салина не сообщил вам эти сведения, так что не мне это делать, доктор. — Он посмотрел на меня сверху вниз. — Скажите, пожалуйста, мы можем ехать?
Я кивнула и в отчаянии провела руками по лицу.
Распрощавшись со всеми по очереди, я уселась в машину, которую Фараг с капитаном взяли напрокат в аэропорту, — «Вольво S40» серебряного цвета с темными стеклами. Мы проехали через город, чтобы попасть на шоссе 121 до Энны, находящейся в сердце острова, и оттуда выехать на автостраду А19, ведущую в Катанию. Глаузер-Рёйст, получавший от вождения огромное удовольствие, включил радио и слушал музыку, пока мы не выехали из Палермо. Когда мы очутились на шоссе, он прикрутил звук, и сидевший сзади Фараг склонился вперед, опершись руками на спинки наших сидений.
— По правде говоря, Оттавия, мы не знаем, почему мы здесь, — начал он. — Мы прилетели на Сицилию, чтобы проверить одну сумасшедшую идею, но скорее всего попадем в дурацкое положение.
— Не слушайте его, доктор. Профессор нашел вход в Чистилище.
— Это его не слушай, доктор. Уверяю тебя, что я очень сильно сомневаюсь, что мы найдем вход в Сиракузах, но капитан уперся и хочет убедиться во всем на месте.
— Хорошо, — со вздохом согласилась я. — Но дай мне по крайней мере убедительное объяснение. Что там, в Сиракузах?
— Святая Лючия! — воскликнул Фараг.
Я обернулась к нему с досадой.
— Святая Лючия?
Я была так близко к профессору, что чувствовала его дыхание. Я окаменела. Меня вдруг начал душить ужасный стыд. Нечеловеческим усилием я заставила себя снова смотреть на дорогу перед собой и не обнаруживать своего замешательства. Босвелл наверняка заметил, испуганно подумала я. Положение было неловкое, и его молчание становилось невыносимым. Почему он не говорит? Почему не продолжает свой рассказ?
— Почему святая Лючия? — поспешила спросить я.
— Потому что… — Фараг кашлянул и замялся. — Потому что… Потому…
Я не видела его рук, но была уверена, что они тряслись. Мне уже приходилось наблюдать это в других случаях.
— Я все объясню, доктор, — вмешался Глаузер-Рёйст. — Кто приносит Данте к дверям в Чистилище?
Я быстро припомнила.
— Правда, святая Лючия. Она переносит его из Предчистилища по воздуху, пока он спит, и оставляет на берегу моря. Но как это связано с Сицилией? — Я опять напрягла память. — Да, конечно, святая Лючия является покровительницей Сиракуз, да, но…
— Сиракузы находятся на берегу моря, — заметил профессор, который, похоже, уже пришел в себя. — Кроме того, оставив Данте на земле, святая Лючия глазами указывает Вергилию на путь, по которому они должны идти, чтобы попасть к дверям с двумя ключами.
— Ну да, но…
— Ты знала, что Лючия — покровительница зрения?
— Что за вопрос! Конечно.
— На всех картинах она изображена с глазами на блюдце.
— Она вырвала их себе во время мучений, — уточнила я. — Ее жениху-язычнику, который донес о том, что она христианка, очень нравились ее глаза, поэтому она вырвала их, чтобы передать их ему.
— «Да хранит нам зрение святая Лючия», — процитировал Глаузер-Рёйст.
— Да, именно, это народная поговорка.
— Однако… — продолжал Фараг. — На изображениях святой покровительницы Сиракуз глаза всегда на месте и широко открыты, а на блюдце у нее запасная пара.
— Ну, не рисовать же ее с пустыми окровавленными глазницами.
— Да? Но уж никак не потому, что христианская иконопись никогда не делает упор на кровь и физическую боль.
— Ладно, но это уже другой разговор, — возразила я. — Я все еще не понимаю, к чему ты клонишь.
— Все очень просто. Смотри, согласно всем христианским мартирологам, рассказывающим о муках этой святой, Лючия никогда не вырывала себе глаза и вообще их не лишалась. На самом деле про нее пишут, что римское начальство, покорное императору Диоклетиану, попыталось изнасиловать ее и сжечь живьем, но благодаря божественному вмешательству это им не удалось, поэтому им пришлось пронзить ей горло мечом и лишить ее жизни таким образом. Это случилось 13 декабря 300 года. Но о глазах нигде ничего нет. Почему же она является покровительницей зрения? Может быть, речь идет о другом зрении, зрении, не связанном с телом, а относящемся к просветлению, которое позволяет приблизиться к высшему знанию? В принципе на языке символов слепота означает невежество, а зрение равнозначно знанию.
— Тут слишком много домыслов, — возразила я. Мне было не по себе. Все многословные объяснения Фарага сыпались мне в голову точно песок. Я все еще не оправилась от смерти отца и брата и не имела ни малейшего желания вникать в загадочные тонкости.
— Много домыслов?.. Хорошо, тогда как тебе это: день святой Лючии празднуют в предполагаемую дату ее смерти, как я уже сказал, 13 декабря.
— Я знаю, это именины моей сестры.
— Хорошо, но, возможно, ты не знаешь, что до смещения на 10 дней, которое началось с введением григорианского календаря в 1582 году, ее день праздновали 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, а день зимнего солнцестояния издавна считался датой, отмечавшей победу света над тьмой, потому что, начиная с него, дни становились длиннее.
Я не произнесла ни слова. Я ничего не могла понять из этой галиматьи.
— Оттавия, пожалуйста, ты же образованная женщина, — взмолился Фараг. — Используй свои знания и увидишь, что то, что я говорю, не глупости. Мы говорим о том, что Данте делает святую Лючию своей проводницей ко входу в Чистилище, но, кроме того, говорит, что, оставив его сонного на земле, она глазами указывает Вергилию на тропу, по которой им нужно идти, чтобы попасть к двери с тремя алхимическими ступенями и вооруженным мечом ангелом-хранителем. Разве это не явная подсказка?
— Не знаю, — заявила я беззаботным тоном. — А что, явная?
Фараг замолчал.
— Профессор не уверен, — проговорил Глаузер-Рёйст, нажимая на газ. — Поэтому мы все проверим.
— В мире много храмов Святой Лючии, — проворчала я. — Почему вы выбрали именно сиракузский?
— Кроме того, что это — место рождения святой и город, где она жила и приняла муки, есть некоторые дополнительные данные, заставляющие нас думать, что это именно Сиракузы, — пояснил Кремень. — Когда Данте и Вергилий встречаются с Катоном Утическим, он рекомендует Данте перед тем, как предстать перед ангелом-хранителем, омыть лицо, чтобы очиститься от всей грязи, и подпоясаться тростником, который растет вокруг островка рядом с берегом.
— Да, я помню.
— Сиракузы были основаны греками в VIII веке до нашей эры, — подхватил Фараг. — В то время они дали городу имя Ортигия.
— Ортигия?.. — переспросила я, стараясь удержаться от непроизвольного желания повернуться к нему. — Но разве Ортигия — это не остров перед Сиракузами?
— Ага! Видишь, ты сама сказала! Перед Сиракузами есть остров под названием Ортигия, на котором, кроме знаменитых папирусов, которые выращивают по сей день, растет множество тростника.
— Но сейчас Ортигия — это один из районов города. Она полностью застроена, и ее соединяет с землей большой мост.
— Правильно. И это ни на йоту не уменьшает значения подсказки, которую Данте вложил в свою поэму. И остается еще самое-самое.
— Вот как? — На самом деле они потихоньку убеждали меня. Весь этот набор чепухи заставил меня потихоньку, не заметив даже как, оставить позади всю горечь и вернуться к действительности.
— После распада Римской империи Сицилию захватили готы, и в VI веке император Юстиниан, тот самый, который велел возвести крепость вокруг монастыря Святой Екатерины на Синае, приказал полководцу Велисару отвоевать этот остров для Византийской империи. Так вот знаешь, что сделали константинопольские войска, едва войдя в Сиракузы? Построили храм на месте мук святой, и этот храм…
— Я его знаю.
— …существует по сегодняшний день, хотя, разумеется, на протяжении веков был много раз отреставрирован. Тем не менее, — Фараг не унимался, — главной достопримечательностью старой церкви Святой Лючии являются катакомбы.
— Катакомбы? — удивилась я. — Я понятия не имела, что под церковью есть катакомбы.
Наша машина на большой скорости въехала на автостраду номер 19. Солнце склонялось к закату.
— Замечательные катакомбы III века, только некоторые основные участки их немного изучены. Известно только, что их расширили и перестроили именно в византийский период, когда преследований уже не было и христианство стало вероисповеданием всей империи. Жаль, но они открыты для посетителей только в дни празднеств в честь святой Лючии, с 13-го по 20 декабря, да и то не полностью. Не исследованы еще несколько уровней и множество ответвлений.
— И как мы туда попадем?
— Может быть, этого и не потребуется. На самом деле мы не знаем, что там найдем. Или лучше сказать, не знаем, что нам искать, так же, как когда мы были в монастыре Святой Екатерины на Синае. Походим, посмотрим, а там будет видно. Может быть, нам повезет.
— Я не собираюсь подпоясываться тростником и умываться травяной росой на Ортигии.
— Оставьте свои заявления при себе, — голос Глаузер-Рёйста звенел от ярости, — потому что именно это мы и сделаем первым делом, когда приедем. Может, вы не поняли, но если мы не ошиблись со святой Лючией, еще до наступления ночи мы окажемся в самой гуще инициаторских испытаний ставрофилахов.
Я решила не раскрывать рта до конца пути.
Когда мы въехали в Сиракузы, было уже поздно. Мне было страшно даже подумать, что Кремень захочет спуститься в катакомбы в такое время, но, слава Богу, проехав через город, он направился прямиком к острову Ортигия, в центре которого, недалеко от знаменитого фонтана Аретузы, находилось архиепископство.
Собор Дуомо был великолепен, несмотря на оригинальное смешение архитектурных стилей, которые с течением веков накладывались друг на дружку. Барочный фасад с шестью огромными белыми колоннами и верхняя ниша с изображением святой Лючии были грандиозны. Но внутрь мы не вошли. Следуя пешком за Глаузер-Рёйстом, припарковавшим машину перед собором, мы направились к близлежащему зданию архиепископства, где нас лично принял его преподобие монсеньор Джузеппе Арена.
В тот вечер архиепископ угостил нас вкуснейшим ужином, и вскоре после поверхностного разговора о делах архиепископства и сердечного упоминания о Папе, которому в этот четверг исполнялось 80 лет, мы разошлись по приготовленным для нас комнатам.
Ровно в четыре утра, когда в окна не проникал еще ни малейший лучик солнца, меня вырвал из глубочайшего сна стук в дверь. Это был капитан, уже готовый начать новый день. Я слышала, как он постучал в дверь Фарага, и через полчаса мы втроем собрались в столовой, готовые отдать должное обильному завтраку, который подала нам монахиня-доминиканка из прислуги архиепископа. В то время как у капитана был, как всегда, цветущий вид, мы с Фарагом, тоже как всегда, были едва в состоянии связать пару слов. Мы передвигались по столовой, как зомби, шатаясь и натыкаясь на столы и стулья. Во всем здании царила полнейшая тишина, нарушавшаяся только мягкими шагами монахини. После третьего-четвертого глотка кофе я обнаружила, что уже в состоянии думать.
— Готовы? — невозмутимо спросил Кремень, кладя на стол салфетку.
— Я — нет, — промямлил Фараг, вцепившись в чашку кофе, как моряк в мачту в разгар шторма.
— По-моему, я тоже нет, — поддержала я его с заговорщицким взглядом.
— Я иду за машиной. Через пять минут забираю вас у входа.
— Ну, не думаю, что я там буду, — предупредил профессор.
Я весело рассмеялась, а Глаузер-Рёйст вышел из столовой, не обращая на нас ни малейшего внимания.
— Невыносимый человек, — сказала я, с удивлением отмечая, что Фараг в это утро не побрился.
— Нам лучше поторопиться. Он способен уехать без нас, и что тогда нам делать в Сиракузах в понедельник, без четверти пять утра.
— Сядем на самолет и полетим домой, — ответила я, решительно вставая с места.
На улице было не холодно. Стояла совершенно весенняя погода, хотя было влажновато, и иногда налетали неприятные порывы ветра, подхватывавшие мою юбку. Мы сели в «вольво» и объехали вокруг площади Дуомо, чтобы попасть на улицу, которая вывела нас прямо к порту. Там мы оставили машину и прошли до края рейда, где в уголке при свете еще зажженных фонарей можно было различить очень мелкий белый песок и где, естественно, вздымались сотни стеблей тростника. Кремень держал в руках свой том «Божественной комедии».
— Профессор, доктор… — с явным волнением проговорил он. — Настал момент начать наш путь.
Он положил книгу на песок и пошел к тростнику. С почтительным видом он провел руками по траве и умылся росой. Потом сорвал один из гибких стеблей, самый высокий, который смог отыскать, и, вытащив рубашку из брюк, опоясался им.
— Ну, Оттавия, — прошептал Фараг, склоняясь ко мне, — теперь наша очередь.
Профессор твердым шагом пошел туда, где стоял Кремень, и повторил все его действия. На его влажном от росы лице тоже появился особый отсвет, словно он находился в присутствии чего-то священного. Мной владели беспокойство и неуверенность. Я не очень понимала, что мы делаем, но мне ничего не оставалось, как последовать за ними, так как, раз уж я была здесь, любое сопротивление выглядело бы просто смешным. Я погрузила туфли в песок и пошла в их сторону. Провела ладонями по влажной траве и потерла ими щеки. Роса была прохладной и неожиданно, без всякого предупреждения согнала с меня остатки сна, прояснив мои мысли и наполнив меня энергией. Потом я выбрала тростник, показавшийся мне самым зеленым и красивым, и переломила стебель, надеясь, что из корней когда-нибудь вырастет новый тростник. Я легонько подняла край свитера и повязала тростник на талии поверх юбки, подивившись его мягкому прикосновению и гибкости волокон, которые очень легко свились в узел.
Мы завершили первую часть ритуала. Теперь оставалось только ждать, будет ли это иметь какой-то результат. Если нам повезет, подумала я, успокаивая себя, то никто не видел, как мы это делали.
Снова сев в машину, мы покинули остров Ортигию по мосту и выехали на проспект Умберто I. Город пробуждался. В окнах домов виднелся свет, и движение на дороге оживилось, через пару часов оно будет таким же хаотичным, как в Палермо, особенно на подъездах к порту. Капитан свернул направо и поехал по новому проспекту вверх, по направлению к улице Арсенале. Взглянув в окошко, он вдруг очень удивился:
— Знаете, как называется улица, по которой мы едем? Улица Данте. Я только что заметил. Вам это не кажется любопытным?
— Капитан, в Италии улица Данте есть во всех городах, — ответила я, подавляя смех. Фараг, однако, не сдержался.
Вскоре мы приехали на площадь Святой Лючии рядом со стадионом. На самом деле это была скорее не площадь, а простая улочка, охватывавшая квадрат церкви. Рядом с тяжеловесным зданием белого камня, украшенным скромной трехэтажной колокольней, виднелся небольшой баптистерий восьмиугольной формы. Стиль церкви не допускал никаких сомнений: несмотря на норманнские перестройки XII века и на ренессансную розетку на фасаде, этот храм был не менее византийским, чем сам император Константин Великий.
По тротуару перед церковью взад и вперед прогуливался мужчина лет шестидесяти, одетый в старые брюки и поношенный пиджак. Увидев, как мы выходим из машины, он остановился и внимательно посмотрел на нас. У него была красивая копна густых седых волос и маленькое, испещренное морщинами лицо. Он помахал нам рукой с другой стороны улицы и легко побежал в нашу сторону.
— Капитан Глазер-Ре?
— Да, это я, — любезно ответил Кремень, не поправив его, и пожал ему руку. — Это мои товарищи — профессор Босвелл и доктор Салина.
Капитан повесил себе на плечо небольшой матерчатый рюкзак.
— Салина? — переспросил мужчина, вежливо улыбаясь. — Это сицилийская фамилия, хоть и не сиракузская. Вы из Палермо?
— Да, это так.
— А, вот видите! Ну что ж, пожалуйста, следуйте за мной. Его преподобие господин архиепископ звонил мне вчера, чтобы предупредить о вашем визите. Идемте.
Неожиданно для меня Фараг осторожно взял меня за локоть и провел так до другой стороны улицы.
Ризничий засунул в прорезь деревянной двери церкви огромный ключ и толкнул створку внутрь, но сам не вошел.
— Его преподобие господин архиепископ просил оставить вас одних, так что до семичасовой мессы церковь нашей покровительницы в вашем полном распоряжении. Проходите. Не стесняйтесь. Я иду домой завтракать. Если вам что-нибудь понадобится, я живу здесь, напротив, — и он указал на старое здание с побеленными стенами, — на втором этаже. Ой, чуть не забыл! Капитан Глазер-Ре, электрощиток справа, а вот ключи от всех дверей, включая часовню Гробницы и баптистерий, который находится здесь рядом. Обязательно зайдите туда, он того стоит. Ну, до свидания. Ровно в семь я за вами приду.
И он бегом пустился назад на противоположную сторону улицы. Было полшестого утра.
— Прекрасно, чего же мы ждем? Доктор, дамы вперед.
Храм был погружен в темноту, если не считать несколько маленьких аварийных лампочек, расположенных наверху, потому что ни через розетку, ни через окна свет еще не проникал. Капитан на ощупь отыскал выключатели, нажал на них, и внезапно ясный свет электрических ламп, свисавших с потолка на длинных проводах, озарил все помещение: три богато украшенных нефа, разделенных пилястрами, с деревянным резным потолком, обрамленным щитами арагонских королей, которые правили Сицилией в XIV веке. Под триумфальной аркой находилось раскрашенное распятие XII–XIII века, а в глубине виднелось еще одно, эпохи Возрождения. И, конечно же, на пышном серебряном пьедестале красовалась использующаяся в процессиях статуя святой Лючии с пронзившим ее горло мечом и чашей с парой запасных глаз, как выразился Фараг (от которого, кстати, стало попахивать нечестивцем), в правой руке.
— Церковь наша, — тихонько сказал Кремень; его сам по себе низкий голос прозвучал как раскаты грома внутри пещеры. Акустика была потрясающей. — Ищем вход в Чистилище.
Внутри было гораздо холоднее, чем снаружи, словно откуда-то из-под пола шел ледяной сквозняк. Я пошла к алтарю по центральному проходу и, повинуясь насущной необходимости, преклонила колени перед дарохранительницей и несколько минут помолилась. Склонив голову и закрыв лицо руками, я попыталась осознать все странные вещи, происходившие со мной в последнее время. Месяц с небольшим назад, когда меня вызвали в государственный секретариат, я утратила контроль над своей упорядоченной жизнью, но, начиная с прошлой недели, ситуация стала совершенно неконтролируемой. Уже ничто не казалось таким, как раньше. Я попросила Бога простить меня за то, что я совсем забросила Его, и с безутешным сердцем молила Его быть милостивым к моим отцу и брату. Я помолилась также за мать, чтобы она нашла силы, необходимые ей в этот ужасный момент, и за всех остальных членов семьи. С мокрыми от слез глазами я перекрестилась и встала, так как не хотела, чтобы капитану с Фарагом пришлось все делать без меня. Поскольку они осматривали боковые нефы, я поднялась на клирос и осмотрела колонну из красноватого гранита, о которую, согласно легенде, святая оперлась, умирая от удара мечом. На протяжении веков набожные руки верующих отполировали камень до блеска, а важность колонны как предмета поклонения была очевидна благодаря многочисленным повторениям этого символа в убранстве всей церкви. Разумеется, не только колонна, но и изображение глаз повторялось бессчетное множество раз: отовсюду свешивались любопытные приношения по обету в форме хлебцев, называемые «глаза святой Лючии».
Когда мы закончили осмотр церкви, мы прошли по лесенке в узкий коридор, приведший нас в смежную часовню Гробницы. Оба здания были связаны подземным туннелем, пробитым в скале. В восьмиугольном баптистерии была только прямоугольная ниша или полость, где святую похоронили после мученической смерти. Однако тело ее сейчас находилось не в Сиракузах. Более того, оно было вообще не на Сицилии, потому что по случайности судьбы после смерти Лючия объехала полсвета, и ее останки были захоронены в церкви Святого Иеремии в Венеции. В XI веке византийский полководец Маниах, в честь которого назван замок Маниаче, увез их в Константинополь, где они были объектом поклонения до 1204 года, когда венецианцы привезли их назад и оставили у себя. Сиракузцам ничего не оставалось, как почитать пустую гробницу, украсив ее деревянными алтарными створками, под которыми находилась мраморная статуя работы Грегорио Тедески, изображавшая святую в таком виде, как ее похоронили.
Вот на этом наше посещение церкви заканчивалось. Мы уже все осмотрели и тщательно обследовали и не обнаружили ничего странного или значительного, что могло бы служить доказательством того, что она связана с Данте или со ставрофилахами.
— Давайте подумаем, — предложил капитан. — Что привлекло наше внимание?
— Вообще ничего, — уверенно заявила я.
— Значит, в таком случае, — проговорил Фараг, поправляя очки, — у нас остается только один выход.
— Я абсолютно согласен, — заметил Кремень, снова направляясь к коридору, ведущему к церкви.
Так что вопреки моим задушевным желаниям мы направлялись в катакомбы.
Согласно надписи на табличке, висевшей на гвоздике на двери в подземные коридоры, катакомбы Святой Лючии были закрыты для посещений. Если кто-то испытывает большой интерес с катакомбам, прибавлялось в надписи, он может посетить находящиеся неподалеку катакомбы Святого Джованни. В моей голове молнией пронеслись жуткие картины обвалов и осыпей, но я отбросила их за ненадобностью, потому что, воспользовавшись одним из ключей из связки, оставленной ему ризничим, капитан уже открыл дверь и ступил внутрь.
Несмотря на распространенные утверждения о том, что катакомбы служили убежищем христианам во времена преследований, их назначение было другим. Даже построены они были не для этого, потому что, прежде всего, преследования были очень короткими и ограниченными во времени. В середине II века первые христиане начали приобретать участки земли для захоронения своих усопших, поскольку не придерживались языческой традиции кремации, веруя в воскресение тел в Судный день. В те времена эти подземные кладбища даже не назывались «катакомбами», греческим словом, означающим «пещеры», которое распространилось в IX веке, а именовались «koimeteria» («спальни»), и именно от этого слова происходит латинское «cementerio», «кладбище», которое перешло во многие романские языки. Их устроители верили, что мертвые просто будут там спать до дня воскрешения во плоти. Поскольку им нужно было все больше места, галереи «спален» разрастались в глубину и в стороны, превращаясь в настоящие лабиринты, тянувшиеся на многие километры.
— Идем, Оттавия, — подбодрил меня Фараг, стоявший уже по ту сторону двери, видя, что я не проявляю ни малейшего желания войти.
С потолка пещеры свешивалась голая лампочка, дававшая слабый свет и населявшая тенями стол, стул и какие-то инструменты у входа, покрытые толстым слоем пыли. К счастью, капитан принес в рюкзаке мощный фонарь, который осветил все вокруг лучом в тысячу ватт. Высеченные в скале много веков назад лестницы спускались в глубины земли. Кремень начал без колебаний спускаться, а Фараг посторонился, пропуская меня вперед, чтобы замкнуть шествие самому. Вдоль стен тянулось множество надписей, выбитых в камне железными резцами, которые напоминали об усопших: «Cornelios cuius dies inluxit» («Корнелий, в чей день рассвело»), «Tauta o bios» («Это наша жизнь»), «Eirene ecoimete» («Ирене заснула»)… На площадке, где лестница поворачивала налево, были навалены могильные плиты, которыми закрывали ниши, некоторые из них были фрагментарными обломками. Наконец мы дошли до последней ступени и очутились в маленьком святилище прямоугольной формы, украшенном замечательными фресками, которые, судя по виду, могли относиться к VIII–IX векам. Капитан посветил на них фонарем, и мы были зачарованы изображением страданий сорока мучеников севастийских. По легенде, эти юноши состояли в XII легионе, называемом Молниеносным, и служили в городе Севастии в Армении во времена правления императора Ликиния, который приказал всем своим легионерам приносить жертвы богам ради благоденствия империи. Сорок солдат из XII легиона, будучи христианами, наотрез отказались это делать, и их приговорили к замерзанию насмерть, подвесив нагих за веревки над замерзшим озером.
Состояние этой фрески по меловой штукатурке стены вызывало восхищение: по истечении стольких веков она сохранилась практически идеально, в то время как многие живописные произведения, выполненные позже в более совершенной технике, теперь выглядели просто жалко.
— Каспар, не светите фонарем на фрески, — попросил Фараг из темноты. — Вы можете непоправимо повредить их.
— Простите, — откликнулся Кремень, быстро переводя пучок света на пол. — Вы правы.
— И что теперь? — спросила я. — У нас есть какой-нибудь план?
— Идем дальше, доктор. Вот и весь план.
По другую сторону святилища открывалась новая ниша, казавшаяся началом длинного коридора. Мы вошли в таком же порядке, в каком спускались по лестнице, и долго шли по коридору в полном молчании, оставляя по левую и по правую сторону от себя другие галереи, в стенах которых виднелись нескончаемые ряды захоронений. Кроме наших шагов, не было слышно абсолютно ничего, и, несмотря на вентиляционные отверстия в потолке, меня не покидало ощущение удушья. В конце туннеля нас ждала новая лестница, перекрытая цепью со знаком «Проход запрещен», который капитан проигнорировал. Она вывела нас на второй уровень подземелья, и атмосфера здесь стала еще более гнетущей, если только это возможно.
— Хочу вам напомнить, — прошептал Кремень на случай, если мы об этом еще не подумали, — что катакомбы почти не исследованы. В частности, этот уровень еще совсем не изучен, так что будьте крайне осторожны.
— А почему бы нам не осмотреть верхний уровень? — предложила я, чувствуя ускоренное биение пульса в висках. — Во многие галереи мы не заглядывали. Может быть, вход в Чистилище там.
Капитан прошел несколько метров вперед и наконец остановился, светя фонариком на пол.
— Не думаю, доктор. Смотрите.
У его ног в ярком круге света была очень четко видна монограмма Константина, точно такая, как на туловище у Аби-Руджа Иясуса (с горизонтальной перекладиной) и на переплете кодекса, похищенного из монастыря Святой Екатерины. Несомненно, ставрофилахи здесь бывали. Неизвестно только, с тоской подумала я, сколько времени прошло с тех пор, так как большинство катакомб были заброшены в эпоху раннего Средневековья, после чего в целях безопасности святые реликвии были постепенно извлечены, а осыпи и растительность уничтожили входы, так что даже следы многих из них были затеряны.
Фараг был вне себя от счастья. Пока мы быстро продвигались по туннелю с высоченными потолками, он утверждал, что мы разгадали таинственный язык ставрофилахов и теперь сможем с большей точностью понять все их подсказки и знаки. Его голос доносился из остававшейся у меня за спиной кромешной тьмы, так как единственным светом, озарявшим эту галерею, был луч фонарика капитана, который шагал на метр впереди меня. Его отблеск на каменных стенах позволял мне видеть три ряда ниш (многие из них были явно заняты), тянувшихся на уровне наших ног, пояса и головы. Я на ходу читала имена умерших, высеченные на тех немногих погребальных плитах, которые еще оставались на своих местах: Дионисий, Путеолан, Картилия, Астазий, Валентина, Горгон… На всех плитах был рисунок, символизировавший род занятий усопших при жизни (священник, крестьянин, хозяйка дома…) или связанный с исповедуемой ими ранней христианской религией (Добрый Пастырь, голубь, якорь, хлебы и рыбы…), или даже виднелись закрепленные в гипсе личные вещи от монет до инструментов или игрушек, если это были дети. Это место цены не имело в качестве исторического источника.
— Новая христограмма, — провозгласил капитан, останавливаясь на перекрестке коридоров.
Справа в конце узкого прохода виднелась небольшая комната, в центре которой находился алтарь, а в стенах — несколько углублений и аркосолиев, больших ниш с аркообразным сводом, в которых хоронили целые семейства; влево уходила еще одна галерея с высокими потолками, такая же, как та, по которой мы пришли; перед нами находилась очередная лестница, высеченная в скале, но на этот раз она была винтовой, и ее ступени спускались, обвиваясь вокруг толстой центральной колонны полированного камня, исчезавшей в темных глубинах земли.
— Дайте-ка взглянуть, — попросил Фараг, проходя вперед.
Монограмма Константина была высечена как раз на первой ступени.
— Думаю, нам нужно спускаться дальше, — пробормотал профессор, нервно приглаживая волосы руками и снова и снова поправляя очки, хоть они и были уже надвинуты ему прямо на глаза.
— Мне кажется, это неосмотрительно, — возразила я. — Спускаться дальше безрассудно.
— Теперь нам нельзя отступать, — заявил Кремень.
— Который час? — беспокойно спросил Фараг, поднося к глазам собственные часы.
— Без четверти семь, — ответил капитан, начиная спуск.
Если бы я могла, я бы пошла назад и вернулась на поверхность земли, но разве нашелся бы храбрец, который в темноте и в одиночку снова прошел бы по этому лабиринту, полному мертвецов, какими бы добрыми христианами они ни были? Так что мне ничего не оставалось, как последовать за капитаном и начать спуск; Фараг прикрывал меня, замыкая шествие.
Винтовая лестница казалась бесконечной. Ступень за ступенью мы спускались в колодец, вдыхая все более тяжелый и удушливый воздух, держась за колонну, чтобы не потерять равновесие и не оступиться. Скоро и капитану, и Фарагу пришлось пригнуться, потому что их лбы оказались на уровне ступеней, по которым мы только что спустились. Вскоре после этого лестница начала сужаться: обрамляющая ее боковая стена и центральная колонна незаметно сближались, и эта жуткая воронка по размеру больше подходила детям, чем взрослым людям. Настал момент, когда капитану пришлось продолжать спуск боком и согнувшись, потому что его широкие плечи уже не проходили в просвет.
Если все это придумали ставрофилахи, следует признать, что у них был извращенный ум. На нас давила клаустрофобия, я испытывала желание все бросить и убежать со всех ног. Казалось, что воздуха не хватает и что вернуться на поверхность практически невозможно. Мы словно навсегда распрощались с обычной жизнью (с ее машинами, огнями, людьми и т. д.), и нам казалось, что мы входим в одну из погребальных ниш, из которой уже никогда не выберемся. Время тянулось бесконечно, а конца этой дьявольской лестнице, становившейся все уже и уже, не было видно.
В какой-то момент меня охватила паника. Я почувствовала, что не могу дышать, что я задыхаюсь. Единственной мыслью было вырваться оттуда, как можно скорее выбраться из этой дыры, немедленно вернуться на поверхность. Я ловила воздух ртом, как рыба на суше. Я остановилась, закрыла глаза и попыталась утихомирить отчаянное сердцебиение.
— Минутку, капитан, — попросил Фараг. — Доктору плохо.
Там было так тесно, что он едва мог ко мне приблизиться. Он погладил мне рукой волосы и потом легонько провел по щекам.
— Тебе лучше, Оттавия? — спросил он.
— Я не могу дышать.
— Можешь, только нужно успокоиться.
— Мне нужно выбраться отсюда.
— Послушай, — твердо произнес он, беря меня за подбородок и поворачивая лицом к себе. — Не поддавайся клаустрофобии. Глубоко вдохни. Несколько раз. Забудь о том, где мы, и смотри на меня, хорошо?
Я послушалась, потому что больше ничего не могла поделать, у меня не было другого выхода. Так что я уставилась на него, не сводя глаз, и будто по волшебству его глаза придали мне сил, а улыбка расширила мои легкие. Я начала успокаиваться и снова смогла контролировать себя. Не прошло и пары минут, как мне полегчало. Он снова погладил меня по голове и подал капитану знак продолжать спуск. Однако, пройдя пять или шесть ступенек вниз, Глаузер-Рёйст резко остановился.
— Еще одна христограмма.
— Где? — спросил Фараг. Мы с ним не могли ее увидеть.
— На стене на уровне моей головы. Рельеф глубже, чем раньше.
— Раньше христограммы были на полу, — заметила я. — Рельеф мог стереться от постоянного хождения.
— Бессмыслица, — продолжал Фараг. — Зачем тут хрисмон? Дорогу тут указывать не нужно.
— Может быть, он просто означает, что проходящий испытания ставрофилахов идет правильным путем. Подбадривает его, что ли.
— Возможно, — заключил Фараг без особой уверенности.
Мы продолжили спуск, но едва прошли еще три-четыре ступеньки, как капитан снова остановился.
— Новая христограмма.
— Где на этот раз? — взволнованно поинтересовался профессор.
— Там же, где в предыдущий. — Первая христограмма в этот момент находилась на уровне моего лица, я могла совершенно четко ее рассмотреть.
— Продолжаю утверждать, что это бессмыслица, — снова повторил Фараг.
— Спускаемся дальше, — лаконично заключил Кремень.
— Нет, Каспар, подождите! — нервно возразил Босвелл. — Осмотрите стену. Посмотрите, нет ли там чего-то, что привлечет ваше внимание. Если ничего нет, пойдем дальше. Но, пожалуйста, проверьте как следует.
Кремень повернул фонарь в мою сторону и случайно ослепил меня. Я прикрыла глаза рукой и приглушенно вскрикнула. Вскоре, однако, послышался возглас погромче моего:
— Профессор, тут что-то есть!
— Что вы нашли?
— Между двумя христограммами в скале виднеется другая фигура. Она похожа на дверцу, но еле-еле заметна.
Вызванная у меня блеском света слепота проходила. Очень скоро я смогла разглядеть фигуру, о которой говорил капитан. Но в ней не было ничего общего с дверцей. Это был вмурованный в стену каменный блок.
— Похоже на работу фоссоров[21]. Попытка укрепить стену или отметина в кладке, — проговорила я.
— Толкайте ее, Каспар! — потребовал профессор.
— Боюсь, у меня не получится. Я стою в очень неудобном положении.
— Тогда толкай ты, Оттавия!
— Как я могу толкнуть этот камень? Он и с места не сдвинется.
Но, пока я возмущалась, я уперлась рукой в каменный блок, и от малейшего нажима он мягко подался внутрь. Образовавшееся в стене отверстие было меньше камня, лицевая сторона которого была скошена по краям, чтобы блок поместился в раму толщиной и высотой примерно пять сантиметров.
— Он движется! — радостно воскликнула я. — Движется!
Любопытно, что блок скользил как по маслу, совершенно бесшумно и без трения. Так или иначе, длины моей руки не хватило бы, чтобы протолкнуть камень до конца: вокруг нас было, наверное, несколько метров каменной толщи, и квадратный коридор, по которому скользил блок, казался бесконечным.
— Доктор, берите фонарь! — закричал Глаузер-Рёйст. — Лезьте в отверстие! Мы за вами.
— Я должна идти первой?
Капитан засопел.
— Послушайте, ни я, ни профессор этого сделать не можем, нам негде двинуться. Вы стоите прямо перед отверстием, так что лезьте внутрь, черт побери! За вами двинется профессор, а потом я вернусь туда, где сейчас стоите вы, и полезу за вами.
Так что я вдруг оказалась внутри, пробираясь на четвереньках по узкому коридору чуть больше полуметра в высоту и полуметра в ширину. Чтобы двигаться вперед, мне приходилось толкать каменный блок руками, поэтому фонарик я подпихивала коленями. Я чуть не упала в обморок, вспомнив, что сзади меня полз Фараг, а в положении на четвереньках юбка, должно быть, не очень-то меня прикрывала. Но я собралась с духом и решила, что не время думать о глупостях. Тем не менее, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, как только я вернусь в Рим, если, конечно, вернусь, куплю себе брюки и буду их носить, даже если у моих сестер, моего ордена и у всего Ватикана будет разрыв сердца.
К счастью для моих рук и ног, пол в коридоре был чистым и гладким, как кожа младенца. Полировка, которую я чувствовала под собой, была настолько превосходной, что казалось, я продвигаюсь по стеклу. Наверняка все четыре стороны каменного блока, касавшиеся стены, были такими же гладкими, и это объясняло ту легкость, с которой он двигался, хотя, когда я отводила руки, он легонько откатывался назад в мою сторону, словно туннель шел немного вверх. Не знаю, какое расстояние мы так проползли, может, метров пятнадцать — двадцать, может, больше, но мне это движение показалось вечным.
— Мы поднимаемся, — провозгласил далекий голос капитана.
Он был прав. Коридор становился все круче и круче, и часть веса камня приходилась на мои усталые запястья. Да уж, не похоже, чтобы это место было устроено для прохода людей. Собака или кошка, пожалуй, прошли бы, но человек — никогда. Мысль о том, что в какой-то момент нам придется пройти назад по той же дороге, вернуться к зловещей винтовой лестнице, вскарабкаться по ней и пробраться через два уровня катакомб, заставляла меня осознавать, как далеко я от солнца и чистого воздуха.
Наконец мне показалось, что противоположный конец камня вышел из туннеля. Склон к тому времени был очень заметен, и я едва могла удерживать вес каменного блока, который постоянно съезжал на меня. В последнем усилии я подтолкнула его, и камень упал в пустоту, сразу ударившись обо что-то металлическое.
— Конец!
— Что вы видите?
— Подождите минутку, я переведу дыхание и отвечу.
Я взяла фонарь в правую руку и посветила им через отверстие туннеля. Поскольку ничего не было видно, я продвинулась чуть вперед и высунула голову. Снаружи было небольшое помещение тех же размеров, как погребальные ниши, которые мы видели в катакомбах, но никто его не занимал. На первый взгляд мне показалось, что там лишь четыре пустые стены, выбитые прямо в скале, с низковатым потолком и необычным полом, покрытым металлической пластиной. Интересно, что в тот момент мне не показалось странным, что там было идеально чисто. Не заметила я и того, что опираюсь на тот самый камень, который толкала на протяжении стольких метров подъема. По высоте он был приблизительно такой же, как расстояние от пола до отверстия, из которого я высунулась.
Набрав воздуха, как прыгун перед толчком, я сделала судорожное телодвижение и с большим грохотом выпрыгнула в комнатку. Сразу следом за мной из дыры вылез Фараг, а за ним — капитан, утративший свой блестящий вид. Его тело было слишком крупным, и вместо того, чтобы передвигаться на коленях, ему пришлось ползти всю дорогу по-пластунски, таща за собой к тому же свой рюкзак. Фараг был с ним почти одного роста, но, так как он был худощавее, передвигаться ему было легче.
— Оригинальный пол, — пробормотал профессор, топая по железной плите.
— Доктор, дайте мне фонарь.
— Он весь в вашем распоряжении.
И тут случилось что-то ужасное. Как только капитан вылез из отверстия туннеля, мы услышали зловещий треск, что-то вроде болезненной судороги каких-то старых веревок из дрока, и скрип медленно запускающегося механизма. Глаузер-Рёйст осветил всю комнату, стремительно обернувшись вокруг себя, но мы ничего не увидели. Первым заметил профессор:
— Камень! Смотрите! Камень!
Мой любимый камешек, который так любовно предшествовал мне по дороге сюда, теперь поднимался с пола, подталкиваемый какой-то платформой, которая установила его в отверстие туннеля, через которое он снова проскользнул вниз, исчезнув из виду так быстро, что мы не успели даже сказать «аминь».
— Нас закрыли! — в ужасе закричала я. Камень без остановки проскользит вниз по туннелю, пока снова не встанет в каменную раму входного отверстия, и изнутри его сдвинуть будет невозможно. Эта рама была задумана не для того, чтобы опечатать вход, поняла я в этот миг, а для того, чтобы перекрыть выход.
Но в ход пришел и другой механизм. Как раз в стене перед выходом из туннеля один из каменных блоков повернулся, как дверь на петлях, обнаружив нишу в человеческий рост, в которой, без всякого сомнения, виднелись три разноцветные ступени (белого мрамора, черного гранита и красного порфира), а над ними, вырезанная из скалы, красовалась огромная фигура ангела, поднявшего руки в молитве, над головой которого виднелся огромный меч, указывавший в небо. Рельеф был окрашен. В полном соответствии со словами Данте в «Божественной комедии» длинные одеяния были расписаны цветом золы или сухой земли, тело — бледно-розовым цветом, а волосы — очень темным черным. Из его поднятых в молитве ладоней через проделанные в камне отверстия свисали два фрагмента цепи приблизительно равной длины. Один из них был явно из золота. Другой, разумеется, из серебра. Оба они были чистыми и блестящими и посверкивали в свете фонаря.
— Что все это может значить? — спросил Фараг, подходя к фигуре.
— Стойте, профессор!
— Что случилось? — встревожился он.
— Разве вы не помните слов Данте?
— Слов?.. — Босвелл наморщил лоб. — У вас же был экземпляр «Божественной комедии».
Но Кремень уже вытащил его из рюкзака и открывал на нужной странице.
— «И я, благоговением объятый, к святым стопам, моля открыть, упал, — прочел он, — себя рукой ударив в грудь трикраты».
— Умоляю вас! Мы что, будем повторять по очереди все жесты Данте? — взмолилась я.
— Тогда ангел достает два ключа, один серебряный, другой золотой, — напомнил нам Глаузер-Рёйст. — Сначала серебряным, потом золотым он открывает замки. И совершенно ясно говорит, что, если один из ключей не срабатывает, дверь не открывается. «Один ценней; но чтоб владеть другим, умом и знаньем нужно изощриться, и узел без него неразрешим».
— Господи!
— Ну же, Оттавия, — подбодрил меня Фараг. — Постарайся получить от всего этого удовольствие. В конце концов, это все-таки красивый ритуал.
Что ж, отчасти он был прав. Если бы мы не находились на глубине множества метров под землей, не были похоронены в гробнице с замурованным выходом, быть может, я смогла бы обратить внимание на ту красоту, о которой говорил Фараг. Но нахождение в ловушке раздражало меня, и по моему позвоночнику поднималось острое ощущение опасности.
— Думаю, — продолжал Фараг, — что ставрофилахи избрали три алхимических цвета чисто в символическом смысле. Для них, как и для всех, дошедших сюда, три стадии великого алхимического процесса соответствуют инициации, проходимой теми, кто решил пройти путь до Истинного Древа и Рая Земного.
— Я тебя не понимаю.
— Все очень просто. На протяжении Средневековья алхимия была очень почитаемой наукой, и занималось ею бессчетное множество мудрецов: Роджер Бэкон, Раймонд Луллий, Арнау де Виланова, Парацельс… Большую часть жизни алхимики проводили, закрывшись в своих лабораториях среди трубок, реторт, тиглей и перегонных кубов. Они искали философский камень, эликсир вечной жизни. — Босвелл усмехнулся. — На самом же деле алхимия была путем внутреннего совершенствования, некой мистической практикой.
— Фараг, можно поконкретнее? Мы заперты в гробнице, и нам нужно отсюда выйти.
— Прости… — замялся он, поднимая очки на лоб. — Такие большие знатоки алхимии, как психиатр Карл Юнг, утверждают, что это был путь самопознания, процесс поиска самого себя, который проходил через солюцию, коагуляцию и сублимацию, то есть три деяния или алхимические ступени. Возможно, вступающие в орден ставрофилахов должны пройти подобный процесс разрушения, воссоздания и совершенствования, и потому братство обратилось к этому языку символов.
— Как бы там ни было, профессор, — перебил его капитан, направляясь к ангелу-хранителю, — сейчас эти вступающие в орден ставрофилахов — мы.
Глаузер-Рёйст простерся перед фигурой и склонил голову так, что коснулся первой ступени. На эту сцену стоило посмотреть. Я даже почувствовала за него острый стыд, но Фараг тут же повторил его действия, так что мне ничего не оставалось, как сделать то же самое, чтобы не провоцировать ссору. Мы трижды ударили себя в грудь, произнося нечто вроде мольбы милостиво открыть нам дверь. Но дверь, естественно, не открылась.
— Беремся за ключи, — пробормотал профессор, вставая и поднимаясь по величественным ступеням. Он стоял лицом к лицу с ангелом, но внимание его было сосредоточено на ниспадающих из его рук цепях. Цепи были толстые, и с каждой руки свешивалось по три звена.
— Попробуйте потянуть сначала за серебряную, а потом за золотую, — подсказал ему Кремень.
Профессор послушался. Когда он потянул в первый раз, появилось еще одно звено. Теперь в левой руке было четыре, а в правой три. Тогда Фараг взялся за золотую цепь и потянул и ее. Все в точности повторилось: появилось новое звено, только на этот раз этим дело не кончилось, потому что под нашими ногами из-под холодного железного пола послышался новый грохот, намного громче, чем скрежет платформы, которая унесла каменный блок. По коже у меня побежали мурашки, хотя, по крайней мере с виду, ничего не произошло.
— Потяните еще раз, — настаивал Кремень. — Сначала за серебряную, потом за золотую.
Я не была уверена, что это правильно. Что-то тут не складывалось. Мы забыли о какой-то важной детали, и у меня было ощущение, что нельзя тут стоять и играть с цепями. Но я промолчала, так что Босвелл повторил предыдущую операцию, и в каждой руке у ангела оказалось пять звеньев цепи.
Мне вдруг стало очень жарко, невыносимо жарко. Глаузер-Рёйст машинально снял пиджак и оставил его на полу. Фараг расстегнул пуговицы воротника рубашки и тяжело задышал. Жар нарастал с головокружительной быстротой.
— Вам не кажется, что происходит что-то странное? — спросила я.
— Тут становится нечем дышать, — заметил Фараг.
— Дело не в воздухе… — растерянно глядя вниз, пробормотал Кремень. — Дело в полу. Пол раскаляется!
Он был прав. От железной пластины шел ужасный жар, и если бы не обувь, она жгла бы нам ноги, как раскаленный солнцем песок пляжа в летний день.
— Если мы не поторопимся, мы тут заживо сгорим! — в ужасе воскликнула я.
Мы с капитаном поспешно запрыгнули на ступени, но я поднялась еще выше, до порфировой ступени, на которой стоял Фараг, и вгляделась в ангела. В голове у меня зажглась лампочка, искорка света. Разгадка была здесь. Она должна быть здесь. Дай Бог, чтобы она была здесь, потому что через несколько минут эта комнатка превратится в печь крематория. На лице ангела была легкая улыбка, как у Джоконды Леонардо да Винчи, и он, казалось, воспринимал все происходящее как шутку. Подняв к небу руки, он развлекался… Руки! Нужно рассмотреть его руки. Я тщательно осмотрела цепи. В них не было ничего особенного, кроме высокой рыночной стоимости. Самые обыкновенные толстые цепи. Но руки…
— Доктор, что вы делаете?
Руки у него были необычными, нет. На правой руке не хватало указательного пальца. Ангела искалечили. Что мне все это напоминает?..
— Посмотрите на тот угол! — завопил Фараг. — Он раскаляется докрасна!
Снизу до нас доносился глухой шум: гул разъяренного пламени.
— Там внизу пожар, — пробормотал Кремень и сердито повторил: — Доктор, какого черта вы там делаете?
— Ангел искалечен, — объяснила я, пока все ролики у меня в мозгу крутились на всю катушку в поисках давнего воспоминания, которое я никак не могла пробудить. — У него не хватает указательного пальца правой руки.
— Очень хорошо! Ну и что?!
— Вы что, не понимаете? — поворачиваясь к нему, выкрикнула я. — У ангела не хватает пальца! Это не может быть случайностью! Это что-то означает!
— Каспар, Оттавия права, — вмешался Фараг, снимая куртку и полностью расстегивая рубашку. — Надо воспользоваться мозгами. Это единственное, что может нас спасти.
— У него не хватает пальца. Замечательно.
— Может, это какая-то комбинация, — вслух подумала я. — Как в сейфе. Может, нам нужно вытащить одно звено серебряной цепи и девять золотой. Ну, чтобы вышло десять пальцев.
— Вперед, Оттавия! Времени у нас мало.
После того, как звено цепи возвращалось в руку ангела, внутри раздавался металлический щелчок. Я оставила одно звено серебряной цепи и потянула за золотую, вытащив девять звеньев. Ничего.
— Оттавия, все четыре угла плиты раскалены докрасна! — крикнул мне Фараг.
— Я не могу быстрее. Не могу быстрее!
У меня начала кружиться голова. Сильный запах перегоревшей стиральной машины сводил меня с ума.
— Ясно, что это не один и девять, — вмешался капитан. — Так что, наверное, нужно попробовать по-другому. С одной стороны от недостающего — шесть пальцев, с другой — три, так ведь? Попробуйте шесть и три.
Я как одержимая потянула за серебряную цепь и вытащила шесть звеньев. Мы погибнем, подумалось мне. Впервые в жизни я на самом деле поверила, что настал конец. Я начала молиться. Возвращая в правую руку шесть золотых звеньев и оставляя снаружи только три, я изо всех сил молилась. Но опять ничего не произошло.
Мы с капитаном и Фарагом в отчаянии переглянулись. В этот миг над полом взметнулось пламя: загорелся пиджак, кое-как брошенный капитаном на пол. С меня градом лился пот, но хуже всего был шум в ушах. Я начала снимать свитер.
— У нас не остается кислорода, — непроницаемым голосом объявил Кремень. По его серым глазам я видела, что, так же как и я, он знал, что приближается конец.
— Лучше нам помолиться, капитан, — сказала я.
— Вас по крайней мере… — прошептал профессор, не сводя глаз с горящего пиджака и откидывая со лба пряди мокрых волос, — тешит вера в то, что скоро вы начнете новую жизнь.
Во мне вдруг поднялась волна ужаса.
— Фараг, ты не верующий?
— Нет, Оттавия, неверующий. — Он робко улыбнулся, как бы извиняясь. — Но ты не беспокойся. Я много лет готовился к этому моменту.
— Готовился? — возмутилась я. — Единственное, что ты должен сделать, это обратиться к Богу и положиться на Его милосердие.
— Я просто засну, — сказал он так мягко, как только мог. — Я довольно долго боялся смерти, но не позволил себе поддаться слабости и уверовать в Бога, чтобы избавиться от этого страха. Потом я понял, что каждый вечер, когда я ложусь в постель и засыпаю, я тоже немного умираю. Процесс тот же самый, разве ты не знала? Помнишь греческую мифологию? — улыбнулся он. — Братьев-близнецов Гипноса[22] и Танатоса[23], сыновей Никты, Ночи… помнишь?
— Ради всего святого, Фараг! — взмолилась я. — Как ты можешь так богохульствовать, когда мы стоим на пороге смерти?!
Я никогда не думала, что Фараг может быть неверующим. Я знала, что он не то чтобы был рьяным христианином, но не быть рьяным христианином и не верить в Бога — две огромные разницы. К счастью, в жизни мне встречалось не много атеистов; я была уверена, что все по-своему верят в Бога. Поэтому я пришла в ужас, увидев, как этот сумасшедший ставит на кон свою вечную жизнь, говоря в свои последние минуты такие жуткие вещи.
— Оттавия, дай мне руку, — попросил он, протягивая мне свою дрожащую ладонь. — Если мне придется умереть, мне хотелось бы держать тебя за руку.
Я, конечно, протянула ему руку, как я могла ему в этом отказать? Кроме того, мне тоже нужно было почувствовать хотя бы кратчайший контакт с человеческим существом.
— Капитан, — окликнула я. — Вы хотите помолиться?
Жар был адский, воздуха почти не оставалось, и я практически ничего не видела — не только из-за капель пота, которые стекали мне на глаза, но и потому что была без сил. Меня обволакивало сладкое забытье, жаркий сон овладевал мною, лишая меня последних сил. Пол, холодная железная пластина, на которую мы вступили, войдя в комнату, превратился в ослепляющее море огня. Все светилось оранжевым и красноватым цветом, даже мы сами.
— Конечно, доктор. Начинайте вы, я буду продолжать.
Но тут я поняла. Как все просто!.. Одного последнего взгляда, брошенного на наши с Фарагом переплетенные руки, было достаточно: в этой влажной от пота и блестящей от отблесков огня массе пальцы перемножились… Ко мне в голову как во сне вернулась детская игра, небольшая хитрость, чтобы не учить наизусть таблицу умножения, которой научил меня в детстве мой брат Чезаре. Чтобы умножить на девять, как объяснил мне Чезаре, нужно просто вытянуть пальцы, отсчитать от мизинца левой руки до множителя и загнуть этот палец. Число пальцев, оставшихся слева, будет первой цифрой произведения, а справа останется вторая цифра произведения.
Я высвободила руки из ладоней Фарага, который так и не открыл глаза, и снова повернулась к ангелу. На мгновение мне показалось, что я потеряю равновесие, но меня поддержала надежда. Оставлять нужно было не шесть звеньев с одной стороны и три с другой! Произведение было шестьдесят три. Но комбинацию «шестьдесят три» нельзя набрать на этом сейфе. Шестьдесят три — это результат, произведение двух других чисел, как в хитрости Чезаре, и как же их легко угадать! Это Дантовы числа: девять и семь! Девятью семь — шестьдесят три; семью девять — шестьдесят три, шесть и три. Другого варианта не было. Я вскрикнула от радости и потянула за цепи. Конечно, я бредила, в моем мозгу бушевала эйфория, являвшаяся результатом недостатка кислорода. Но эта эйфория подсказала мне решение: семь и девять! Или девять и семь — именно этот ключ сработал. Моим рукам было не под силу толкать и вытягивать звенья цепи, но какое-то безумие, сумасшедший порыв заставил меня снова и снова напрягать все мои силы, пока мне это не удалось. Я знала, что Бог помогает мне, я чувствовала на себе Его вдохновение, но, когда мне все удалось, когда камень с фигурой ангела медленно погрузился в землю, открыв нашему взгляду новый прохладный коридор, языческий внутренний голос сказал мне, что на самом деле наполняющая меня жизнь будет всегда противиться смерти.
Мы выползли из комнаты на четвереньках, заглатывая полной грудью воздух, который наверняка был старым и застоявшимся, но казался нам самым чистым и сладким, какой мы когда-либо вдыхали. Непреднамеренно и не задумываясь об этом, мы выполнили также последнее указание, данное ангелом Данте: «Войдите, но запомните сначала, что изгнан тот, кто обращает взгляд». Мы не оглянулись назад, и за нашей спиной камень снова закрылся.
Теперь проход стал широким, и дышать было легко. Длинный коридор с немногочисленными ступеньками, скрадывавшими разницу в уровне, вел нас к поверхности. Мы были изнурены, обессилены; перенесенное нами напряжение совершенно вымотало нас. Фараг кашлял так, словно вот-вот переломится пополам; капитан придерживался за стену и шел неуверенными шагами, а я была в полном замешательстве и хотела только выйти отсюда, снова увидеть широкие просторы неба и почувствовать на лице солнечные лучи. Никто из нас не мог выговорить ни слова. Мы продвигались вперед в полной тишине, если не считать прерывистый кашель Фарага, как, шатаясь, идут куда глаза глядят выжившие в страшной катастрофе.
Наконец, спустя час или полтора Глаузер-Рёйст смог погасить фонарь, потому что света, просачивавшегося через узкие вентиляционные отверстия, было более чем достаточно для того, чтобы спокойно идти вперед. Выход должен был быть где-то рядом. Однако, пройдя еще несколько шагов, вместо того чтобы очутиться на свободе, мы оказались на небольшой круглой площадке, похожей на лестничную клетку, размером приблизительно с мою комнатку в квартире на площади Васкетте, стены которой буквально заполонили греческие буквы длиннейшей надписи, выбитой в камне. С первого взгляда, судя по прочтенным мною отдельным словам, это было похоже на молитву.
— Оттавия, ты видела? — Кашель Фарага постепенно унялся.
— Нужно было бы переписать все это и перевести, — вздохнула я. — Это может быть обычная надпись или послание ставрофилахов тем, кто прошел сквозь вход в Чистилище.
— Начало здесь, — указал он рукой.
Кремень, уже не казавшийся таким каменным, тяжело сел на пол, опершись спиной на надпись, и достал из рюкзака флягу с водой.
— Хотите? — лаконично предложил он.
Хотели ли мы!.. Мы были так обезвожены, что втроем опустошили все содержимое фляги.
Чуть придя в себя, мы с профессором встали перед началом надписи и навели на нее фонарь:
Πἄσαν χαράν ήγήσασθε, άδελφοί μου, ὂταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὂτι τὸ δοκίμιον ύμὦν τἦς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν.
— «Πἄσαν χαράν ήγήσασθε, άδελφοί μου…» — прочел Фараг на правильнейшем греческом языке. — «Почитайте, братья мои…» А это что такое? — удивился он.
Капитан вытащил из рюкзака записную книжку и дал ее профессору, чтобы он мог делать заметки.
— «Почитайте, братья мои, — перевела я, водя указательным пальцем по буквам, как указкой, — великою радостью, когда впадаете во всяческие искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение».
— Неплохо, — саркастично пробормотал капитан, не двигаясь с места, — я буду принимать с великой радостью, что был на грани смерти.
— «Терпение же должно повлечь за собой совершенные деяния, — продолжала я, — чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Минутку… Мне знаком этот текст!
— Да?.. Значит, это не письмо ставрофилахов? — разочарованно спросил Фараг, поднося ручку ко лбу.
— Это из Нового Завета! Начало послания Иакова! Приветствие, которое Иаков из Иерусалима направляет двенадцати коленам, находящимся в рассеянии.
— Апостол Иаков?
— Нет, нет. Отнюдь. Хоть автор этого письма и говорит, что его зовут Иакобос[24], он никогда не называет себя апостолом и, кроме того, как видишь, использует настолько правильный и ученый греческий язык, что это не может быть Иаков Старший.
— Значит, это не письмо ставрофилахов? — еще раз спросил Фараг.
— Конечно, письмо, профессор, — утешил его Глаузер-Рёйст. — Судя по словам, которые вы прочли, думаю, не будет ошибкой предположить, что ставрофилахи используют священные библейские слова для своих посланий.
— «Если же кому-нибудь из вас не хватает мудрости, — продолжила я читать, — пусть попросит ее у Бога, который дает всем в изобилии и не упрекает, и дастся ему».
— Я бы скорее перевел эту фразу так, — перебил меня Босвелл, тоже приближая палец к тексту: — «А если у кого-нибудь из вас недостает мудрости, да просит ее у Бога, дающего всем со щедростью и без упреков, и дана будет ему».
Я вздохнула, набираясь терпения.
— Не вижу разницы, — заключил капитан.
— Разницы нет, — заявила я.
— Ладно, ладно! — сдался Фараг, с показным равнодушием махая рукой. — Признаю, что мои переводы немного вычурны.
— Немного?.. — удивилась я.
— Как посмотреть… Можно сказать, они довольно точны.
Я чуть не выдала ему, что, имея такие мутные стекла в очках, достичь точности нереально, но воздержалась, потому что именно он взял на себя работу по переписыванию текста, а меня совсем не прельщала возможность этим заниматься.
— Мы отходим от сути, — заметил Глаузер-Рёйст. — Не могли бы эксперты любезно сосредоточиться на сути, а не на форме?
— Разумеется, капитан, — ответила я, взглянув на Фарага через плечо. — «Но пусть просит с верой, без всякого сомнения; ибо сомнения подобны морским волнам, гонимым ветром с одного места на другое. Да не думает такой человек, что получит что-то от Господа; он нерешителен и непостоянен в путях своих».
— Я бы скорее сказал, не «нерешителен», а «человек с двоящимися мыслями».
— Профессор!..
— Хорошо! Я молчу.
— «Да хвалится убогий брат возвышением своим, а богатый — унижением своим». — Этот длинный абзац подходил к концу. — «Блажен тот, кто переносит испытание, ибо, пройдя его, получит венец».
— Венец, который выгравируют у нас на коже над первым из крестов, — пробормотал Кремень.
— Ну, честно говоря, испытание на входе в Чистилище было не из легких, а у нас до сих пор нет ни одной новой отметины на коже, — заметил Фараг, стараясь отогнать кошмар грядущего шрамирования.
— Это еще ничто по сравнению с тем, что нас ждет. Пока мы просто попросили разрешения войти.
— Вот именно, — согласилась я, опуская палец и взгляд к последним словам надписи. — Осталось совсем немного. Всего пара фраз:
καὶ οὖτως εις τήν Ρώμην ἦλθαμεν.
— «И на этом мы перейдем в Рим», — перевел профессор.
— Чего и следовало ожидать, — подытожил Кремень. — Первый уступ «Чистилища» Данте — это круг гордецов, а, как говорил Катон LXXVI, этот грех искупается в городе, известном именно своим отсутствием смирения. То есть в Риме.
— Значит, возвращаемся домой, — с благодарностью произнесла я.
— Если выберемся отсюда, то да. Хотя ненадолго, доктор.
— Мы еще не закончили, — сказала я, снова возвращаясь к надписи на стене. — Осталась последняя строчка: «Храм Марии прекрасно украшен».
— Это не может быть из Библии, — заметил профессор, потирая виски; грязные от пыли и пота волосы спадали ему на лицо. — Не помню, чтобы где-то там говорилось о храме Марии.
— Я почти уверена, что это фрагмент Евангелия от Луки, но в него добавлено упоминание о Богородице. Наверное, это подсказка или что-то в этом роде.
— Когда вернемся в Ватикан, подумаем, — заключил Кремень.
— Это из Луки, точно, — не унималась я, гордясь своей памятью. — Не скажу, из какой главы и какого стиха, но это момент, в который Иисус предвещает разрушение иерусалимского храма и грядущие преследования христиан.
— На самом деле, когда Лука записал эти пророчества, вложив их в уста Иисуса, — уточнил Босвелл, — в восьмидесятых-девяностых годах нашей эры, все это уже случилось.
Я холодно взглянула на него.
— Не думаю, что это замечание кстати, Фараг.
— Прости, Оттавия, — извинился он. — Я думал, ты знаешь.
— Знаю, — сердито ответила я. — Но зачем об этом напоминать?
— Ну… — замялся он, — я всегда думал, что хорошо знать правду.
Не вмешиваясь в наш спор, Кремень встал, поднял с пола рюкзак, повесил его на плечо и вошел в коридор, ведущий к выходу.
— Если от правды только вред, Фараг, — в ярости уколола я его, думая о Ферме, Маргерите и Валерии и о стольких других людях, — знать ее не обязательно.
— Наши мнения расходятся, Оттавия. Правда всегда лучше лжи.
— Даже если она приносит вред?
— Все зависит от человека. Есть люди, больные раком, которым нельзя говорить, в чем заключается их болезнь; однако другие настаивают на том, чтобы об этом знать. — Впервые за все время нашего знакомства он пристально, не мигая, посмотрел на меня. — Я думал, ты из этих людей.
— Доктор! Профессор! Выход! — закричал Глаузер-Рёйст неподалеку.
— Идем, а то останемся здесь навсегда! — воскликнула я и пошла по коридору, оставив Фарага одного.
Мы выбрались на поверхность через засохший колодец посреди диких скалистых гор. Темнело, было холодно, и мы понятия не имели о том, где находимся. В течение пары часов мы шагали по течению реки, которая почти все время текла по узкому ущелью, а потом наткнулись на грунтовую дорогу, которая привела нас к частному дому, владелец которого, привыкший принимать заблудившихся любителей пеших экскурсий, любезно сообщил нам, что мы находимся в долине Анапо, приблизительно в десяти километрах от Сиракуз, и что мы гуляли в темноте по Иблейским горам. Вскоре за нами заехал автомобиль архиепископства и вернул нас к цивилизации. Мы ничего не могли рассказать его преподобию монсеньору Джузеппе Арене о своих приключениях, так что мы быстро поужинали в архиепископстве, забрали вещи и поспешили в аэропорт Фонтанаросса, находившийся в пятидесяти километрах оттуда, чтобы сесть на первый же рейс, вылетавший ночью в Рим.
Помню, уже в самолете, пристегивая ремни перед взлетом, мне вдруг пришел в голову пожилой ризничий церкви Святой Лючии, и я подумала, что же ему сказали в архиепископстве, чтобы он не волновался. Я хотела сказать об этом капитану, но, повернувшись к нему, увидела, что он уже спит глубоким сном.
Когда на следующий день задолго до рассвета я открыла глаза, я почувствовала себя как рассеянный путешественник, который, не вполне понимая, что происходит, теряет один день жизни из-за вращения Земли. Даже теперь, лежа на кровати в номере «Дома», я была настолько измучена, что казалось, я вообще не спала прошлой ночью. В тишине наблюдая за силуэтами, которые рисовал вокруг меня скудный свет с улицы, я снова и снова спрашивала себя, во что я влипла, что происходит и почему моя жизнь настолько утратила свою упорядоченность: несколько часов назад я чуть не умерла в глубинах земли, меньше чем за два дня смерть отца и брата превратилась в далекое воспоминание, и, ко всему прочему, я не продлила обет.
Как мне было все это переварить, если я жила в совершенно непривычном для меня ритме? Дни, недели, месяцы проносились мимо, а я все меньше и меньше отдавала себе отчет в самой себе и в моих обязанностях монахини и заведующей лабораторией реставрации и палеографии тайного архива Ватикана. Я знала, что могу не волноваться из-за обета: в уставе моего ордена были предусмотрены форс-мажорные обстоятельства вроде моих, и если при первой же представившейся возможности я подпишу прошение, обет считался автоматически продленным in pectore, «в душе». Да, мой орден освободил меня от всех обязанностей, да, Ватикан тоже освободил меня от всех обязанностей, да, я делала жизненно важную для церкви работу, но разве я сама освободила себя от обязанностей? Разве Бог меня освободил?
На мгновение, поворачиваясь на другой бок и закрывая глаза, пытаясь снова заснуть, я подумала, что лучше всего оставить эти размышления и отдаться на волю событий, вместо того чтобы пытаться управлять ими, но веки отказались закрываться, и внутренний голос обвинил меня в том, что я веду себя трусливо, постоянно на все жалуюсь и прячусь за наигранными страхами и угрызениями совести.
Почему бы вместо того, чтобы нагружать совесть чувством вины, а судя по всему, это было моим излюбленным занятием, мне не решиться получать удовольствие от того, что дарила мне жизнь? Я всегда завидовала авантюрному характеру брата, Пьерантонио: его исследования, назначение в Святую Землю, его археологические раскопки… А теперь, когда я сама нахожусь в центре подобных событий, вместо того чтобы проявить свои сильные, храбрые стороны, я словно одеялом окутываю себя страхами. Бедняжка Оттавия! Всю жизнь среди книг и молитв, всю жизнь училась, пыталась доказать, что чего-то стоит среди кодексов, свитков, папирусов и пергаменов, а когда Бог решает вытащить ее в мир и на время оторвать от науки и исследований, она начинает дрожать, как девчонка, и жалуется, как последний трус.
Если я хотела продолжать расследование похищений реликвий Святого Древа с Фарагом и капитаном Глаузер-Рёйстом, я должна изменить свое отношение к делу, должна вести себя как человек, получивший уникальный шанс, как это было на самом деле, должна быть отважнее и решительнее, оставив позади жалобы и отговорки. Разве Фараг не утратил все без единой жалобы? Свой дом, семью, страну, работу в Греко-Римском музее Александрии… В Италии у него есть только временно предоставленный номер в «Доме» и такое же временное скупое денежное пособие, выдаваемое государственным секретариатом по просьбе капитана. И все же он здесь, готовый подвергнуть опасности свою жизнь, чтобы прояснить тайну, которая не только существует уже несколько веков, но и поставила теперь на ноги все христианские церкви… И это при том, что он атеист, вспомнила я, снова удивляясь.
Нет, не атеист, подумала я, зажигая лампу на тумбочке и садясь на кровати, чтобы выпрыгнуть из постели. Атеистов нет, как бы они ни хвастались своим неверием. Все мы так или иначе верим в Бога, по крайней мере так меня учили, и Фараг тоже по-своему верит в Него, что бы он ни говорил. Хотя в худшем случае это столь свойственное нам, верующим, мнение — всего лишь нетерпимость и высокомерие, и люди, не верующие в Бога, действительно существуют, как бы странно это нам ни казалось.
Когда я попыталась вытащить ноги из-под одеяла, у меня вырвался ужасный возглас: «Боже мой!»: все мое тело было утыкано иглами, булавками, колючками, шипами… Всеми возможными и невозможными разнообразными остриями. Вчерашние приключения в катакомбах Святой Лючии надолго наградили меня синяками и ссадинами. «Эй, стой-ка! Что я только что себе говорила?» — жестко укорила я себя. Вместо того чтобы снова жаловаться, я должна вспоминать о происшедшем в Сиракузах с гордостью, чувствуя удовлетворение от того, что разгадала загадку и выбралась живой из этой дыры. Весьма вероятно, что другие люди умерли там, так и не…
Другие люди умерли там.
— А останки? — вслух спросила я.
— Несомненно, в Сиракузах есть ставрофилахи, — заявил капитан несколько часов спустя, когда впервые после прошлой недели мы все собрались в моей лаборатории в Гипогее.
— Позвоните в архиепископство и наведите справки о ризничем той церкви, — предложил Фараг.
— О ризничем? — удивился Кремень.
— Да, я тоже думаю, что он как-то связан с братством, — согласилась я. — Интуиция.
— Но какой смысл мне звонить? Мне скажут, что это хороший человек, который многие годы щедро оказывает помощь в уходе за церковью Святой Лючии. Так что, если ничего лучшего вы не придумали, оставим этот вопрос.
— Но я уверена, что именно он поддерживает чистоту на месте испытания и убирает останки тех, кто не может его пройти. Разве вы не помните, что золотая и серебряная цепи сияли?..
— Даже если это и так, доктор, — саркастически возразил он, — вы думаете, что, если мы его вежливо спросим об этом, он признает, что он ставрофилах? Ну, может, мы и добьемся, что его задержит полиция, хоть он никогда и не совершал никаких преступлений и является старым честным ризничим церкви Святой Лючии, покровительницы Сиракуз. В этом случае мы силой срываем с него одежду, чтобы увидеть, есть ли у него на теле шрамы. Хотя, конечно, если он не захочет раздеваться, мы всегда можем получить судебный приказ, который обяжет его это сделать. А когда он наконец разденется в полиции… Сюрприз! Никаких отметин у него на теле нет, и он тот, за кого себя выдает. Очень хорошо! Тогда он подает на нас в суд, так? Пишет на нас прекрасное заявление, которое, естественно, в конце концов обвиняет во всем Ватикан и появляется в газетах.
— Вопрос в том, — прервал его Фараг, утихомиривая капитана, — что если ризничий — ставрофилах, думаю, кроме того, что он выполняет обязанности, о которых говорила Оттавия, он еще и сообщит братству о том, что кто-то начал прохождение испытаний.
— Мы не должны упускать из виду и эту возможность, — согласился капитан. — Здесь, в Риме, нам нужно держать ухо востро.
— И раз уж мы заговорили о Риме… — Оба вопросительно взглянули на меня. — Думаю, нам нужно иметь в виду, что мы можем умереть во время одного из этих испытаний. Я говорю это не для того, чтобы пугаться или отступать, но перед тем, как двигаться дальше, все должно быть четко и ясно.
Капитан с Босвеллом недоуменно переглянулись, а потом посмотрели на меня.
— Я думал, доктор, этот вопрос уже решен.
— Как это уже решен?
— Мы не умрем, Оттавия, — очень решительно заявил Фараг, поправляя очки. — Да, никто не говорит, что опасности нет, но…
— …но, как бы опасно это ни было, — подхватил Кремень, — почему бы нам не одолеть испытания, как это сделали сотни ставрофилахов на протяжении многих веков?
— Нет, я не говорю, что мы точно умрем. Говорю только, что мы можем умереть и что мы не должны об этом забывать.
— Доктор, мы знаем об этом. И его превосходительство кардинал Содано с Его Святейшеством Папой тоже знают об этом. Но никто не принуждает нас здесь быть. Если вы чувствуете, что не в состоянии продолжать, я это пойму. Для женщины…
— Опять начинается! — возмущенно воскликнула я.
Фараг тихонько засмеялся.
— Интересно знать, чего ты смеешься? — резко спросила я.
— Смеюсь, потому что теперь ты захочешь первой пройти все испытания.
— Да, ну и что! И что?
— Ну и ничего! — весело рассмеявшись, ответил он. Самым удивительным было то, что до того, как я успела как-то отреагировать, в лаборатории послышался еще один громкий раскат хохота. Я не могла поверить своим глазам: Фараг с Кремнем умирали со смеху, подхватывали залпы хохота друг за другом и никак не могли остановиться. Что мне было делать, как не убить их?.. Я вздохнула и покорно улыбнулась. Если они готовы дойти до конца этого приключения, я пойду на два шага впереди. Так что все решено. Теперь оставалось только взяться за работу.
— Нам не мешало бы начать разбираться с записями из катакомб, — намекнула я терпеливо, опершись локтями о стол.
— Да, да… — пробормотал Босвелл, утирая слезы тыльной стороной ладони.
— Великолепная мысль, доктор, — икая, произнес капитан.
То, что Кремень умеет смеяться, несомненно, радует.
— Ну, если ты уже взял себя в руки, Фараг, прочитай, пожалуйста, свои заметки..
— Минутку… — попросил он, ласково глядя на меня и доставая из огромных карманов своей куртки записную книжку. Он откашлялся, отвел волосы с лица, снова надел очки, вдохнул и наконец нашел то, что искал, и начал читать: — «Почитайте, братья мои, великою радостью, когда впадаете во всяческие искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно повлечь за собой совершенные деяния, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. А если у кого-нибудь из вас недостает мудрости, да просит ее у Бога, дающего всем со щедростью и без упреков, и дана будет ему. Но пусть просит с верой, без всякого сомнения; ибо сомнения подобны морским волнам, гонимым ветром с одного места на другое. Да не думает такой человек, что получит что-то от Господа; он человек с двоящимися мыслями…»
— Человек с двоящимися мыслями? Это не мой перевод.
— На самом деле это мой. Поскольку записывал я… — удовлетворенно заметил он. — «…он человек с двоящимися мыслями и непостоянен в путях своих. Да хвалится убогий брат возвышением своим, а богатый — унижением своим. Блажен тот, кто переносит испытание, ибо, пройдя его, получит венец». Потом шло это: «И на этом мы перейдем в Рим», что, как уже отметил капитан, является подсказкой, которая говорит нам о городе, где проходит первое испытание Чистилища. И, наконец: «Храм Марии прекрасно украшен».
— Прекрасно украшен, — с некоторым отчаянием повторила я. — Речь идет о прекрасном храме, посвященном Богородице. Это, несомненно, ключ, чтобы найти место, но не очень-то конкретный ключ. Разгадка — не сама фраза, она во фразе. Но как ее отыскать?
— Все посвященные Деве Марии церкви в Риме прекрасно украшены, так ведь?
— Только посвященные Деве Марии, профессор? — подшучивая, переспросил Глаузер-Рёйст. — Все церкви в Риме прекрасно украшены.
Сама того не осознавая, я без видимой причины встала и подняла вверх правую руку. Мой разум блуждал в словах.
— Как звучит эта фраза по-гречески, Фараг? Ты переписал текст оригинала?
Профессор, хмурясь, посмотрел на меня и задержал взгляд на моей руке, загадочно подвешенной в воздухе на невидимом проводе.
— У тебя что-то с рукой?
— Фараг, ты переписал текст? Переписал сам оригинал?
— Ну нет, Оттавия, не переписал, но я приблизительно помню.
— Приблизительно не годится, — воскликнула я, опуская руку в карман халата, который по привычке продолжала надевать: без него я не могла находиться в лаборатории. — Мне нужно вспомнить, как точно были написаны слова «прекрасно украшен». «Калос кекосметаи»[25]? У меня предчувствие!
— Ну-ка… Дай-ка припомнить… Да, я уверен, там говорилось «το ιερον της Παναγίας καλως κεκοσμεται» — «храм Святейшей прекрасно украшен». «Панагиас» — «Всесвятая» или «Святейшая», так греки называли Богородицу.
— Конечно! — с восторгом воскликнула я. — «Кекосметаи»! «Кекосметаи»! Санта-Мария-ин-Космедин!
— Санта-Мария-ин-Космедин? — переспросил Глаузер-Рёйст с недоумением на лице.
Фараг улыбнулся:
— Невероятно! В Риме есть храм с греческим названием? Святая Мария Прекрасная, Красивейшая… Я думал, тут все на итальянском или на латыни.
— Это не просто невероятно, — проговорила я, вышагивая взад и вперед по моей маленькой лаборатории, — потому что, кроме всего прочего, это одна из самых любимых моих церквей. Я хожу туда не так часто, как хотелось бы, потому что она далеко от дома, но это единственный в Риме храм, где ведутся богослужения на греческом языке.
— Не помню, чтобы я там бывал, — заметил Кремень.
— Капитан, вы когда-нибудь клали руку в «Уста истины»? — спросила я. — Ну да, вы знаете, в это ужасное изваяние, которое, по легенде, кусает лжецов за пальцы.
— Ах да! Конечно, я был у «Уст истины». Это римская достопримечательность.
— Ну вот, «Уста истины» расположены в портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Люди со всех концов земли высаживаются из автобусов, заполоняющих площадь возле церкви, выстраиваются в очередь в портике, подходят к голове, засовывают ей руку в рот, непременно фотографируются и уезжают. Никто не входит в храм, никто его не видит, никто не знает о его существовании, а между тем это одна из самых красивых церквей Рима.
— «Храм Марии прекрасно украшен», — процитировал Босвелл.
— Но, доктор, почему вы уверены, что речь идет об этой церкви? Я же говорил, в этом городе сотни прекрасных церквей!
— Нет, капитан, — возразила я, останавливаясь перед ним, — это не только потому, что она красива, хоть это, безусловно, так, и не потому, что ее еще больше украсили византийские греки, прибывшие в Рим в VIII веке, избегая иконоборческих раздоров. Это потому, что фраза из надписи в катакомбах Святой Лючии прямо указывает на него: «Храм Марии прекрасно украшен» — «калос кекосметаи»… Разве не видите? «Кекосметаи», Космедин.
— Оттавия, он не может понять, — упрекнул меня Фараг. — Капитан, я вам объясню. Слово «Космедин» происходит от греческого «космидион», что означает «украшенный, убранный, прекрасный»… От этого слова происходит, к примеру, и слово «косметический». «Кекосметаи» в нашей фразе — это глагол в пассивной форме. Если мы уберем приставку «ке-», единственной функцией которой является идентификация совершенного вида глагола, останется «косметаи», слово, как видите, однокоренное со словами «космидион» и «Космедин».
— Ставрофилахи указывают на церковь Санта-Мария-ин-Космедин, — с полной уверенностью заявила я. — Нам остается только отправиться туда и убедиться в этом.
— Перед этим мы должны просмотреть заметки о первом уступе Дантова Чистилища, — заметил Фараг, открывая мой экземпляр «Божественной комедии», лежавший на столе.
Я начала снимать халат.
— Очень хорошо, а я пока займусь срочными делами.
— Доктор, ничего более срочного нет. Сегодня же вечером мы должны отправиться в Санта-Марию-ин-Космедин.
— Оттавия, когда нужно читать Данте, ты всегда удираешь.
Я повесила халат и обернулась к ним.
— Если мне снова придется ползать по земле, спускаться по пыльным ступенькам и лазать в неисследованных катакомбах, мне нужна более подходящая одежда, чем та, которой я пользуюсь для работы в Ватикане.
— Ты что, пойдешь покупать одежду? — удивился Босвелл.
Я открыла дверь и вышла в коридор.
— Только куплю себе брюки.
Я никогда не пошла бы в церковь Санта-Мария-ин-Космедин, не прочитав десятую песнь Дантова «Чистилища», но в обед магазины закрывались, и у меня оставалось не так уж много времени на покупку того, что мне было нужно. Кроме того, я хотела позвонить домой и узнать, как дела у матери и всех остальных домочадцев, а для этого мне было нужно немного покоя.
Когда я вернулась в архив, мне сказали, что Фараг с капитаном обедают в ресторане «Дома», так что я заказала себе бутерброд в кафетерии для работников архива и закрылась в лаборатории, чтобы спокойно прочитать рассказ о бедствиях, которые должны были свалиться на нас сегодня вечером. Я никак не могла выбросить из головы хитрость с таблицей умножения, с помощью которой я разрешила загадку входа. Я все еще видела, как, семи-восьми лет от роду, я сижу на кухне над школьными уроками, а стоящий рядом Чезаре объясняет мне суть трюка. Как возможно, чтобы простая детская уловка превратилась в испытание в процессе инициации секты с тысячелетней историей? Я находила этому всего два объяснения: во-первых, то, что много веков назад почиталось за высшее достижение науки, сейчас свелось до уровня начальной школы, а во-вторых, это, конечно, неслыханно и поверить в это сложно, но мудрость прошлого может проходить через века, прячась под личиной каких-то народных обычаев, сказок, детских игр, легенд, традиций и даже, на первый взгляд, совершенно безобидных книг. Чтобы обнаружить ее, нужно только изменить мировоззрение, сказала я себе, понять, что наши глаза и уши — лишь слабые инструменты восприятия окружающей нас сложной действительности, открыть наш разум и отбросить предрассудки. И именно этот удивительный процесс начал происходить со мной, хотя я и понятия не имела почему.
Я уже не могла читать Дантов текст с давешним равнодушием. Теперь я знала, что за этими словами кроется более глубокий смысл, чем могло бы показаться. Данте Алигьери тоже стоял перед изображением ангела-хранителя в катакомбах Сиракуз и тянул за те же самые цепи, которые держала в руках я. Кроме всего прочего, это заставляло меня почувствовать некую общность с великим флорентийским писателем, и меня поражало, что он решился написать «Чистилище», зная, а он наверняка знал, что ставрофилахи никогда ему этого не простят. Быть может, его литературные амбиции не имели границ, быть может, он хотел доказать, что он — новый Вергилий, получить тот лавровый венок, награду поэтов, который украшал все его портреты и который, по его словам, был единственным, чего он жаждал. В Данте жило непреодолимое желание войти в историю как величайший писатель всех времен, и он неоднократно заявлял об этом, поэтому для него, вероятно, было крайне тяжело видеть, как течет время, как он становится старше, так и не достигнув исполнения своей мечты, и так же, как Фауст несколько веков спустя, он, очевидно, решил, что может продать душу дьяволу, чтобы обрести славу. Он воплотил свою мечту в действительность, хоть и заплатил за это собственной жизнью.
— Десятая песнь начиналась с того, что Данте с учителем Вергилием наконец пересекают порог Чистилища. По шуму двери, закрывающейся за их спинами (оглянуться назад они не могут), они понимают, что назад дороги нет. Так начинается очищение флорентийца, его собственный путь внутреннего освобождения от грехов. Он уже был в Аду и видел наказания, которым подвергаются осужденные на вечные муки в девяти кругах. Теперь от него требовалось очиститься от собственных грехов, чтобы, полностью обновленный, он смог войти в Царство Небесное, где его ожидает возлюбленная Беатриче, которая, если верить Глаузер-Рёйсту, есть не что иное, как воплощение Мудрости и Высшего Знания.
Мы подымались в трещине породы,
Где та и эта двигалась стена,
Как набегают, чтоб отхлынуть, воды.
Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна,
Чтоб угадать, какая в самом деле
Окажется надежней сторона».
Господи, движущаяся скала! Кусок хлеба, который я жевала, обернулся горечью во рту. Слава Богу, что я купила те красивые брюки жемчужно-серого цвета! Я была довольна, потому что стоили они совсем недорого и очень мне шли. Скрывшись в примерочной магазина, стоя одна перед зеркалом, я обнаружила, что они придают мне моложавый вид, которого у меня никогда не было. Я всей душой пожелала, чтобы не было никаких глупых норм, запрещающих мне носить эти брюки, но, если они и были, я бы совершенно проигнорировала их без всяких угрызений совести. На память мне пришла знаменитая американская монахиня Мэри Доминик Рамаччотти, основательница римско-католического общежития «Гелз Виллидж», которая получила особое разрешение Пия XII носить шубы, делать химическую завивку, пользоваться косметикой от Элизабет Арден, посещать оперу и одеваться с изысканной элегантностью. Я ко всему этому не стремилась; мне было достаточно носить обычные брюки, которые я, кстати, покидая магазин, так и не сняла.
Преодолев значительные трудности, Данте с Вергилием наконец попадают на первый уступ Чистилища:
От кромки, где срывается скала,
И до стены, вздымавшейся высоко,
Она в три роста шириной была.
Докуда крылья простирало око,
Налево и направо, — весь извив
Дороги этой шел равно широко.
Но Вергилий тут же призывает его прекратить глазеть по сторонам и обратить внимание на странную толпу душ, которые скорбно и медленно приближаются к ним.
Я начал так: «То, что идет на нас,
И на людей по виду не похоже,
А что идет — не различает глаз».
И он в ответ: «Едва ль есть кара строже,
И ею так придавлены они,
Что я и сам сперва не понял тоже.
Но присмотрись и зреньем расчлени,
Что движется под этим камнями:
Как бьют они самих себя, взгляни!»
Это были души гордецов, придавленные весом огромных камней, которые унижали их, очищая от мирского тщеславия. Они с трудом продвигались по узкому уступу, касаясь коленями груди, и их лица были искажены от усилия. При этом они читали странный вариант молитвы «Отче наш», подходивший к их обстоятельствам и находящий Господа и в месте их пребывания: «О наш Отец, на небесах царящий, не замкнутый…» — так начиналась песнь десятая. Ужасаясь их страданиям, Данте желает им поскорее пройти Чистилище, чтобы подняться «к звездной высоте». Всегда гораздо более практичный в таких вещах Вергилий просит души указать им дорогу, ведущую ко второму уступу.
И он гласил: «Есть путь к отрадным сеням;
Идите с нами вправо: там, в скале,
И человек взберется по ступеням».
По дороге, как и в Предчистилище, Данте подолгу беседует со своими старыми знакомыми или знаменитостями, и все они предостерегают его против тщеславия и высокомерия, словно догадываясь, что именно этот уступ доведется проходить поэту, если он вовремя не очистится. Наконец после долгих разговоров и длинного пути начинается новая песнь, двенадцатая, в начале которой Вергилий призывает флорентийца в конце концов оставить в покое души гордецов и сосредоточиться на поисках прохода.
И он сказал мне: «Посмотри под ноги!
Тебе увидеть ложе стоп твоих
Полезно, чтоб не чувствовать дороги».
Данте послушно смотрит на тропу и видит, что она покрыта чудесно вырезанными фигурами. Тут начинается длиннейший фрагмент из двенадцати или тринадцати терцетов, в которой во всех подробностях описываются воплощенные в камне сцены: молниеносное падение Люцифера с Небес, агония Бриарея после его восстания против олимпийских богов, сумасшествие Немврода по причине падения его прекрасной Вавилонской башни, самоубийство Саула после поражения в Гелвуе и так далее. Множество мифологических, библейских и исторических примеров наказанной гордыни. Шагая согнувшись, чтобы не упустить ни малейшей детали, флорентийский поэт в восхищении недоумевает, кто же этот художник, чья кисть или свинец так мастерски начертали дивный образ этих черт и теней.
К счастью, подумала я, Данте не пришлось тащить на себе камень, что меня невероятно утешало, но от долгого шагания с согнутой спиной для разглядывания рельефов его никто не избавил. Если испытание ставрофилахов заключалось в том, чтобы пройти, согнувшись, несколько километров, я была готова к нему приступить, хотя что-то подсказывало мне, что все будет не так просто. Перенесенное в Сиракузах наложило на меня глубокий отпечаток, и я уже совершенно не доверяла красивым стихам.
В общем, оба путешественника наконец достигают противоположного края уступа, и в этот момент Вергилий говорит Данте, чтобы тот приготовился, украсил почтением действия и взгляд, потому что одетый в белое и сверкающий, как рассветная звезда, ангел подходит к ним, чтобы помочь найти выход.
С широким взмахом рук и взмахом крылий
«Идите, — он сказал, — ступени тут,
И вы теперь взойдете без усилий.
На этот зов немногие идут:
О род людской, чтобы взлетать рожденный,
Тебя к земле и ветерки гнетут!»
Он обмахнул у кручи иссеченной
Мое чело тем и другим крылом
И обещал мне путь незатрудненный.
Какие-то голоса запевают «Beati pauperes spiritu»[26], в то время, как они начинают подъем по крутой лестнице. Тогда Данте, который до того уже несколько раз говорил о своей огромной физической усталости, с удивлением замечает, что чувствует себя легким, как перышко. Вергилий оборачивается к нему и говорит, что, хоть он этого и не заметил, взмахами крыльев ангел стер одну из семи букв «Ρ», которые были начертаны у него на лбу (по одной за каждый смертный грех), и что теперь он несет меньшую тяжесть. Таким образом, Данте Алигьери очищается от греха гордыни.
И на этом месте, склонившись на стол, я заснула от крайней усталости. Мне не так везло, как флорентийскому поэту.
В неспокойном и переполненном видениями из сиракузского склепа и невыразимыми опасностями сне, вселяя в меня уверенность, появлялся улыбающийся Фараг. Я отчаянно хваталась за его руку, потому что это была единственная возможность спастись, а он с бесконечной нежностью звал меня по имени.
— Оттавия… Оттавия. Проснись, Оттавия.
— Доктор, уже поздно, — безжалостно загудел Глаузер-Рёйст.
Я застонала, не в силах выйти из сна. Голова у меня раскалывалась, и эта боль усиливалась, когда я пыталась открыть глаза.
— Оттавия, уже три часа, — настаивал Фараг.
— Простите, — наконец удалось выговорить мне, с трудом поднимая голову. — Я заснула. Извините, пожалуйста.
— Мы все без сил, — согласился Фараг. — Но, вот увидишь, сегодня ночью мы отдохнем. Как только выйдем из Санта-Марии-ин-Космедин, сразу отправимся в «Дом» и будем целую неделю валяться в постели.
— Уже поздно, — повторил Кремень, надевая на плечо свой рюкзак, который на вид казался гораздо полнее, чем накануне. Он, наверное, засунул туда огнетушитель или что-то в этом роде.
Мы вышли из Гипогея (однако прежде я выпила таблетку от головной боли, самую сильнодействующую, какая нашлась в аптечке) и прошли через Город до стоянки швейцарской гвардии, где находился синий спортивный автомобиль Глаузер-Рёйста. Свежий воздух улицы помог мне развеяться и немного снял ощущение отечности, но что на самом деле мне было необходимо, так это попасть домой и отоспаться двадцать — тридцать часов. Кажется, именно тогда я со всей отчетливостью поняла, что, пока эта странная история не закончится, отдых, сон и упорядоченная жизнь превратились для нас в непозволительную роскошь.
Мы миновали ворота Святого Духа и, дальше по улице Лунготевере, добрались до моста Гарибальди, который, как всегда, не справлялся с дичайшим потоком машин. После десяти с лишком минут томительного ожидания мы переехали через реку и на всей скорости покатили по улицам Аренула и Боттеге-Оскуре до площади Святого Марка, делая, таким образом, огромный крюк, который тем не менее позволял нам скорее попасть к церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Мопеды обгоняли нас и вились вокруг, как рой обезумевших ос, но Глаузер-Рёйст чудесным образом умудрился увернуться от всех них, и наконец, не без сюрпризов, «альфа-ромео» остановился у тротуара возле парка на площади Бокка-делла-Верита. Вот она, моя маленькая и всеми забытая византийская церковь со столь гармоничными пропорциями. Я нежно посмотрела на нее через окошко, открыла дверцу и вышла.
В течение дня небо постепенно затянуло тучами, и мрачный серый цвет давил на красоту церкви Санта-Мария-ин-Космедин, не уменьшая ее ни на йоту. Может, причиной моей головной боли была не только усталость, но и это свинцовое небо. Я подняла глаза к самой вершине семиэтажной колокольни, которая величественно вздымалась из центра здания, и ко мне в голову опять пришла эта старая мысль о влиянии времени, неумолимого времени, разрушающего нас и бесконечно умножающего красоту произведений искусства. Со времен античности в этой части Рима, известной под названием Бычий рынок, потому что тут проводились ярмарки скота, находилась крупная греческая колония и важный храм, посвященный Геркулесу Непобедимому, возведенный в честь того, кто вернул быков, похищенных разбойником Какусом. В III веке нашей эры на месте развалин храма была построена первая христианская часовня, которая затем разрасталась и украшалась, пока не превратилась в красивейшую церковь, каковой является и по сей день. Несомненно, огромнейшее значение для Санта-Марии-ин-Космедин имело прибытие в Рим греческих мастеров, бежавших от преследований иконоборцев, организованных теми христианами, которые считали, что изображать Бога, Деву Марию или святых — это грех.
Мы с Фарагом и капитаном медленно подобрались к портику церкви, с трудом пробиваясь сквозь плотные ряды туристов, съехавшихся в Рим на Юбилейный год и толпившихся в очереди, чтобы засунуть руку в «Уста истины» огромного страшилища, расположенного в конце портика. Капитан продвигался вперед с твердостью и непоколебимостью военного флагманского корабля, не обращая внимания на все, что нас окружало, а Фараг, казалось, смотрел во все глаза и старался удержать в памяти все до последней подробности.
— И что, эти уста… — весело спросил он, склоняясь ко мне. — Они кого-нибудь когда-нибудь укусили?
Я фыркнула.
— Пока нет! Но если они кого-нибудь укусят, я тебе сразу сообщу.
Он рассмеялся, и я заметила, что свет падал в его голубые глаза так, что они казались более темными, а светлая щетина бороды, в которой кое-где уже виднелась седина, еще сильнее подчеркивала его семитские черты и смуглую кожу египтянина. Какие странные повороты случаются в жизни, что она свела вместе в одном месте и в одно и то же время швейцарца, сицилийку и свод морфологических черт разных рас!
Внутри церковь Санта-Мария была освещена электрическими лампами, подвешенными в боковых нефах и на колоннах, потому что проникающий снаружи свет был слишком слабым, чтобы отправлять службы. Убранство церкви было чисто греческим и византийским, и хотя по этой причине мне нравилось в ней все, меня всегда словно магнит притягивали огромные железные подсвечники, в которых вместо десятков плоских белых свечечек, как в церквях римского обряда, стояли тонкие желтые свечи, типичные для восточного мира. Не задумываясь ни на минуту, я прошла к подсвечнику, стоявшему у ограждения места для хора, «schola cantorum», которое было расположено здесь в центральном нефе, перед алтарем, бросила в кружку несколько лир и, зажегши одну из золотистых свечей, прикрыла веки и погрузилась в молитву, прося у Бога позаботиться о моем отце и моем бедном брате и защитить мать, которая, похоже, так и не может оправиться от недавней потери. Я поблагодарила Его за то, что так занята делами церкви, что могу забыть о постоянной боли, которую чувствовала бы от их потери, не будь этой работы.
Открыв глаза, я обнаружила, что стою совсем одна, и взглядом поискала Фарага и капитана, которые, изображая рассеянных туристов, бродили по боковым нефам. По всей видимости, их очень заинтересовали настенные фрески, изображавшие сцены из жизни Богородицы, и мозаичный пол в стиле мастеров Космати, но поскольку я все это уже видела, то направилась к алтарю, чтобы получше рассмотреть самую большую особенность Санта-Марии-ин-Космедин, ибо алтарем тут служила огромная ванна из порфира насыщенного теплого розоватого цвета под готическим балдахином конца XIII века. Можно предположить, что какой-то византийский богач или богачка эпохи Римской империи когда-то принимали душистые ванны в этой будущей христианской скинии.
Никто не сделал мне замечание за то, что я подошла к алтарю, потому что в этой церкви, за исключением часов мессы и розария, никогда не было ни священника, ни диакона, ни этих бескорыстных старушек, которые за несколько лир, брошенных в корзинку, проводят вечера в приходской церкви с таким же удовольствием, с каким мои племянники проводят ночи на дискотеках Палермо. Церковь Санта-Мария-ин-Космедин можно было спокойно оставлять пустой, потому что сюда в лучшем случае иногда забредал какой-нибудь заблудившийся турист. И это при том, что в ее портике всегда было полно народу.
Я тщательно осмотрела ванну и даже на всякий случай сильно подергала за ее четыре боковых кольца, тоже сделанных из порфира, но ничего необычного не произошло. Фараг и Глаузер-Рёйст тоже не добились особого успеха. Казалось, что ставрофилахов здесь никогда не было. Пока я осматривала архиерейский трон в нише абсиды, ко мне подошли мои товарищи.
— Что-то интересное? — спросил Кремень.
— Нет.
Мы с серьезным видом направились в ризницу, где нашли единственного живого человека во всей церкви: старого продавца в скрипучей лавке сувениров, забитой медальонами, распятиями, открытками и наборами слайдов. Это был пожилой священник, одетый в засаленную сутану, небритый, с нечесанными седыми волосами. Не знаю, где уж этот священнослужитель жил, но гигиена там отсутствовала начисто. Он мрачно посмотрел на нас, когда мы вошли, но вдруг выражение его лица изменилось, и на нем появилась раболепная любезность, которая мне не понравилась.
— Это вы из Ватикана? — спросил он, выходя из-за стойки нам навстречу. От его тела отвратительно пахло.
— Я — капитан Глаузер-Рёйст, а это доктор Салина и профессор Босвелл.
— Я вас ждал! К вашим услугам. Меня зовут Бонуомо, отец Бонуомо. Чем я могу вам помочь?
— Мы уже осмотрели церковь, — сообщил ему Кремень. — Теперь нам хотелось бы увидеть все остальное. Если не ошибаюсь, тут есть еще крипта.
Священник нахмурился, а я удивилась: крипта? Впервые слышу. Понятия не имела, что в Санта-Марии она есть.
— Да, — недовольно кивнул старик, — но время для посещений еще не началось.
Бонуомо[27]?.. Скорее Малюомо, «плохой человек». Но Глаузер-Рёйст и глазом не моргнул. Ни один мускул его лица не дрогнул, он только пристально, не мигая, посмотрел на священника, словно тот ничего не говорил, и он ждет непременного приглашения. Я видела, как святой отец корчится, разрываемый между обязанностью повиноваться и мелочным упрямством в соблюдении распорядка.
— Что-то не так, отец Бонуомо? — ледяным, категоричным тоном спросил его Глаузер-Рёйст.
— Нет, — простонал старик, обернулся и повел нас к лестницам, ведущим в крипту. Подойдя к ним, он остановился перед дверью и щелкнул несколькими выключателями на панели справа от нее. — Вот вам свет. Мне очень жаль, но я не смогу вас проводить — не могу оставить лавку без присмотра. Когда закончите, скажете.
Сухо проговорив это, он испарился, и я была благодарна ему за это от всего сердца, поскольку от постоянного вдыхания исходящего от него неприятного кислого запаха меня тошнило.
— Снова в центр земли! — шутливо воскликнул Фараг, с энтузиазмом начиная спуск.
— Надеюсь, я когда-нибудь еще увижу солнечный свет… — пробормотала я сквозь зубы, следуя за ним.
— Не думаю, доктор.
Я обернулась к Глаузер-Рёйсту со злобной миной.
— Из-за конца тысячелетия, — пояснил он мне со всегдашней серьезностью. — Вы же знаете… Не сегодня-завтра мир будет уничтожен. Может, это случится, пока мы будем в крипте.
— Оттавия! — поспешил остановить меня Фараг. — Даже не думай начинать спор!
Я и не думала. Есть глупости, на которые и отвечать не стоит.
Этот дурацкий священник обманул нас со светом. Едва дойдя до конца лестницы, мы оказались в полнейшей темноте. К сожалению, мы спустились так глубоко, что возвращаться назад было трудновато. Наверное, мы находились уже на несколько метров ниже уровня Тибра.
— Что, в этой дыре нет света? — зазвучал голос Фарага справа от меня.
— В крипте света нет, — сообщил Глаузер-Рёйст. — Но я об этом знал, так что не беспокойтесь. Я уже достаю фонарь.
— А отец Бонуомо не мог сказать нам об этом до того, как мы спустились? — удивилась я. — И потом, как освещают себе путь туристы и ротозеи?
— А вы не заметили, доктор, что никакой таблички с расписанием часов посещения крипты нет?
— Я об этом подумала. Я много раз была в этой церкви и даже не знала, что здесь есть крипта.
— Странно и то, что здесь нет никакого освещения, — продолжал Глаузер-Рёйст, наконец зажигая фонарь, из которого хлынул насыщенный пучок света, выхватывая из темноты детали места, в котором мы находились, — и то, что служитель церкви осмеливается препятствовать выполнению прямого приказания государственного секретариата, и то, что этот самый служитель не сопровождает посланников Ватикана.
Капитан направил фонарь в глубину крипты, и в этот миг я лучше, чем когда-либо, поняла изначальное значение этого слова, происходящего от греческого «χρυπιη», что означает «прятать, скрывать». Первым, что я увидела, был маленький алтарь в глубине центрального нефа — как оказалось, это место идеально соответствовало по форме церкви в миниатюре, словно сделанной в масштабе, с делением на три нефа с помощью колонн с низкими капителями и даже со своими боковыми приделами, тонувшими во тьме.
— Капитан, вы хотите сказать, — поинтересовался Босвелл, — что отец Бонуомо может быть ставрофилахом?
— Я говорю, что он может им быть с такой же вероятностью, как и ризничий церкви Святой Лючии.
— Значит, он ставрофилах, — со всей уверенностью заявила я, отправляясь в глубь церкви.
— Мы не можем быть столь уверены, доктор. Это только догадка, а на догадках мы далеко не уйдем.
— А как же вы узнали о существовании этого чуть ли не потайного места? — полюбопытствовала я.
— Я поискал в интернете. Там можно найти почти все. Хотя об этом вы уже знаете, так ведь, доктор?
— Я? — удивилась я. — Да я еле умею обращаться с компьютером!
— Однако именно в интернете вы нашли всю информацию о Честном Древе и разбившемся самолете Аби-Руджа Иясуса, разве не так?
Этот прямой вопрос меня парализовал. Я никоим образом не могла признаться, что вовлекла в поиски моего бедного племянника Стефано, но соврать я тоже не могла, кроме того — зачем? К этому времени все мое чувство вины было написано у меня на лице.
Тем не менее Глаузер-Рёйст ждать моего ответа не стал. Он обошел меня справа и, проходя мимо, вложил мне в руку еще один фонарь, такой же, как он дал и Фарагу. Так что мы смогли разделиться, каждый отправился в свою сторону, и от сияния трех фонариков это место стало не таким неприютным.
— Эта крипта известна как крипта Адриана и названа так в честь папы Адриана I, который приказал ее отреставрировать в VIII веке, — рассказывал Кремень, пока мы метр за метром осматривали церковь. — Однако ее постройка датируется приблизительно III веком, временами преследований Диоклетиана, когда первые христиане решили воспользоваться фундаментом языческого храма, располагавшегося в этом месте, чтобы соорудить небольшую тайную церковь. Эти куски камня, торчащие из стенной штукатурки, — остатки языческого храма, а алтарь в апсиде — все, что осталось от главного алтаря, так называемого «Ara Maxima».
— Этот храм был посвящен Геркулесу Непобедимому, — вставила я.
— Я так и сказал: языческий храм, — повторил он.
С помощью фонаря я осмотрела каждый уголок всех трех нефов и кое-какие небольшие боковые молельни с левой стороны. Всюду была пыль, и стояли ветхие урны с останками святых и мучеников, забытых народным почитанием много веков назад. Но, кроме очевидной исторической и художественной ценности, в этой скромной часовне не было ничего стоящего. Это была просто любопытная подземная церковь без особых примет, которые могли бы привести нас к разгадке первого испытания Чистилища ставрофилахов.
После бесплодных поисков мы трое собрались в апсиде и уселись на пол вблизи от великого алтаря, чтобы еще раз все обдумать. Поскольку на мне были брюки, я смогла удобно усесться. Рядом со мной в небольшой нише в стене покоились череп и кости некой святой Кириллы (эпитафия на латыни гласила: «Святая Кирилла, дева и мученица, дочь святой Трифонии, убиенная ради Христа при принцепсе Клавдии»).
— На этот раз никакой указующей путь христограммы мы не нашли, — заметил Фараг, откидывая волосы со лба.
— Что-то тут должно быть, — довольно сердито откликнулся капитан. — Давайте вспомним все, что мы видели с тех пор, как пришли в Санта-Марию-ин-Космедин. Что привлекло ваше внимание?
— «Уста Истины»! — с энтузиазмом воскликнул Фараг. Я улыбнулась.
— Профессор, я не имел в виду туристические достопримечательности.
— Ну… Именно это привлекло мое внимание.
— Как ни крути, эта римская крышка от канализации имеет определенный интерес, — вставила я, чтобы его поддержать.
— Хорошо, — процедил Кремень. — Вернемся наверх и начнем осмотр сначала.
Это было больше, чем я могла выдержать. Я взглянула на наручные часы и увидела, что уже полшестого вечера.
— Капитан, а нельзя нам вернуться завтра? Мы устали.
— Доктор, завтра мы будем проходить второй круг Чистилища в Равенне. Как вы не понимаете, что в эту самую минуту в каком-то уголке земли может происходить очередная кража Честного Древа? Даже здесь, в Риме! Нет, мы не остановимся и отдыхать тоже не будем.
— Наверняка это не имеет никакого значения, — вдруг заявил профессор, к которому снова вернулись нервное заикание и манера теребить очки, — но я видел там что-то странное. — И он указал на одну из боковых часовен справа.
— Что там, профессор?
— На полу написано слово… Даже скорее оно выбито в камне.
— Что за слово?
— Его трудно разобрать, потому что надпись очень стерта, но, по-моему, там написано «Vom».
— «Vom»?
— Смотрим, — решил Кремень и встал на ноги.
В левом внутреннем углу часовни, в самом центре огромной прямоугольной каменной плиты, уложенной под прямым углом к стенам, действительно можно было прочитать слово «VOM».
— Что значит «Vom»? — спросил Кремень.
Я собиралась ответить, но тут вдруг послышался сухой щелчок, и пол закачался, словно началось сильное землетрясение. Я вскрикнула и камнем упала на плиту, погружавшуюся в глубины земли, яростно раскачиваясь из стороны в стороны. Однако в память мне врезалась одна значимая деталь: за мгновение до щелчка мой нос очень отчетливо ощутил характерный едкий запах пота и грязи отца Бонуомо, который явно находился где-то совсем поблизости.
Из-за паники я не могла думать, а только отчаянно пыталась ухватиться за колеблющийся пол, чтобы не упасть в пустоту. Я потеряла фонарик и сумку, но чья-то железная рука держала меня за запястье, помогая мне приникнуть к камню всем телом.
Так мы спускались долгое время, хотя, конечно, может быть, мне показалось вечностью то, что длилось всего несколько минут, и наконец проклятая плита коснулась земли и остановилась. Никто из нас не шевельнулся. Кроме собственного, я слышала только тяжелое дыхание Фарага и капитана. Мои руки и ноги были точно резиновые, будто они никогда не смогут снова меня держать; меня всю с головы до ног трясло от неудержимой дрожи, и я чувствовала, как сердце рвется у меня из груди, а к горлу подкатывает рвота. Я помню, что осознала, что сквозь закрытые веки мне слепит глаза свет фонарика. Наверное, мы были похожи на трех лягушек, пластом лежащих на лотке у сумасшедшего ученого.
— Нет… мы не… не выполнили все, как надо… — послышался голос Фарага.
— Интересно, о чем вы говорите, профессор? — очень тихо спросил Кремень, словно у него не было сил говорить.
— «…мы поднимались в трещине породы, — процитировал профессор, хватая ртом воздух, — где та и эта двигалась стена, как набегают, чтоб отхлынуть, воды. Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна, чтоб угадать, какая в самом деле окажется надежней сторона».
— Проклятый Данте Алигьери… — чуть не падая в обморок, прошептала я.
Мои спутники встали, и еще державшая меня железная рука разжала хватку. Только тогда я поняла, что это был Фараг, который встал передо мной и робко протянул мне ту же руку, предлагая джентльменскую помощь, чтобы встать.
— Где мы, черт побери? — ругнулся Кремень.
— Прочтите десятую песнь «Чистилища» и узнаете, — пробормотала я, с учащенным пульсом поднимаясь на все еще дрожащие ноги. Тут пахло гнилью и мхом в одинаковой пропорции.
Длинный ряд факелов, прикрепленных к стене железными скобами, освещал это место, казавшееся старой канализационной трубой: канал со сточными водами, на одном из берегов которого мы стояли. Этот берег (или, может, я должна назвать его уступом?) от края, нависавшего над еще струившейся черной и грязной водой, до стены был «в три роста шириной» и точно соответствовал размеру плиты, на которой мы спустились. И, разумеется, сколько хватал глаз, и вправо, и влево тянулся один и тот же монотонный сводчатый туннель.
— Кажется, я знаю, что это за место, — проговорил капитан, решительным жестом забрасывая рюкзак на плечо. Фараг отряхивал с куртки пыль и грязь. — Весьма вероятно, что мы в каком-то ответвлении Великой клоаки.
— Великой клоаки? Но… она еще существует?
— Профессор, римляне ничего не делали наполовину, и когда речь шла об инженерных сооружениях, им не было равных. Акведуки и каналы были для них как раскрытая книга.
— На самом деле во многих европейских городах до сих пор используется римская система канализации, — вставила я. Я только что обнаружила разбросанные повсюду вокруг остатки моей сумки. Фонарик разбился.
— Но… Великая клоака!
— Только так можно было поднять Рим, — объяснила я. — Вся местность, где находился римский Форум, была болотистой, и ее пришлось осушить. Сооружение клоаки началось в VI веке до нашей эры по приказу царя этрусков Тарквиния Древнего. Потом, само собой, она расширялась, пока не достигла колоссальных размеров, и бесперебойно работала во времена Империи.
— А место, где мы находимся, без сомнения, является второстепенным ответвлением, — заявил Глаузер-Рёйст, — которым ставрофилахи пользуются для проведения испытания гордыни для желающих к ним присоединиться.
— А почему горят факелы? — спросил Фараг, вытаскивая один из них из кольца. Пламя зашипело, борясь с воздухом. Профессору пришлось прикрыть лицо рукой.
— Потому что отец Бонуомо знал о нашем приходе. Думаю, никаких сомнений по этому поводу уже не остается.
— Что ж, значит, в путь, — сказала я, поднимая взгляд вверх, к далекому отверстию, которого нигде не было видно. Похоже, мы спустились на немало метров.
— Направо или налево? — спросил профессор, стоя посреди уступа, высоко подняв факел. Мне подумалось, что он немного похож на статую Свободы.
— Нам явно сюда, — произнес Глаузер-Рёйст загадочно, указывая на пол. Мы с Фарагом подошли к нему.
— Глазам не верю!.. — восхищенно прошептала я.
Как раз в начале уступа, справа от нас, каменный пол был покрыт чудно вырезанными рельефами, и, как и рассказывал Данте, первый из них изображал стремительное падение Люцифера с небес. Видно было искаженное гримасой злости лицо прекраснейшего ангела, в падении тянувшего к Богу руки, словно моля о милосердии. Все детали были так тщательно проработаны, что просто мурашки шли по коже от такого художественного совершенства.
— Византийский стиль, — восхищенно заметил профессор. — Посмотрите на этого сурового Пантократора, взирающего на наказание своего возлюбленного ангела.
— Наказанная гордыня… — пробормотала я.
— Да, идея такова, правда?
— Я достану «Божественную комедию», — объявил Глаузер-Рёйст, сразу следуя своим словам. — Нужно проверить совпадения.
— Все совпадет, капитан, все совпадет. Даже не сомневайтесь.
Кремень перелистал книгу и поднял голову с саркастичной усмешкой в уголках губ.
— Знаете, что терцеты этого ряда иконографических изображений начинаются с 25 стиха этой песни? Два плюс пять — семь. Одно из любимых чисел Данте.
— Капитан, не сходите с ума! — взмолилась я. Тут слышалось эхо.
— Я не схожу с ума, доктор. Чтоб вы знали, эти описания кончаются в стихе 63-м. То есть шесть плюс три — девять. Второе его любимое число. Опять у нас семь и девять.
Мы с Фарагом не обратили особого внимания на этот приступ средневековой нумерологии; мы были слишком поглощены разглядыванием прекрасных сцен на полу. За Люцифером являлся Бриарей, чудовищный сын Урана и Геи, Неба и Земли, которого легко было узнать по ста рукам и пятидесяти головам, который, считая себя сильнее и могущественнее олимпийских богов, противостал им и погиб, пронзенный небесным перуном. Излишне говорить, что, несмотря на уродство Бриарея, изображение было невероятно красиво. Льющийся от факелов на стене свет придавал рельефам жуткую реалистичность, но, кроме того, пламя от факела Фарага давало им большую глубину и объем, подчеркивая мелкие детали, которые иначе остались бы незамеченными.
Следующая сцена представляла гибель Гигантов, которые в гордыне решили покончить с Зевсом и погибли от рук Марса, Афины и Аполлона. За ними шел барельеф, запечатлевший обезумевшего Немврода перед руинами Вавилонской башни; за ним — Ниобея, превращенная в камень за то, что похвалялась своими семерыми сыновьями и дочерьми перед Латоной, имевшей только Аполлона и Диану. И путь продолжался: Саул, Арахна, Ровоам, Алкмеон, Сеннахирим, Кир, Олоферн и поверженный град Троя, последний пример наказанной гордыни.
Так мы и шли втроем, согнув хребет, как впряженные в ярмо волы, в молчании, жадно стремясь смотреть еще и еще. Как и Данте, нам нужно было просто продвигаться вперед, созерцая эти обрывки грез или истории, наставляющие нас на путь смирения и простоты. Но после Трои барельефов больше не было, так что на этом урок кончался… или нет?
— Часовня! — воскликнул Фараг, ныряя в отверстие в стене.
Нашим изумленным взорам открылся еще один маленький византийский храм, и по формам, и по размеру, и по организации пространства в точности повторяющий крипту Адриана. Тем не менее у него было важное отличие от находящейся наверху: стены были полностью уставлены настеленными полками, с которых на нас невозмутимо взирали сотни пустых глазниц, принадлежавших стольким же черепам. Свободной рукой Фараг обнял меня за плечи.
— Оттавия, тебе страшно?
— Нет, — приврала я. — Но впечатляет.
Я была в ужасе, кошмар от этих пустых взглядов просто парализовал меня.
— Настоящий некрополь, да? — пошутил Босвелл, с улыбкой отпуская меня и приближаясь к капитану. Я бросилась за ним, готовая не отдаляться от него ни на сантиметр.
Не все черепа были полными, большинство опиралось прямо на несколько зубов верхней челюсти (если они были) или на собственное основание, словно нижнюю челюсть они забыли где-то в другом месте; у многих из них недоставало теменной, височной, а иногда даже фрагментов или целой лобной кости. Но самым страшным для меня были полностью пустые или сохранившие глазничные кости глазницы. В общем, жуткое зрелище, и этих останков тут было не меньше сотни.
— Это реликвии христианских святых и мучеников, — заявил капитан, внимательно разглядывавший ряд черепов.
— Что вы говорите? — удивилась я. — Реликвии?
— Ну, похоже, что так. Под каждым черепом есть надпись, должно быть, это их имена: Бенедетто «санктус», Дезирио «санктус», Ипполит «мартир», Кандида «санкта», Амелия «санкта», Пласидо «мартир»…
— Боже мой! И церковь об этом не знает? Она наверняка уже много веков считает эти реликвии утерянными.
— Может быть, они не настоящие, Оттавия. Не забывай, что мы на территории ставрофилахов. Тут все возможно. Кроме того, обрати внимание, имена написаны не на классической, а на средневековой латыни.
— Не важно, что они ненастоящие, — заметил Кремень. — Это должна решить церковь. Разве Честное Древо, за которым мы гоняемся, настоящее?
— В этом капитан прав, — согласилась я. — Это вопрос для экспертов из Ватикана и из Хранилища реликвий.
— Что такое Хранилище реликвий? — спросил Фараг.
— Хранилище реликвий — это место, где на витринах и на полках хранятся реликвии святых, необходимые церкви для административных целей.
— Зачем они ей нужны?
— Ну… Когда где-нибудь в мире строится новая церковь, Хранилище реликвий должно отправить туда какой-нибудь кусочек кости, чтобы заложить его под алтарь. Это обязательно для всех.
— Черт! Интересно, в наших коптских церквях тоже так? Признаю свое невежество в этих вещах.
— Скорее всего да. Хотя не знаю, храните ли вы их…
— Как вы смотрите на то, чтобы выйти отсюда и продолжить наш путь? — перебил меня Глаузер-Рёйст, направляясь к выходу. Господи, какой чурбан!
Мы с Фарагом вышли из часовни следом за ним, как дисциплинированные школьники.
— Барельефы кончаются здесь, — указал Кремень, — прямо перед входом в крипту. И это мне не нравится.
— Почему? — спросила я.
— Потому что мне кажется, что у этого рукава Великой клоаки нет выхода.
— Я уже обратил внимание, что вода внизу еле движется, — подтвердил Фараг. — Она почти неподвижна, как стоячая.
— Нет, она течет, — возразила я. — Я вижу, как она движется в том же направлении, что и мы. Очень медленно, но движется.
— «Эппур си муове»…[28] — сказал профессор.
— Вот именно. В противном случае она бы гнила и разлагалась. А это не так.
— М-да, ну, грязи-то ей не занимать.
На этом мы все сошлись.
К несчастью, капитан оказался прав, предположив, что у этого ответвления канала нет выхода. Пройдя всего двести метров вперед, мы наткнулись на каменную стену, перекрывавшую туннель.
— Но… Но вода движется… — пробормотала я. — Как же так?
— Профессор, поднимите факел как можно выше и поднесите его к самому краю кромки, — сказал капитан, направляя на стену свой мощный фонарь. В двух лучах света тайна прояснилась: в самом центре перемычки, приблизительно на половине ее высоты, можно было смутно различить выбитую в камне монограмму Константина, и вдоль той же оси проходила вертикальная линия с неровными краями, разделяя кладку надвое.
— Это ворота шлюза! — воскликнул Босвелл.
— Чему вы удивляетесь, профессор? Вы что, думали, что будет легко?
— Но как мы сдвинем с места эти каменные створки? Каждая весит, наверное по меньшей мере пару тонн!
— Ну, значит, придется сесть и подумать.
— Я могу думать только о том, что подходит время ужина и мне хочется есть.
— Значит, нам нужно разгадывать эту загадку поскорей, — заметила я, плюхаясь на пол, — потому что если мы отсюда не выберемся, то не будет у нас ни ужина сегодня вечером, ни завтрака завтра утром, ни обеда вообще никогда в жизни. Кстати, ввиду новых перспектив эта жизнь представляется мне очень короткой.
— Доктор, не начинайте опять! Давайте воспользуемся мозгами, а пока думаем, поужинаем бутербродами, которые я захватил с собой.
— Вы знали, что нам придется тут ночевать? — удивилась я.
— Нет, но я не знал, что с нами произойдет. А теперь, — призвал он нас, — пожалуйста, давайте попробуем решить загадку.
Мы долго обдумывали вопрос со створками, и снова возвращались к началу, и снова думали. Мы даже использовали кусок доски от полки в крипте, чтобы узнать, какая часть ворот находится под водой. Но прошло несколько часов, а мы только смогли узнать, что каменные створки смыкаются неплотно, и через это крохотное отверстие проходит вода. Мы снова и снова проходили по барельефам: взад и вперед, вперед и взад, но ничего прояснить не смогли. Они были красивы, и все.
Уже около полуночи, выбившись из сил, замерзнув и донельзя устав от загадок, мы вернулись в церковь. К этому времени мы уже знали этот рукав Великой клоаки, как если бы мы построили его своими руками, и прекрасно осознавали, что выбраться оттуда возможно было, только воспользовавшись волшебством или пройдя испытание (если только нам удастся понять, в чем оно заключалось), потому что, если с одной стороны туннель замыкали шлюзовые ворота, с другой, в паре километров от качающейся плиты, был каменный завал, через многочисленные отверстия в котором сочилась вода. Там в углу мы нашли деревянный ящик, наполненный потушенными факелами, и все мы пришли к выводу, что это дурной знак.
Мы взвесили вероятность, что для того, чтобы выйти отсюда, нужно было перетащить эти огромные тяжелые камни, потому что осужденные на первом уступе отбывали за свою гордыню именно это наказание, но пришли к выводу, что это невозможно, поскольку вес каждого из этих валунов превышал наш собственный, пожалуй, в два или три раза. Так что мы были в ловушке, и если мы не найдем разгадку в ближайшем будущем, тут мы и останемся на корм червям.
Пропавшая было на несколько часов головная боль вернулась ко мне с еще большей силой, чем раньше, и я знала, что она вызвана усталостью и недосыпанием. У меня не было сил даже зевнуть, но у профессора они были, и он все чаще и чаще широко разевал рот.
В церкви было холодно, хоть и теплее, чем у воды, поэтому мы принесли все факелы, которые смогли собрать, в одну из часовен и уложили их на полу, как костер. Благодаря этому небольшой уголок нагрелся достаточно, чтобы мы могли пережить эту ночь, но окружение наблюдавших за нами глазниц не совсем отвечало моим представлениям об уютной спальне.
Фараг с капитаном завязали долгий спор о гипотетической природе испытания, которое мы должны были пройти и которое, конечно, заключалось в том, чтобы открыть каменные створки шлюза. Проблема была в том, как это сделать, и вот в этом-то вопросе они и не могли прийти к согласию. Я не очень хорошо помню этот разговор, потому что находилась где-то между сном и бодрствованием, витая в освещенном огнем эфире в окружении что-то нашептывавших мне черепов. Потому что черепа говорили… или это мне снилось? Не знаю, наверняка это так, но дело в том, что мне казалось, что они говорят или насвистывают. Последнее, что я помню перед тем, как провалиться в глубокую кому, это то, как кто-то помог мне улечься и подложил мне под голову что-то мягкое. Потом — ничего до того, как я на секунду приоткрыла глаза (наверное, отдых был не очень сладок) и увидела, что Фараг спит рядом со мной, а капитан совершенно погружен в чтение Данте при свете костра. Должно быть, прошло не много времени, как меня разбудил возглас. Тут же раздался второй и третий, пока я не вскочила в испуге и не увидела, что высокий, словно греческий бог, Кремень стоит на ногах, подняв руки вверх.
— Нашел! Нашел! — в восторге кричал он.
— Что случилось? — сонно спросил Фараг. — Который час?
— Вставайте, профессор! Вставайте, доктор! Вы мне нужны! Я что-то нашел!
Я посмотрела на часы. Было четыре утра.
— Господи! — всхлипнула я. — Мы что, больше никогда не сможем проспать шесть-семь часов подряд?
— Слушайте внимательно, доктор, — загремел Кремень, набросившись на меня, как природные стихии: — «Я видел — тот, кто создан благородней…», «Я видел, как перуном Бриарей…», «Я видел, как Тимбрей, Марс и Паллада…», «Я видел, как Немврод уныло сел…». Что скажете, а?
— Это же первые стихи терцетов, где описываются барельефы? — спросила я Фарага, который непонимающе смотрел на капитана.
— Но это не все! — продолжал Глаузер-Рёйст. — Слушайте: «О Ниобея, сколько мук ужасных…», «О царь Саул, на свой же меч упав…», «О дерзкая Арахна, как живую…», «О Ровоам, ты в облике таком…»!
— Фараг, что с капитаном? Я ничего не понимаю!
— Я тоже, но давай дослушаем, к чему он клонит.
— И наконец, на-ко-нец… — подчеркнул он, размахивая в воздухе книгой, а потом снова открывая ее: — «Являл и дальше камень изваянный…», «Являл, как меч во храме занесен…», «Являл, как мщенье грозное творимо…», «Являл, как ассирийский стан бежит…». И теперь внимание! Это очень, очень важно. С 61-го по 63 стих песни:
Я видел Трою пепелищем славы;
О Илион, как страшно здесь Творец
Являл разгром и смерть твоей державы!
— Это строфы акростиха! — воскликнул Фараг, выхватывая книгу из рук капитана. — Четыре строфы начинаются словами «Я видел», четыре — междометием «О!» и четыре — словом «Являл»[29].
— А последний терцет, про Трою, который я прочитал вам целиком, — это ключ!
У меня сильно болела голова, но я смогла понять, что происходит, и даже раньше их связала эти строфы акростиха с загадочным словом, которое Фараг нашел на качающейся плите и которое заставило нас троих на нее ступить: «VOM».
— Что может значить «Vom»? — спросил капитан. — Какое-то значение тут есть?
— Есть, Каспар, есть. Кстати, это напоминает мне о нашем друге отце Бонуомо. Тебе не напоминает, Оттавия?
— Я уже об этом подумала, — ответила я, с трудом вставая на ноги и потирая лицо руками. — И именно поэтому не знаю, сколько бедных людей, желавших сделаться ставрофилахами, утратили жизни, пытаясь одолеть эти испытания. Надо быть просто рысью, чтобы разглядеть столько тонких намеков.
— Будьте добры, не будете ли вы так любезны пояснить свои слова? Теперь я вас не понимаю.
— Капитан, в латыни буквы «U» и «V» пишутся одинаково, с помощью знака «V», так что «Vom» — то же, что и «Uom», то есть «человек» на средневековом итальянском языке. Наш милый священнослужитель представился нам Бон-уомо или Бон-уом, то есть «Добрый человек». Теперь понимаете?
— Каспар, его вы прикажете задержать?
Капитан покачал головой.
— У нас та же ситуация, что и раньше. У отца Бонуомо наверняка есть твердое алиби и безупречное прошлое. Братство явно позаботилось о том, чтобы обеспечить ему хорошее прикрытие, особенно если он является хранителем испытания в Риме. А он никогда добровольно не признается в том, что он ставрофилах.
— Ладно, господа! — вздохнув, сказала я. — Хватит болтать! Раз уж поспать нам не удастся, то лучше продолжить разматывать нашу ниточку. У нас есть Дантов акростих, есть слово «UOM» и есть каменные створки шлюза. Что теперь?
— Я подумал, может быть, на каком-то из этих черепов написано «Uom sanctus», — предположил Фараг.
— Значит, за дело.
— Но, капитан, факелы почти выгорели. На то, чтобы сходить за новыми, уйдет время.
— Берите то, что осталось от костра, и начинайте. У нас нет времени!
— Знаете, что я вам скажу, капитан Глаузер-Рёйст! — сердито воскликнула я. — Если мы выберемся отсюда, я наотрез откажусь что-то делать, пока мы не отдохнем. Вы меня слышали?
— Мы поговорим об этом, когда выберемся. А сейчас, пожалуйста, ищите. Вы, доктор, начинайте отсюда. Вы — с противоположной стороны, профессор. Я осмотрю клирос.
Фараг присел и выбрал два последних факела, еще горевших среди углей; потом дал один мне, а второй оставил себе. Излишне говорить, что довольно много времени спустя, осмотрев все реликвии, мы не нашли ни одного святого или мученика по имени Уом. Руки опускались.
Должно быть, для тех счастливцев, кто мог это видеть, уже всходило солнце, когда нам пришло в голову, что, может быть, Уом — это не имя, которое нам надо искать, а, как в акростихе, нам надо найти все имена, начинавшиеся с «U» или «V», «O» и «M». И мы угадали! После еще одного долгого и нудного осмотра оказалось, что тут было четверо святых, чьи имена начинались на «V»: Валерий, Волузия, Варрон и Веро; четыре мученика на «O»: Октавиан, Одената, Олимпия и Овиний; и еще четыре святых на «M»: Марцелла, Марциал, Миниат и Мавриций. Ну, разве не невероятно? Не оставалось никаких сомнений в том, что мы на верном пути. Мы пометили все двенадцать черепов сажей на случай, если их расположение что-то означало, но никакого особого порядка не было. Единственным объединявшим их признаком было то, что все двенадцать черепов были целыми, а в этом складе развалин это было заметным отличием. Но, настолько продвинувшись вперед, мы не знали, что делать дальше. Все это никак не давало нам разгадку к тому, как открыть ворота.
— Каспар, у вас не осталось лишнего бутерброда? — поинтересовался Фараг. — Когда я не высыпаюсь, меня одолевает жестокий голод.
— В рюкзаке что-то есть. Посмотрите.
— Оттавия, ты хочешь?
— Да, пожалуйста. Я без сил.
Но в рюкзаке капитана оставался только один несчастный бутерброд с салями и сыром, так что грязными руками мы разломили его пополам и съели. Мне его вкус показался божественным.
Пока мы с Фарагом пытались обмануть желудки этой скудной пищей, капитан шагал по крипте, как зверь в клетке. Он был сосредоточен, погружен в раздумья и то и дело повторял терцеты Данте, которые, естественно, уже выучил наизусть. На моих часах было полдесятого утра. Где-то наверху жизнь была в полном разгаре. Улицы, наверное, заполнены машинами, дети идут в школу. Довольно глубоко под землей три обессиленных человека пытаются вырваться из мышеловки. Полбутерброда притупили мое чувство голода, и я уже поспокойнее оперлась, не вставая, о стенку, разглядывая последние остатки костра. Очень скоро он совсем погаснет. Меня охватила глубокая сонливость, заставившая меня сомкнуть веки.
— Тебе хочется спать, Оттавия?
— Мне необходимо вздремнуть. Ты не возражаешь, Фараг?
— Я — нет. Как я могу возражать? Наоборот, думаю, ты права, и стоит чуть-чуть отдохнуть. Я разбужу тебя через десять минут, ладно?
— Твоя щедрость не имеет границ.
— Нам нужно выбраться отсюда, Оттавия, и ты нужна нам, чтобы думать.
— Десять минут. Ни секундой меньше.
— Ладно. Спи.
Иногда десять минут — это целая жизнь, потому что за это время я отдохнула больше, чем за те четыре часа, которые мы проспали ночью.
За утро мы снова все осмотрели и зажгли пару тех факелов, которые лежали в ящике у завала в глубине туннеля. Было ясно, что весь процесс у ставрофилахов был тщательно продуман, и они с точностью знали, сколько может длиться это испытание.
Наконец, понурив головы, мы в отчаянии вернулись в церковь.
— Это здесь! — сердито воскликнул Глаузер-Рёйст, топая ногой. — Я уверен, черт возьми, что разгадка здесь! Но где? Где она?
— В черепах? — подсказала я.
— В черепах ничего нет! — рыкнул он.
— Ну, на самом деле… — заметил профессор, поправляя на носу очки, — внутри мы не смотрели.
— Внутри? — удивилась я.
— А почему бы нет? Другие варианты есть? По крайней мере можно попробовать. Потрясти черепа этих двенадцати святых и мучеников… Или что-то в этом роде.
— Нужно до них дотронуться? — Это казалось мне ужасным непочтением, а с другой стороны, просто вызывало отвращение. — Коснутся реликвий руками?
— Я проверю! — крикнул Глаузер-Рёйст. Он направился к первому помеченному сажей черепу и поднял его в воздух, потрясая им без всякого уважения. — Там что-то есть! Что-то есть!
Мы с Фарагом подпрыгнули, как на пружине. Капитан внимательно рассматривал череп.
— Он запечатан. Запечатано все: шейное отверстие, ноздри и глазницы. Это сосуд!
— Давайте его где-нибудь опустошим, — предложил Фараг, оглядываясь вокруг.
— На алтаре, — нашлась я. — Он вогнутый, как тарелка.
Оказалось, что в Валерии и Овинии была сера (по цвету и запаху ее ни с чем не спутаешь); в Марцее и Октавиане — смолистая резина черного цвета, в которой мы узнали деготь; в Волузии и Марциале — два липких комка свежего смальца; в Миниате и Оденате — беловатый порошок, который слегка ожег капитану руку, из чего мы заключили, что это негашеная известь, обращаться с которой нужно крайне осторожно; в Варроне и Мавриции — густой и блестящий черный жир, который, судя по сильному запаху, был не чем иным, как неочищенной нефтью; и, наконец, в Веро и Олимпии была очень мелкая пыль охристого цвета, которую мы не смогли распознать. Мы разложили все это на отдельные кучки, и алтарь превратился в лабораторный стол.
— Думаю, не ошибусь, — провозгласил Фараг с серьезным видом человека, который после долгих раздумий пришел к вызывающему у него опасения заключению, — если скажу, что перед нами — вещества, входящие в состав «греческого огня».
— Боже мой! — Я в ужасе поднесла руку ко рту.
«Греческий огонь» был самым смертельным и опасным оружием византийских армий. Благодаря ему им удалось удерживать напор мусульман с VII по XV века. В течение сотен лет формула «греческого огня» была самым ревностно хранимым секретом в истории, и даже сегодня мы не могли с точностью узнать природу его состава. Легенда рассказывает, что в 673 году, когда Константинополь был осажден арабами и вот-вот собирался сдаться, в один прекрасный день в городе появился таинственный человек по имени Калинник и предложил императору Константину IV, чье положение было безвыходно, самое могучее оружие в мире: «греческий огонь», который возгорался от контакта с водой и яростно горел так, что ничто не могло его потушить. Византийцы метали приготовленную Калинником смесь с помощью установленных на их судах труб и полностью уничтожили арабский флот. Оставшиеся в живых мусульмане в страхе бежали от этого горящего даже под водой пламени.
— Вы уверены, профессор? Это не может быть что-то другое?
— Что-то другое, Каспар? Нет. Никак нет. Это все те вещества, которые самые последние исследования подают как составляющие «греческого огня»: неочищенная нефть, которая имеет свойство удерживаться на поверхности воды; оксид кальция или негашеная известь, которая возгорается при контакте с водой; сера, которая при сгорании выделяет токсичные пары; деготь или смола, которые ускоряют горение, и жир, чтобы перемешать в однородную массу все компоненты. Охристого цвета порошок, который мы не смогли распознать, несомненно, является нитратом калия, то есть селитрой, которая, возгораясь, выделяет кислород и позволяет поддерживать горение под водой. Я не так давно читал на эту тему статью в журнале «Бизантайн стадиз».
— И как нам может пригодиться «греческий огонь»? — спросила я, вспомнив, что и я читала ту же статью в том же журнале.
— На этом столе не хватает только одной составляющей, — глядя на меня, заявил Фараг. — Мы можем все это смешать, и абсолютно ничего не произойдет. Ну-ка угадай, что нужно, чтобы поджечь эту смесь?
— Вода, конечно.
— И где тут есть вода?
— Ты имеешь в виду воду в канале? — встревожилась я.
— Именно! Если мы приготовим «греческий огонь» и бросим его в воду, она загорится с невероятной силой. Весьма вероятно, что под действием тепла створки шлюзовых ворот откроются.
— Если это вас не затруднит, — прервал его Кремень, на лице которого было написано беспокойство, — перед тем, как предпринимать столь опасные действия, мне хотелось бы знать, почему под действием тепла створки ворот должны открыться.
— Оттавия, поправь меня, если я ошибаюсь: увлекались или не увлекались византийцы механикой, заводными игрушками и автоматическими машинами?
— Это правда. Как никто в истории. Был император, который демонстрировал послам других стран пару механических львов, которые сами ходили и рычали. У других в тронах были механизмы, к ужасу придворных вызывавшие в зале гром и молнии. Разумеется, когда-то славилось, хотя сегодня о нем почти забыли, фантастическое Золотое Дерево из царского сада с заводными певчими птицами. Там были священники, и я говорю о священниках христианских, которые творили «чудеса» во время священной мессы: например, по своей воле открывали и закрывали двери храма и делали другие штуки подобного плана. Во всем Константинополе были фонтаны с водой, приводящиеся в действие с помощью монет. В общем, рассказ может быть бесконечным… Об этом есть очень хорошая книга.
— «Византия и игрушки» Дональда Дэвиса.
— Это она. Похоже, наши интересы и выбор книг совпадают, профессор Босвелл, — воскликнула я, широко улыбаясь.
— Действительно, доктор Салина, — тоже с улыбкой ответил он.
— Ну ладно, ладно… Вы родственные души, хорошо. Но не могли бы вы, пожалуйста, перейти к сути вопроса? Нам нужно отсюда выбраться.
— Оттавия же вам сказала, Каспар: там были священники, которые по своей воле открывали и закрывали двери храмов. Миряне думали, что это чудо, но на самом деле это очень простой фокус. Дело в том, что…
— …когда огонь зажигается, — перебила я Фарага, потому что очень хорошо знала обо всем этом: я всегда очень интересовалась византийской механикой, — под действием тепла расширяется воздух в сосуде, где находится вода. Расширившийся воздух толкает воду и заставляет ее пройти по трубе, ведущей в другой сосуд, подвешенный на веревках. Этот второй сосуд от воды тяжелеет и начинает спускаться, а держащие его веревки крутят цилиндры, которые вращают оси ворот. Как вам это, а?
— Полнейшая чепуха! — ответил капитан. — Мы сделаем зажигательную смесь только для того, чтобы на всякий случай проверить, не откроются ли створки ворот? Вы сошли с ума!
— Ну, если можете, предложите другой вариант, — ледяным тоном заявила я.
— Да вы что, не понимаете? — в отчаянии повторил он. — Риск просто огромный.
— Разве, капитан, не я была в нашей группе единственной, кто боится смерти, именно потому, что я женщина?
Он пробормотал несколько ругательств и подавил приступ ярости. Этот человек постепенно утрачивал контроль над своими эмоциями. Между флегматичным и холодным капитаном швейцарской гвардии и живым, экспрессивным человеческим существом, стоявшим передо мной сейчас, была пропасть.
— Хорошо! За дело! Не тратим больше времени! Скорее!
Мы с Фарагом другого и не ожидали. Пока Треснувший Кремень светил нам фонарем, мы воспользовались незажженными факелами, как палками, чтобы перемешать и слепить воедино все составляющие. Я почувствовала, как щиплет глаза, нос и горло от порошка негашеной извести, но ощущение было несильным, и я не стала беспокоиться. Вскоре к дереву наших примитивных лопаток стала прилипать сероватая вязкая масса, очень похожая на сырое тесто.
— Разделим ее на несколько кусков или бросим в канал все вместе? — в раздумье спросил Фараг.
— Пожалуй, лучше разделить на части. Так мы покроем большую площадь. Мы не знаем, как точно действует механизм ворот.
— Значит, вперед. Крепко держи свою палку, как будто это ложка, и пошли.
Масса была легкой, но вдвоем переносить ее было гораздо легче. Мы вышли из крипты и пошли в сторону ворот. Дойдя туда, мы положили наше оружие на пол, внимательно проследив за тем, чтобы там было сухо, и разделили его на три равные части. Кремень взял один из них с помощью еще одного погашенного факела, и, когда все были готовы, мы метнули в центр канала эти липкие и гадкие снаряды. Пожалуй, мы были среди тех немногих, кто за последние пять-шесть веков видел знаменитый «греческий огонь» в действии, и это, конечно, незабываемо.
Яростные языки пламени взметнулись к каменному куполу за считанные доли секунды. Вода загорелась с такой потрясающей мощью, что ураган горячего воздуха отшвырнул нас к стене. Посреди ослепляющего света, жуткого гула пламени и густого черного дыма, роящегося над нашими головами, мы втроем не отрывали глаз от створок ворот, ожидая, что они разомкнутся, но они не сдвинулись ни на миллиметр.
— Доктор, я же вам говорил! — изо всех сил заорал Кремень, перекрикивая шум. — Я предупреждал вас, что это бред!
— Механизм сейчас включится! — возразила я. Я хотела сказать ему, что нужно только немного подождать, но тут приступ кашля лишил мои легкие воздуха. Черный дым уже спустился до наших голов.
— На пол! — закричал Фараг, всем своим весом наваливаясь мне на плечо, чтобы заставить меня опуститься. На уровне пола воздух еще был чист, так что я жадно отдышалась, словно только что вынырнула из-под воды.
И тут мы услышали треск и грохот, который становился все громче и громче, пока не перекрыл гул огня. Эти звуки издавали пришедшие во вращение оси ворот и трение камня о камень. Мы быстро вскочили, одним прыжком спустились до сухого края канала и побежали по направлению к узкому отверстию, через которое вода начала переливаться на другую сторону. Текущий по поверхности воды огонь грозно приближался к нам. Кажется, я в жизни не бегала так быстро. Полуослепнув от дыма и слез, задыхаясь и моля Бога придать легкость моим ногам, чтобы как можно скорее достичь порога, я на грани инфаркта перебралась на другую сторону.
— Не останавливайтесь! — крикнул капитан. — Бегите дальше!
Огонь и дым тоже преодолели преграду ворот, но, собрав в комок все силы, мы бежали намного быстрее. Через три-четыре минуты мы были уже достаточно далеко от опасности и начали постепенно снижать скорость, пока полностью не остановились. Тяжело дыша и уперевшись руками в бока, как легкоатлеты после забега, мы оглянулись назад на уже пройденный длинный путь. Вдалеке виднелось слабое зарево.
— Смотрите, в конце туннеля свет! — воскликнул Глаузер-Рёйст.
— Да, мы знаем, капитан. На него мы и смотрим.
— Да не этот, доктор, Господи Боже! С другой стороны!
Я повернулась вокруг своей оси, как механическая юла, и действительно увидела замеченный капитаном свет.
— О Боже! — вырвалось у меня, и мои глаза снова наполнились слезами, правда, теперь от радости. — Выход! Наконец-то! Идемте, скорее, идемте!
Мы торопливо двинулись вперед — то бегом, то шагом. Казалось невероятным, что по ту сторону дыры — солнце и улицы Рима. От одной мысли о том, что мы можем вернуться домой, у меня вырастали крылья. Там, впереди, — свобода! Вот она, меньше чем в двадцати метрах!
И это было последнее, что я успела подумать, потому что резкий удар по голове лишил меня сознания.
* * *
Перед тем, как полностью прийти в себя, лежа с закрытыми глазами, я видела перед собой светящиеся точки. Но, кроме того, эти точки сопровождались сильными уколами боли. Каждый раз, как одна из них загоралась, кости моего черепа трещали, словно по ним проезжал трактор.
Потихоньку это жуткое ощущение смягчилось, уступив место другому, не менее отвратительному: в районе правого предплечья что-то жгло словно каленым железом, возвращая меня к действительности. С огромным усилием, постанывая в такт движениям, я подняла левую руку к месту жжения, но лишь притронувшись к шерсти свитера, я почувствовала настолько острую боль, что с криком отвела руку и широко раскрыла глаза.
— Оттавия?..
Голос Фарага доносился издалека, будто он находился на большом расстоянии от меня.
— Оттавия? Как ты?..
— О Боже мой, не знаю! А ты?
— У меня… сильно… болит голова.
Я увидела его фигуру в нескольких метрах от меня, он лежал на земле, как брошенная кукла. Чуть подальше без сознания раскинулся капитан. На коленках, как четвероногое животное, я подползла к профессору, стараясь держать голову прямо.
— Дай я взгляну, Фараг.
Он попытался повернуться, чтобы показать мне ту часть головы, на которую пришелся удар, но тут же громко застонал и поднес руку к правому предплечью.
— О боги! — взвыл он. Я на миг застыла от этого языческого возгласа. Мне придется серьезно поговорить с Фарагом. И очень скоро.
Я провела рукой по его волосам на затылке и, несмотря на его стоны и попытку увернуться, заметила там здоровенную шишку.
— Нас жестоко избили, — прошептала я, усаживаясь рядом с ним.
— И пометили нас первым крестом, так ведь?
— Боюсь, что да.
Улыбнувшись, он взял меня за руку и пожал ее.
— Ты отважна, как Августа Басилея!
— Византийские императрицы были отважны?
— О да! Очень!
— Никогда я об этом не слыхала… — пробормотала я, отпуская его руку и пытаясь подняться, чтобы пойти посмотреть, в каком состоянии был капитан.
Глаузер-Рёйст получил гораздо более сильный удар, чем мы. Ставрофилахи, похоже, решили, что, чтобы свалить такого громадного швейцарца, нужно ударить его покрепче. На его светловолосой голове явно виднелось пятно засохшей крови.
— Хоть бы в следующий раз они сменили методы работы… — прошептал Фараг, вставая на ноги. — Если они будут бить нас еще шесть раз, они нас просто прикончат.
— Похоже, капитана они уже прикончили.
— Он мертв? — Профессор, всполошившись, поспешно подошел к нему.
— Нет. К счастью, нет. Но мне кажется, с ним что-то не так. Я не могу привести его в чувство.
— Каспар! Эй, Каспар, открой глаза! Каспар!
Пока Фараг пытался вернуть его к жизни, я осмотрелась по сторонам. Мы все еще находились в Великой клоаке, в том самом месте, где потеряли сознание от ударов, хотя теперь, пожалуй, были чуть ближе к выходу. Однако свет, льющийся снаружи, исчез. Угол, где нас бросили, освещал факел, который, похоже, был зажжен недавно. Я автоматически подняла запястье, чтобы посмотреть, который час, и снова почувствовала страшное жжение в предплечье. Судя по часам, было одиннадцать вечера, так что мы пробыли без сознания больше шести часов. Вряд ли причиной тому послужил только удар по голове; наверняка они использовали другие методы, чтобы держать нас в забытьи. Тем не менее я не испытывала никаких симптомов, обычно сопровождающих выход из анестезии или из-под действия успокоительных. Я чувствовала себя хорошо, насколько это только было возможно.
— Каспар! — не унимался Фараг, хотя теперь он еще и хлопал его по щекам.
— Вряд ли это приведет его в чувство.
— Увидим! — ответил Фараг, снова и снова хлопая Кремня по щекам.
Капитан застонал и приоткрыл глаза.
— Ваше Святейшество?.. — пробормотал он.
— Какое Святейшество? Это я, Фараг! Каспар, открывай наконец глаза!
— Фараг?
— Да, Фараг Босвелл! Из Александрии, из Египта. А это доктор Салина, Оттавия Салина, из Палермо, с Сицилии.
— Ах да… — проговорил он. — Припоминаю. Что случилось?
Капитан машинально повторил все наши жесты при пробуждении. Сначала он нахмурил лоб, осознав, как болит голова, и попытался дотронуться рукой до затылка, но при этом рана на предплечье коснулась ткани рубашки, и он почувствовал жжение.
— Что за черт?..
— Нас заклеймили, Каспар. Мы еще не смотрели на свои новые шрамы, но в том, что именно нам сделали, нет никаких сомнений.
Ковыляя, как беспомощные старцы, и поддерживая капитана, мы направились к выходу. Когда свежий воздух ударил нам в лицо, мы увидели, что находимся в русле Тибра, в нескольких метрах над уровнем воды. Если спрыгнуть со склона, мы могли бы добраться вплавь до ступеней какой-то лестницы в десяти метрах справа от нас. Все это припоминается мне как далекий, расплывчатый сон без ярких красок. Я знаю, что это было, но охватившая меня усталость держала меня в состоянии какой-то летаргии.
Слева от нас вдалеке виднелся мост Сикста, так что мы находились на полпути между Ватиканом и Санта-Марией-ин-Космедин. Трава и мусор на склоне помогали нам замедлить спуск. Огни уличных фонарей и верхняя часть элегантных зданий над нашими головами были невыносимым искушением, заставлявшим нас двигаться вперед, невзирая на усталость. Мы плюхнулись в воду и доплыли до лестницы, отдавшись на волю мягкому течению ледяной воды. Поскольку в последние месяцы не было дождей, воды в реке было мало, но нас с Фарагом она практически вернула к жизни. В самом тяжелом состоянии находился Глаузер-Рёйст, которого даже купание не привело в себя; он выглядел как пьяный, плохо координировал движения и не мог связать двух слов.
Когда наконец, промокшие, окоченевшие и измученные, мы выбрались наверх, вид потока машин на Лунготевере и обычной для этого позднего часа городской жизни вызвали у нас улыбку радости. Пара ночных бегунов из тех, что надевают шорты и футболку и отправляются после работы на пробежку, пробежали перед нами, не скрывая недоуменных взглядов. Выглядели мы странно и жалко.
Поддерживая капитана под обе руки, мы подошли к краю тротуара, намереваясь остановить первое попавшееся такси, если понадобится, силой.
— Нет, нет… — с трудом пробормотал Глаузер-Рёйст. — Перейдем через улицу на следующем переходе, я живу здесь, напротив.
Я удивленно посмотрела на него:
— Вы живете на Лунготевере-деи-Тебальди?
— Да… Дом номер… номер пятьдесят.
Фараг жестом велел мне ни о чем его не расспрашивать, и мы поплелись в сторону пешеходного перехода. Под недоумевающими и возмущенными взглядами остановившихся на светофорах водителей мы перешли через улицу и подошли к красивому подъезду, облицованному камнем и кованым железом. Когда я полезла в карман пиджака Глаузер-Рёйста, на пол вывалилась мокрая бумажка.
— Что там? — спросил Кремень, видя, что я замешкалась с дверью.
— Капитан, у вас выпала бумажка.
— Дайте взглянуть, — попросил он.
— Потом, Каспар. Сначала дойдем до квартиры.
Я сунула ключ в замок и сильно толкнула дверь вперед, Подъезд был просторным и элегантным, его освещали большие лампы из горного хрусталя, и свет множился в висящих на стенах зеркалах. В глубине виднелся старинный лифт с отделкой из полированного дерева и кованого железа. Капитан должен был быть очень богат, чтобы иметь квартиру в этом здании.
— Какой этаж, Каспар? — спросил Фараг.
— Последний. Мансарда. Меня сейчас вырвет.
— Нет, здесь не надо, ради Бога! — воскликнула я. — Подождите, пока приедем. Мы уже почти добрались!
Мы вошли в лифт, опасаясь, что в любой момент Надтреснутого Кремня вывернет, и он все испортит. Но он был молодцом и продержался, пока мы не вошли в дом. Тогда, не теряя больше времени, он резко оторвался от нас и, шатаясь, исчез в темноте коридора. Сразу после этого мы услышали, как его выворачивает наизнанку.
— Пойду помогу ему, — сказал Фараг и зажег свет. — Найди телефон и вызови врача. Похоже, без него не обойтись.
Я прошла по просторной квартире, испытывая странное чувство, что я вторгаюсь в личную жизнь капитана Глаузер-Рёйста. Маловероятно, что такой сдержанный, такой молчаливый и скрытный в отношении своей личной жизни человек, как он, многих пускал к себе в дом. До сих пор я считала, что капитан живет в казармах швейцарской гвардии, между правой колоннадой площади Святого Петра и воротами Святой Анны, и мне и в голову не приходило, что у него может быть собственная квартира в Риме, хотя это было вполне возможно, особенно принимая во внимание его офицерское звание, так как алебардщики, простые солдаты, были обязаны жить в Ватикане, а офицеры — нет. Как бы там ни было, чего я никак, даже случайно, не могла вообразить, так это то, что кто-то, кто теоретически получает мизерную зарплату (а плата швейцарским гвардейцам славится скудостью), имеет элегантную квартиру на улице Лунготевере-деи-Тебальди, к тому же меблированную и обставленную с хорошим вкусом.
В углу гостиной у портьер одного из окон я нашла телефон и записную книжку капитана, а рядом с ними, на том же столике, — фотографию улыбающейся девушки в серебряной рамке. Девушка в привлекательной зимней шапочке была очень красива, и у нее были черные глаза и волосы, так что она никак не могла быть кровной родственницей Кремня. Неужели это его невеста?.. Я улыбнулась. Вот это был бы сюрприз!
Как только я открыла записную книжку, на пол вывалилась куча бумаг и визитных карточек. Я поспешно подобрала их и отыскала номер телефона санитарной службы Ватикана. В эту ночь дежурил доктор Пьеро Аркути, которого я знала лично. Он заверил меня, что приедет в считанные минуты, и, к моему удивлению, спросил, не нужно ли сообщить о происшедшем государственному секретарю Анджело Содано.
— Зачем нужно звонить кардиналу? — поинтересовалась я.
— Потому что в медицинской карточке капитана Глаузер-Рёйста в компьютере есть запись о том, что в любой непредвиденной ситуации такого рода нужно оповестить непосредственно государственного секретаря или, в его отсутствие, архиепископа-секретаря второй секции монсеньора Франсуа Турнье.
— Даже не знаю, что вам сказать, доктор Аркути. Делайте как считаете нужным.
— В этом случае, сестра Салина, я позвоню его высокопреосвященству.
— Хорошо, доктор. Мы вас ждем.
Только я повесила трубку, в гостиную вошел Фараг, засунув руки в карманы и вопросительно оглядывая все вокруг. Он был перепачкан и растрепан, как нищий, который добывает себе пропитание, копаясь в мусоре.
— Поговорила с врачом?
— Он сейчас приедет.
Он порылся во многочисленных карманах куртки и что-то оттуда достал.
— Смотри, Оттавия. Это бумажка, которую ты нашла в пиджаке капитана, когда искала ключи.
— Как Глаузер-Рёйст?
— Не очень, — ответил он, приближаясь ко мне с бумажкой. — Он скорее не спит, а, по-моему, находится в полуобморочном состоянии. Постоянно теряет сознание. Какими же наркотиками нас напичкали?
— Не знаю, что это за наркотики, но подействовали они только на него, потому что ты себя чувствуешь нормально, так ведь?
— Не совсем. Я ужасно хочу есть. Но пока ты не увидишь это, я не могу пойти на кухню и что-нибудь поискать.
Я взяла протягиваемую им бумажку и оглядела ее. Она была необычной. Несмотря на то что она промокла, на ощупь она была толстой и шершавой, с неровными краями, обрезанными явно не промышленным способом. Я расправила ее на ладони и увидела греческий текст, чуть размытый Тибром.
— От наших друзей ставрофилахов?
— Конечно.
τί στενή ή πύλη καὶ τεθλιμμένη ή όδὸς ή άπάγουσα είς τήν ζωήν, καὶ όλίγοι είσὶν οί εύρίσκοντες αύτήν.
— «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, — перевела я, и сердце мое сжалось, — и немногие находят их». Эти фрагмент из Евангелия от Матфея.
— Все равно, — пробормотал Фараг. — Меня пугает не это, а то, что это может значить.
— Это значит, что следующее инициаторское испытание братства связано с тесными воротами и узкими путями. Что написано там внизу?..
— «Агиос Константинос Аканзон».
— Святой Константин с терниями… — проговорила я в раздумье. — Это не император Константин, хоть он тоже святой, потому что после его имени ничего не добавляют, уж во всяком случае, не «Аканзон». Может, какой-то важный для ставрофилахов покровитель или название какой-нибудь церкви?
— Если это церковь, то находится она в Равенне, потому что второе испытание, испытание греха зависти, проходит там. А что до терний… — Он поправил очки, провел руками по грязным волосам и опустил взгляд к полу. — Упоминание терний мне совсем не нравится, потому что на втором уступе у Данте завистники идут, облаченные во власяницы, а их глаза зашиты железной нитью.
Внезапно мой лоб и щеки покрылись холодным потом, словно кровь отлила от лица, а руки импульсивно сомкнулись.
— Господи! — взмолилась я на грани обморока. — Только не сегодня!
— Нет… Не сегодня, — согласился Фараг, подходя ко мне и обнимая меня за плечи. — Сегодня нам остается наброситься на холодильник Каспара и проспать много часов. Идем на кухню.
— Надеюсь, доктор Аркути скоро приедет.
Кухня у капитана была просто сногсшибательная. Едва войдя в нее, я вспомнила бедняжку Ферму, которая на трети этого пространства и с десятой частью бытовой техники изощрялась в приготовлении вкусной еды. Что бы она сделала, если бы в ее распоряжении была эта домашняя версия НАСА? В дверце громадного холодильника цвета нержавеющей стали было устройство для подачи воды и кубиков льда, а рядом красовался экран компьютера, который тихонько пикнул, когда мы открыли дверцу, чтобы посмотреть, что тут можно поесть, и посоветовал купить говядины.
— Как ты думаешь, как он может себе все это позволить? — спросила я у Фарага, достававшего пакет формового хлеба и массу колбас.
— Это не наше дело, Оттавия.
— Как это не наше? — не согласилась я. — Я уже два месяца с ним работаю и знаю только, что он бесчувствен, как камень, и действует по приказу церковного трибунала и Турнье. Закачаешься!
— Он уже не подчиняется Турнье.
На красного мрамора столешнице кухни, на которой возвышались шесть двойных горелок и сковорода-гриль из вулканического камня (как это явствовало из таблички с маркой) полуторасантиметровой толщины, Фараг приготовил аппетитные бутерброды.
— Ладно, но все еще бесчувствен, как камень.
— Оттавия, ты всегда о нем плохо думаешь. Я думаю, в глубине души он — несчастный человек. Уверен, что у него доброе сердце. Скорее всего это жизнь заставила его принять ту малоприятную должность, которую он занимает.
— Жизнь никого не заставляет, если он сам не хочет, — отрубила я, уверенная в том, что изрекла высокую истину.
— Ты уверена? — саркастично переспросил он, срезая с хлеба корки. — Я вот знаю кого-то, кто не был вполне свободен в выборе судьбы.
— Если ты обо мне, то ошибаешься, — обиделась я.
Он засмеялся и подошел к столу с двумя тарелками и парой разноцветных салфеток в руках.
— Знаешь, что сказала мне твоя мать в то воскресенье, когда мы с Каспаром явились к вам после похорон?
У меня на сердце вилось что-то ядовитое. Я промолчала.
— Твоя мать сказала мне, что из всех ее детей ты всегда была самой лучшей, самой умной и самой сильной. — Он невозмутимо облизал выпачканные в остром соусе пальцы. — Не знаю, почему она была со мной так откровенна, но, так или иначе, она сказала мне, что ты могла быть счастлива, только ведя такую жизнь, которую ведешь, отдавшись Богу, потому что ты не создана для брака и никогда не смогла бы вынести правила, навязанные мужем. Полагаю, твоя мать меряет мир по меркам своего времени.
— Моя мать меряет мир как считает нужным, — огрызнулась я.
Кто Фараг такой, чтобы судить мою мать?
— Пожалуйста, не обижайся! Я просто рассказываю тебе, что она сказала. А теперь мы немедленно поужинаем этими замечательными жирными и острыми бутербродами, напичканными всем, что было в холодильнике. Кусай, императрица византийская, и откроешь для себя одну из неведомых тебе радостей жизни!
— Фараг!
— Пр… прости, — пробормотал он с таким полным ртом, что он с трудом закрывался, и весь его вид показывал, что он вовсе не сожалеет о сказанном.
Как он мог пребывать в таком оживлении, если я падала от усталости? Когда-нибудь, сказала я себе, жуя первый кусок бутерброда и поражаясь тому, какой он вкусный, когда-нибудь я буду следить за здоровьем и заниматься спортом. Я больше не буду часы напролет сидеть в лаборатории, не двигая ногами. Я буду совершать пешие прогулки, делать какую-нибудь зарядку по утрам и бегать по Борго с Фермой, Маргеритой и Валерией.
Когда в дверь позвонили, мы уже почти покончили с ужином.
— Сиди и заканчивай с едой, — вставая, сказал Фараг. — Я открою.
Как только он вышел за дверь, я поняла, что засну прямо здесь, за кухонным столом, так что я проглотила последний кусок и вышла вслед за ним. Я поздоровалась с входящим в дом доктором Аркути и, пока он осматривал капитана, прошла в гостиную, чтобы на минутку упасть на один из диванов. Кажется, я спала, ходила во сне и говорила во сне. Мне нужно было как-то избавиться от тела. Проходя рядом с приоткрытой дверью, я не смогла побороть искушение полюбопытствовать. Я зажгла свет и очутилась в большущем кабинете, обставленном современной офисной мебелью, которая, даже толком не знаю как, чудесно сочеталась со старинными книжными полками красного дерева и портретами военных предков капитана Глаузер-Рёйста. На столе стоял мудреный компьютер, по сравнению с которым тот, что был у нас в лаборатории, казался детской игрушкой, а справа, рядом с большим окном, находился музыкальный центр, на котором было больше кнопок и цифровых экранов, чем на пульте управления самолета. В странных изогнутых длинных ящиках громоздились сотни компакт-дисков, и, насколько я смогла заметить, там были записи от джазовой музыки до оперы, включая разнообразный фольклор (там был даже диск с пигмейской музыкой, то есть с мелодиями настоящих пигмеев) и много записей грегорианского пения. Я только что узнала, что Кремень — большой любитель музыки.
Портреты его предков были уже совсем другой песней. Лицо Глаузер-Рёйста с незначительными вариациями на протяжении веков снова и снова повторялось в его прапрадедушках и двоюродных прадедах. Всех их звали Каспар, или Линус, или Каспар-Линус Глаузер-Рёйст, и у всех было одинаковое суровое выражение лица, которое так часто бывало у капитана. Серьезные, строгие лица, лица солдат, офицеров или командующих ватиканской швейцарской гвардии с XVI века. Мое внимание привлекло то, что только его дед и отец, Каспар Глаузер-Рёйст и Линус-Каспар Глаузер-Рёйст, были в парадной форме, созданной Микеланджело. На всех остальных была металлическая кираса (нагрудник и наспинник), как это было заведено в старинных армиях. Неужели знаменитая форма — творение современное?
Между компьютером и великолепным железным крестом на каменной подставке стояла фотография размером больше обычного. Поскольку я не могла ее видеть, я обошла вокруг стола и увидела ту же смуглую девушку, которую обнаружила в гостиной. У меня уже не оставалось никаких сомнений в том, что это должна быть его невеста — никто не держит столько фотографий подруги или сестры. Так что у Кремня был чудесный дом, красивая невеста, родовитая семья, он — любитель музыки и книг, которых было множество не только в кабинете, но и во всех комнатах. Я ожидала найти где-нибудь типичную коллекцию древнего оружия, которую выставляет у себя дома любой уважающий себя военный, но, похоже, Кремня это не интересовало, так как, не считая портретов его предков, это жилище могло рассказать о своем хозяине что угодно, но только не то, что он офицер.
— Оттавия, что ты тут делаешь?
Я подпрыгнула на месте и обернулась к двери.
— Господи, Фараг, ты меня напугал!
— А если бы это был не я, а капитан! Что бы он о тебе подумал, а?
— Я ничего не трогала. Только посмотрела.
— Если я когда-нибудь попаду в твой дом, напомни мне, чтобы я посмотрел твою комнату.
— Ты этого не сделаешь.
— Ну-ка выходи отсюда, давай, — сказал он, маня меня из кабинета. — Доктор Аркути должен осмотреть твою руку. С капитаном все в порядке. Похоже, он под воздействием какого-то очень сильного снотворного. И у него, и у меня на внутренней стороне правого предплечья чудный крестик. Сама увидишь, да!.. Наши кресты латинские и вписаны в вертикальный прямоугольник с коронкой с семью зубцами сверху. Может, тебе пропечатали другую модель.
— Не думаю… — пробормотала я.
Честно говоря, я уже и забыла о руке. Она давно перестала болеть.
Мы вошли в комнату Кремня, и я увидела, что он спит глубоким сном на постели, такой же грязный, как при выходе из Великой клоаки. Доктор Аркути попросил меня поднять рукав свитера. Внутренняя часть предплечья была немного воспалена и красновата, но креста видно не было, потому что на него была наложена повязка. Для тысячелетней секты методы нанесения племенных шрамов были очень даже современными. Аркути осторожно отлепил марлю.
— Все в порядке, — сказал он, разглядывая мою новую отметину. — Заражения нет, выглядит шрам чистым, несмотря на зеленоватую окраску. Наверное, какой-то растительный антисептик. Трудно сказать. Очень профессиональная работа. Вы позволите спросить?..
— Нет, не спрашивайте, доктор Аркути, — ответила я, взглянув на него. — Это новая мода, называется боди-арт. Его активно пропагандирует певец Дэвид Боуи.
— И вы, сестра Салина…
— Да, доктор, я тоже слежу за модой.
Аркути усмехнулся.
— Конечно, вы ничего не можете мне рассказать. Его высокопреосвященство кардинал Содано предупредил меня, чтобы я не удивлялся ничему, что увижу сегодня ночью, и не задавал никаких вопросов. Кажется, вы выполняете важное для церкви задание.
— Что-то в этом роде… — выдавил Фараг.
— Ну, значит, в этом случае, — заметил доктор, накладывая мне на крест новую повязку, — я закончил. Пусть капитан спит, пока не проснется, и вам тоже не мешало бы отдохнуть. Вид у вас не очень-то… Сестра Салина, думаю, вам стоит поехать со мной. Внизу ждет машина, и я могу подвезти вас в вашу общину.
Доктор Аркути как постоянный член «Опус Деи», религиозной организации, имеющей в Ватикане максимальную власть со времени избрания Иоанна Павла II, не одобрил бы, если бы я провела ночь в доме, где было двое мужчин. Кроме того, к вящей опасности эти мужчины были не священниками, а мирянами. Поговаривали, что Папа ничего не делает без одобрения «Дела», как называли «Опус» его последователи), и даже самые независимые и сильные из могущественной римской курии старались не вступать в открытое противостояние с политико-религиозными тенденциями, задаваемыми этой организацией, члены которой, как доктор Аркути или пресс-секретарь Ватикана испанец Хоакин Наварро-Вальс, были вездесущи во всех ватиканских кругах.
Я растерянно посмотрела на Фарага, не зная, что ответить доктору. В этом доме с лихвой хватило бы комнат на всех, было так поздно, и я была такая уставшая, что мне бы и в голову не пришло, что мне нужно ехать спать в квартиру на площади Васкетте. Но доктор Аркути настоял:
— Вы же, наверное, хотите смыть с себя всю эту грязь и переодеться, так ведь? Ну же, что тут думать! Как вы будете принимать тут душ? Нет, сестра, нет!
Я поняла, что сопротивляться бессмысленно. Кроме того, если бы я отказалась, на следующий день или прямо ночью мой орден получил бы суровый выговор, и тут было не до шуток. Так что я распрощалась с Фарагом и, ни жива ни мертва от изнеможения, покинула квартиру вместе с врачом, который действительно подвез меня до площади Васкетте с приятной улыбкой выполненного долга. Ферма, Маргерита и Валерия, конечно, до смерти напугались, увидев меня в таком состоянии. Я знаю, что все-таки приняла душ, но понятия не имею, как добралась до кровати.
* * *
Верный своей швейцарско-германской природе капитан Глаузер-Рёйст отказался остаться в постели хотя бы на день и, несмотря на наши с Фарагом настояния, уже на следующий день явился ко мне в лабораторию в Гипогее с перевязанной головой, готовый продолжать все дальше и снова рисковать жизнью. Капитана Глаузер-Рёйста снедала умопомрачительная жажда как можно скорее добраться до ставрофилахов и их Рая Земного, словно на кону в этой безумной истории стояло нечто большее, чем просто выслеживание и поимка похитителей реликвий. Быть может, для него эти инициаторские испытания, символизировавшие преодоление семи смертных грехов, и значили больше, чем проба личности, но для меня они были лишь провокацией, брошенной к моим ногам перчаткой, которую я решила поднять.
В четверг я проснулась около полудня, вполне восстановив силы после ужасного душевного и физического истощения последней недели. Полагаю, на это повлияло и то, что, открыв глаза, я оказалась в своей собственной постели и в своей комнате, в окружении своих вещей. Так или иначе, но одиннадцать-двенадцать часов непрерывного сна пошли мне только на пользу, и, несмотря на синяки, судороги мышц на ногах и мой новый необычный шрам, я чувствовала покой и впервые за долгое время была расслаблена, словно все вокруг меня было в порядке.
Но это приятное ощущение продлилось не более минуты, потому что из постели, еще до ушей закутанная в одеяло, я услышала телефонный звонок и угадала, что это звонят мне. Однако даже когда Валерия вошла меня будить, мое хорошее настроение не изменилось. Было ясно, что сон — лучшее средство для восстановления сил.
Звонил Фараг, который на удивление искаженным от злости голосом сказал мне, что капитан хочет, чтобы мы собрались в лаборатории после обеда. Тогда я попыталась настоять, чтобы Кремень отлежался хотя бы один день, но, еще больше рассердившись, Босвелл рявкнул, что он перепробовал уже все известные ему методы, но никакого успеха в этом не достиг. Я попросила его успокоиться и не волноваться из-за того, кто не воспринимает свое собственное здоровье всерьез. Я поинтересовалась, как себя чувствует он, и чуть более спокойным и мирным тоном он ответил, что проснулся только пару часов назад и что, кроме шрама на руке, все еще зеленого, хотя воспаление спало, если не трогать шишку на голове, больше у него ничего не болит. Он хорошо отдохнул и плотно позавтракал.
Так что мы договорились встретиться в лаборатории в четыре часа дня. До этого времени я собиралась пообедать со своими сестрами, чуть-чуть помолиться в часовне и позвонить домой, чтобы узнать, как там дела. Просто не верилось, что у меня есть три часа, чтобы расставить все по местам.
Свежее розы и со счастливой улыбкой на лице я прошла от дома до Ватикана, наслаждаясь свежим воздухом и вечерним солнцем. Как мало мы ценим то, что не теряли! Свет, падающий мне на лицо, вселял в меня силы и радость жизни; улицы, шум, машины и хаос возвращали меня к нормальной рутине и обыденному порядку. Мир — это именно это, и он именно таков, к чему постоянно ворчать на что-то, в чем наверняка есть своя красота, зависящая только от того, с какой стороны посмотреть. Увиденные под подходящим углом грязный асфальт, пятно масла или бензина и брошенная на тротуар бумажка оказываются прекрасными. Особенно если в какой-то миг вы были уверены, что не увидите их больше никогда.
Я на минутку зашла в «Аль мио каффе», чтобы выпить капучино. Из-за близости к казармам здесь всегда было много молодых швейцарских гвардейцев, которые шумно переговаривались и раскатисто хохотали, но были тут и люди, которые, как я, шли на работу или домой и заглядывали в кафе, потому что, кроме того, что тут было очень мило, здесь подавали чудесный капучино.
Наконец, за пять минут до назначенного времени, я добралась до Гипогея. Четвертый подземный уровень вернулся к обычной работе, как будто сумасшествие, связанное с кодексом Иясуса, уже стерлось из памяти. К моему удивлению, мои помощники любезно поздоровались со мной, а некоторые даже помахали рукой в знак приветствия. Робкими и неуверенными кивками я ответила всем им и бегом скрылась в лаборатории, недоумевая, какое сверхъестественное чудо должно было произойти, чтобы их отношение ко мне так неслыханно изменилось. Может, они обнаружили, что я человек, или это мое ощущение блаженства заразно?
Не успела я повесить на вешалку пальто и сумку, как явились Фараг с капитаном. Большущую светловолосую голову последнего венчала красивая повязка, но металлический блеск под бровями предвещал бурю.
— Капитан, у меня чудесный день, — заявила я вместо приветствия, — и я не хочу смотреть на хмурые лица.
— У кого это хмурое лицо? — кисло отпарировал он.
У Фарага настроение было не лучше. Не знаю, что там произошло у Кремня дома, но последствия это имело апокалиптические. Капитан не стал снимать пиджак и садиться за стол.
— Через пятнадцать минут у меня аудиенция с Его Святейшеством и с его высокопреосвященством Содано, — вдруг выпалил он. — Это очень важная встреча, так что меня не будет пару часов. Вы пока готовьте следующий Дантов уступ, а когда я вернусь, закончим сборы.
Сказав это, он снова переступил через порог и исчез. В лаборатории воцарилась тяжелая тишина. Я не знала, стоит ли спрашивать у Фарага, что случилось.
— Знаешь что, Оттавия? — сказал он, не сводя глаз с двери, в которую вышел капитан. — Глаузер-Рёйст сдвинулся.
— Не нужно было настаивать, чтобы он отдыхал. Когда кто-то хочет что-то сделать и этот кто-то так же упрям, как капитан, нужно оставить его в покое, пусть делает что хочет, даже если это его уморит.
— Да ну, дело не в этом! — Он взглянул на меня со странным выражением и сказал: — «Разве я сторож брату моему?» Я вполне осознаю, что Каспар уже достаточно взрослый, чтобы делать то, что считает нужным. Просто… Понимаешь, не знаю, но эта история со ставрофилахами сводит его с ума. Либо он хочет заработать медаль, либо доказать себе, что он — супермен, либо для него это приключение, как для других вино — способ забыться или погубить себя.
— Что-то подобное пришло мне в голову сегодня утром… то есть днем. — Я вытащила из чехла очки и надела их. — Для нас с тобой это — приключение, в котором мы участвуем добровольно, из интереса и любопытства. Для него это нечто большее. Ему плевать на усталость, плевать на смерть моих отца и брата, плевать на то, что жизнь и работа в Египте для тебя потеряны. Он заставляет нас бежать наперегонки со временем, словно похищение еще одной реликвии — непоправимая катастрофа.
— Не думаю, что дело в этом, — наморщив лоб, проговорил Фараг. — Мне кажется, он очень переживал по поводу аварии и гибели твоих отца и брата и что его беспокоит мое теперешнее положение. Но ты права, он действительно одержим ставрофилахами. Сегодня утром он только встал, сразу позвонил Содано. Они долго разговаривали и во время беседы ему пришлось несколько раз лечь, потому что он валился на пол. Потом, еще не позавтракав, он ушел в кабинет (который ты обследовала, помнишь?) и там открывал-закрывал ящики и папки. Пока я перекусил и принял душ, он шатался по дому, охая от боли, на минуту присаживаясь, чтобы перевести дух, и снова поднимаясь, чтобы делать что-то дальше. После того бутерброда в клоаке он совсем ничего не ел.
— Он сходит с ума, — подытожила я.
Мы снова замолчали, будто больше про Глаузер-Рёйста сказать было нечего, но я уверена, что оба мы продолжали думать об одном и том же. Наконец я глубоко вздохнула.
— Поработаем? — предложила я, пытаясь его расшевелить. — Восхождение на второй уступ Чистилища. Песнь тринадцатая.
— Ты можешь читать вслух для нас обоих, — заметил он, поудобнее усаживаясь в кресле и укладывая ноги на стоящий на полу корпус процессора. — Поскольку я уже это читал, будем вместе обсуждать.
— А почему читать придется мне?
— Если хочешь, могу почитать я, но я уже удобно уселся, и отсюда у меня чудесный вид.
Я посчитала его комментарий неуместным, предпочла пропустить его мимо ушей и принялась читать Дантовы стихи:
Noi eravamo al sommo de la scala,
dove secondamente si risega
lo monte che salendo altrui dismala.[30]
Наше «второе я», Вергилий и Данте подходят к новому уступу, немного меньше предыдущего, и бодрым шагом продвигаются вперед в поисках какой-нибудь души, которая указала бы им дорогу наверх. Вдруг до Данте доносятся голоса, говорящие: «Vinum non habent»[31], «Я Орест» и «Врагов любите».
— Что это значит? — спросила я у Фарага, смотря на него поверх очков.
— Просто это классические примеры любви к ближнему, которой не хватает страдальцам этого круга. Но ты читай дальше и поймешь.
Интересно, что Данте задает Вергилию тот же вопрос, который я только что задала Фарагу, и мантуец отвечает ему:
«…Выси эти
Бичуют грех завистливых; и вот
Сама любовь свивает вервья плети.
Узда должна звучать наоборот;
Быть может, на пути к стезе прощенья
Тебе до слуха этот звук дойдет.
Но устреми сквозь воздух силу зренья,
И ты увидишь — люди там сидят,
Спиною опираясь о каменья».
Данте присматривается к стене и видит тени, облаченные в мантии цвета камня. Он подходит поближе и ужасается увиденному:
Их тело власяница облекла,
Они плечом друг друга подпирают,
А вместе подпирает их скала.
[…] И как незримо солнце для слепого,
Так и от этих душ, сидящих там,
Небесный свет себя замкнул сурово:
У всех железной нитью по краям
Зашиты веки, как для прирученья
Их зашивают диким ястребам.[32]
Я снова взглянула на Фарага, который с улыбкой наблюдал за мной, и в отчаянии покачала головой:
— Не думаю, что выдержу это испытание.
— Разве на первом уступе тебе пришлось таскать камни?
— Нет, — признала я.
— Вот никто и не говорит, что тебе зашьют глаза проволокой.
— А если зашьют?
— Тебе было больно, когда тебя заклеймили первым крестом?
— Нет, — снова признала я, хотя, наверное, стоило упомянуть о незначительной подробности — ударе по голове.
— Значит, читай дальше и не волнуйся. У Аби-Руджа Иясуса на веках дыр не было, правда ведь?
— Нет.
— Ты не задумывалась о том, что мы были во власти ставрофилахов шесть часов, а они только нанесли нам небольшой шрам? Ты поняла, что они прекрасно знают, кто мы, и все равно позволяют нам пройти испытания? По какой-то непонятной причине они совсем нас не боятся. Они будто говорят нам: «Вперед, придите в наш Рай Земной, если только сможете!» Они очень уверены в себе, вплоть до того, что подсунули в пиджак капитана подсказку для следующего испытания. Они могли бы этого не делать, — предположил он, — и мы бы сейчас без толку ломали головы.
— Они бросают нам вызов? — удивилась я.
— Не думаю. Скорее похоже, что они нас приглашают. — Он провел рукой по бороде, которая была светлее кожи, и изобразил гримасу отчаяния. — Ты что, не собираешься дочитывать про второй уступ?
— Я по горло сыта Данте, ставрофилахами и капитаном Глаузер-Рёйстом! Более того, я по горло сыта почти всем, что как-то связано с этой историей! — возмущенно воскликнула я.
— И ты по горло сыта… — начал было он, продолжая цепочку моих жалоб, но резко остановился, натянуто усмехнулся и строго посмотрел на меня: — Оттавия, пожалуйста, читай дальше!
Я послушно опустила глаза к книге и продолжила.
Далее следовал длинный и нудный фрагмент, в котором Данте заводит разговор со всеми душами, которые хотят поведать ему о своих жизнях и о причинах, по которым они находятся на этом уступе: Сапией деи Сальвани; Гвидо дель Дукой, Риньери да Кальболи… Все они были ужасными завистниками, которые больше радовались чужим бедам, чем собственному счастью. Наконец скучная песнь четырнадцатая заканчивается, и начинается пятнадцатая, в которой Данте с Вергилием опять остаются одни. К ним направляется ярчайший свет, бьющий в глаза Данте и заставляющий его прикрыть их рукой. Это ангел-хранитель второго круга, который пришел стереть еще одну букву «Ρ» со лба поэта и провести их к началу лестницы, ведущей к третьему уступу. Делая это, он, на удивление, поет гимны «Beati misericordes» и «Радуйся, громящий вражьи рати!».
— И все, — сказала я, увидев, что песнь кончается.
— Что ж, теперь нам надо узнать, что такое «Агиос Константинос Аканзон».
— Для этого нужен капитан. Обращаться с компьютером умеет только он.
Фараг удивленно посмотрел на меня.
— Но разве это не тайный архив Ватикана? — спросил он, оглядываясь по сторонам.
— Ты совершенно прав! — сказала я, вставая со стула. — Для чего тут сидят все эти люди?
Я решительно распахнула дверь и вышла, намереваясь захватить первого, кто мне попадется под руку, но при этом со всего размаху наткнулась на Кремня, который собирался вломиться в лабораторию, как бульдозер.
— Капитан!
— Вы собирались по важным делам, доктор?
— Ну, как сказать, нет. Я хотела…
— Ну, тогда заходите. Мне нужно сообщить вам нечто важное.
Я вернулась назад и уселась на свое место. Фараг снова недовольно нахмурил лоб.
— Профессор, прежде всего я хотел бы извиниться за свое утреннее поведение, — смиренно сказал Кремень, усаживаясь между мною и Фарагом. — Я довольно плохо чувствовал себя, но я не умею болеть.
— Я заметил.
— Понимаете, — продолжал извиняться капитан, — когда мне нехорошо, я становлюсь просто невыносим. Я не привык лежать в кровати даже с температурой за сорок. Полагаю, я оказался отвратительным хозяином, и приношу свои извинения.
— Ладно, Каспар, тема закрыта, — заключил Фараг, махнув рукой, чтобы показать, что эта дверь навсегда закрывается.
— Что ж, тогда теперь, — вздохнул Кремень, расстегивая пиджак и усаживаясь поудобнее, — я без дальнейших предисловий сообщу вам о создавшейся ситуации. Я только что доложил Папе и государственному секретарю обо всем, что произошло с нами в Сиракузах и здесь, в Риме. Его Святейшество мои слова заметно поразили. Может быть, вы забыли, но сегодня у него день рождения. Его Святейшеству исполняется 80 лет, и, несмотря на свои многочисленные обязанности, он нашел время, чтобы меня принять. Я говорю это для того, чтобы вы видели, насколько задача, которую мы решаем, важна для церкви. Несмотря на то что он был очень уставшим и не мог говорить ясно, посредством его высокопреосвященства он сообщил мне, что доволен и будет молиться за нас каждый день.
На моих губах появилась растроганная улыбка. Когда об этом узнает мама! Папа каждый день молится за ее дочку!
— Итак, следующий вопрос — это то, что нам еще осталось сделать. Чтобы добраться до Рая Земного ставрофилахов, нам остается пройти шесть испытаний. В случае если мы останемся в живых после всех шести, нашей задачей, естественно, является возвращение Честного Креста, но, кроме того, мы должны предложить прощение всем членам секты, если только они готовы влиться в лоно католической церкви как один из орденов. Папа особенно хочет познакомиться с нынешним Катоном, если только он существует, так что нам нужно будет доставить его в Рим, добровольно или силой. Кроме того, кардинал Содано сообщил мне, что, поскольку оставшиеся испытания должны проходить в Равенне, Иерусалиме, Афинах, Стамбуле, Александрии и Антиохии, ныне Антакии, Ватикан предоставит в наше распоряжение один из «Дофинов-365» и личный «Вествинд» Его Святейшества. Что касается дипломатической аккредитации…
— Погоди-ка! — Фараг поднял руку, как ученик в школе. — Что такое «Дофин-тра-ля-ля» и «Вествинд»?
— Простите. — Кремень был мягок, как озерная вода; Папа на всех влиял положительно. — Я не подумал, что вы ничего не знаете о вертолетах и самолетах.
— О нет! — охнула я, тяжело уронив голову.
— О да, дорогая Басилея! Мы будем и дальше бежать наперегонки со временем!
К счастью, Глаузер-Рёйст не уловил смысл неподходящего греческого слова, которым награждал меня в последнее время Фараг.
— Профессор, у нас нет другого выхода. С этим делом нужно покончить как можно скорее. Все христианские церкви уже лишились своих реликвий Честного Древа, а немногие оставшиеся фрагменты продолжают исчезать, несмотря на тщательную охрану. К вашему сведению, три дня назад была похищена реликвия из церкви Святого Михаэля в Цвайбрюкене, в Германии.
— Кражи продолжаются, несмотря на то, что они знают, что мы идем по их следу!
— Они не боятся, доктор. Кирха Святого Михаэля охранялась нанятой епархией частной охранной фирмой. Церковь тратит много денег на охрану реликвий, но, как видите, без особого успеха. Это еще одна причина, по которой кардинал Содано с разрешения Его Святейшества предоставляет в наше распоряжение один из принадлежащих Ватикану вертолетов «Дофин-365» и самолет «Вествинд» компании «Алиталия», которым пользуется Папа для частных поездок.
Мы с Фарагом переглянулись.
— План таков, — продолжал Кремень. — Завтра в семь утра мы встречаемся на ватиканской вертолетной площадке. Как вы знаете, она находится на западной окраине Города, за собором Святого Петра, по прямой по направлению к крепостной стене Папы Льва IV. Там нас будет ждать «Дофин», на котором мы полетим в Равенну… Кстати, вы уже разобрались с подсказкой к следующему испытанию?
— Нет. — Я откашлялась. — Нам нужны были вы.
— Я? Зачем?
— Видите ли, Каспар, мы знаем, что город — Равенна, знаем, что грех — зависть, знаем, что в этом испытании будут тесные ворота и запутанные тропы, но окончательная разгадка, похоже, кроется в названии, которое нам ни о чем не говорит: «Агиос Константинос Аканзон», или, иными словами, святой Константин с терниями.
— Второй круг — круг власяниц, — задумчиво заметил Глаузер-Рёйст.
— Да, так что мы уже знаем, что нас может ожидать… по крайней мере, кажется, знаем. В любом случае нужно узнать, кто этот святой Константин. Может быть, его жизнь подскажет нам, что делать.
— А может, — предположила я, — «Агиос Константинос Аканзон» — это церковь в Равенне. В общем, вам нужно постараться это разузнать с помощью чудесного изобретения под названием «интернет».
— Хорошо, — ответил Кремень, снимая пиджак и аккуратно вешая его на спинку кресла. — За работу.
Он включил компьютер, подождал, пока запустится вся система, и тут же подключился к ватиканскому серверу, чтобы выйти в сеть.
— Как там звали этого святого?
— Агиос Константинос Аканзон.
— Нет, капитан, — возразила я. — Сначала поищите святого Константина с терниями. Это логичнее.
Прошло довольно много времени, и мы с Фарагом уже устали неподвижно сидеть, не сводя глаза с экрана, на котором быстро мелькали бесчисленные страницы документов, когда Глаузер-Рёйст, ликуя, воскликнул:
— Есть!
Он откинулся в кресле и ослабил узел галстука.
— Святой Константин Аканццо в провинции Равенна. Послушайте, что пишут в этом туристическом путеводителе по зеленым маршрутам.
— По зеленым маршрутам? — переспросил Фараг.
— По экотуризму, профессор, маршрутам для любителей природы: пеших прогулок и спусков в овраги в малолюдных уголках природы.
— А!
— Монастырь Святого Константина Аканццо — старое бенедиктинское аббатство, расположенное к северу от устья реки По в провинции Равенна. Среди монастырских построек, возникших до X века, архитектурной ценностью отличается церковь византийского стиля, трапезная, украшенная великолепными фресками, и колокольня XI века.
— Неудивительно, что ставрофилахи выбрали Равенну в качестве одного из мест проведения испытаний, — заметила я. — Она была столицей Западной Римской империи с VI по VIII век. Не понимаю только, почему ее посчитали городом, лучше всего воплощающим грех зависти.
— Потому что, доктор, во время своего наибольшего расцвета, этих двух веков Экзархата, о которых вы только что упомянули, Равенна постоянно соперничала с Римом, который к тому времени превратился в малую деревушку.
— Я знаю историю Рима, — недовольно ответила я. — Я тут единственная итальянка, вы не забыли?
Капитан даже не взглянул на меня. Он обернулся к Фарагу, не обращая на меня ни малейшего внимания.
— Как вы знаете, Западная Римская империя пала в IV веке, и варвары завладели всем Итальянским полуостровом. Однако, когда византийцы отвоевали его в VI веке, вместо того, чтобы вернуть Риму главенство над Западным миром, как этого можно было ожидать, они передали его Равенне, потому что в Риме правил Папа, а между Византией и Папой Римским царила давняя вражда.
— Просто Папа Римский считал и до сих пор считает себя единственным истинным наследником святого Петра, Каспар, не забывай об этом, — насмешливо заметил Фараг. — Если бы не эта мелочь, быть может, объединить всех христиан мира оказалось бы проще.
Глаузер-Рёйст молча посмотрел на него лишенным всякого выражения взглядом.
— Поскольку Византия оставила Рим в забвении, — продолжил он, помедлив пару сердцебиений, словно профессор Босвелл ничего не сказал, — начинается его упадок, в то время как Равенна разрастается, богатеет и укрепляется, но вместо того, чтобы наслаждаться своей славой, она всеми силами пытается затмить былое величие своего врага. Кроме того, что город украшается чудесными сооружениями византийского стиля, которые до сих пор являются гордостью Равенны и всей Италии, чтобы еще раз унизить Рим, равеннцы вводят отправление культа святого Аполлинара, покровителя своего города, прямо в базилике Святого Петра.
Фараг легонько присвистнул.
— Да, — озадаченно признал он, — я сказал бы, что зависть ярко характеризует византийскую Равенну. Как неудачно вышло со святым Аполлинаром! А откуда вы все это знаете?
— Разве в Равенне нет епархии? Много людей помогают нам сейчас во всем мире, особенно в шести городах, которые нам еще придется посетить. И будьте уверены, что в этих шести городах уже все готово к нашему приезду. — Перед тем, как продолжать, он еще раз ослабил узел галстука. — Задержание ставрофилахов — это крупномасштабное мероприятие, в котором мы действуем уже не одни. Все христианские церкви крайне заинтересованы в этом деле.
— Неплохо, но все эти люди не пойдут вместе с нами рисковать жизнью в Агиос Константинос Аканзон.
— Сейчас это монастырь Святого Константина Аканццо, — напомнила я.
— Да, и со всей этой болтовней мы до сих пор не дочитали информацию из интернета об этом старинном аббатстве, — пробурчал капитан, обращаясь снова к экрану. — Судя по всему, этот древний монастырь находится в полуразрушенном состоянии, но в нем еще живет небольшая община бенедиктинцев, которые держат постоялый двор для любителей экскурсий. Все это находится точно в центре принадлежащего им леса Палу, который тянется больше чем на пять тысяч гектаров.
— «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их», — вспомнила я.
— Нам нужно будет пройти через этот лес? — поинтересовался Босвелл.
— Лес — частная собственность монахов. Туда нельзя войти без их разрешения, — пояснил Кремень, вглядываясь в экран. — Как бы там ни было, до постоялого двора мы доберемся на вертолете.
— Это мне уже нравится! — Интересно было полетать по небу на мельничке.
— Что ж, доктор, не думаю, что вам так же понравится то, что я скажу сейчас: готовьте вечером чемоданы, потому что мы не вернемся в Рим, пока не заполучим в свою компанию последнего Катона. С завтрашнего утра «Вествинд» компании «Алиталия» будет ждать нас в аэропорту Равенны, чтобы отвезти прямо в Иерусалим. Таков приказ Его Святейшества.
Ватиканский гелипорт — это узкая площадка ромбовидной формы, ограниченная мощной стеной Папы Льва IV, уже одиннадцать веков отделяющая Город от остального мира. Солнце только что поднялось на востоке и освещало чистое и сверкающее небо красивого голубого цвета.
— Видимость отличная, капитан! — выкрикнул пилот «Дофина» АС-365-Н2 капитану Глаузер-Рёйсту. — Замечательное утро!
Моторы «Дофина» гудели, и лопасти мягко вращались, производя звук, похожий на гудение гигантского вентилятора (который вовсе не походил на рев, сопровождающий появление вертолетов в кино). Пилот, высокий светловолосый парень крепкого сложения и с очень белой кожей, был одет в летный комбинезон серого цвета, со всех сторон снабженный карманами. У него была приятная открытая улыбка, и он то и дело рассматривал нас троих, недоумевая, кто же мы такие, что нам разрешают воспользоваться его блестящим белым «Дофином».
Я никогда не летала на вертолете и немного волновалась. Стоя рядом со мной, Фараг внимательно разглядывал все вокруг с любопытством иностранного туриста, попавшего в китайскую пагоду.
Накануне я очень нервничала, собирая вещи. Ферма, Маргерита и Валерия очень помогли мне, запуская в последний момент стирку, гладя, складывая и распихивая вещи, и подбодрили меня шутками и вкусным ужином, который сопровождали смех и хорошее настроение. Я должна была бы чувствовать себя героиней, собирающейся спасти мир, но вместо этого я была напугана и ощущала гнет необъяснимой внутренней тяжести. Словно бы я жила последние минуты своей жизни и наслаждалась последним ужином. Но хуже всего мне стало, когда мы вчетвером вошли в часовню, и мои сестры вслух просили за меня и за успех предстоявшего мне задания. Я не смогла удержаться от слез. По какой-то неведомой причине я чувствовала, что не вернусь, что больше не буду молиться там, где молилась столько раз, и что никогда не сделаю этого в присутствии моих сестер. Я постаралась выбросить эти напрасные страхи из головы и сказала себе, что должна быть храброй, не трусить и не бояться. Если я не вернусь, по крайней мере причиной тому будет доброе дело, дело церкви.
И вот я стою здесь, на вертолетной площадке, одетая в чисто выстиранные и отглаженные брюки, готовая к тому, чтобы впервые в жизни сесть в вертолет. Когда пилот с капитаном сделали нам знак садиться в вертолет, я перекрестилась, а потом удивилась, увидев, как удобно и элегантно там внутри. Ничего похожего на жесткие металлические скамейки и военное снаряжение. Мы с Фарагом уселись в мягкие белые кожаные кресла в салоне с кондиционером и широкими окнами, где стояла тишина, словно в церкви. Наш багаж загрузили в заднюю часть вертолета, и капитан Глаузер-Рёйст занял место второго пилота.
— Взлетаем, — объявил Фараг, глядя в окно.
Вертолет отделился от земли со слабым покачиванием, и, если бы не сильная вибрация моторов, я бы и не заметила, что мы уже в воздухе.
Невероятное ощущение — лететь вот так, с солнцем справа от нас, выполняя некое подобие танца с невозможными для самолета, гораздо более стабильного и скучного вида транспорта, движениями. Небо невероятно слепило глаза, так что я старалась смотреть в окно, прищурившись. Вдруг между светом и мной вклинилась фигура Фарага, который, цепляя мне что-то на уши, сказал:
— Можешь мне их не возвращать. — Он улыбнулся. — Я знал, что ты библиотечная мышка, и у тебя их не будет.
И он надел мне солнечные очки, которые впервые с момента взлета позволили мне нормально смотреть по сторонам. Я обратила внимание на то, как блестит на его волосах горизонтально льющийся через стекла свет.
Солнце поднималось все выше, и наш вертолет уже летел над городом Форли в двадцати километрах от Равенны. Глаузер-Рёйст объявил из кабины через громкоговоритель, что через пятнадцать минут мы прибудем к устью По. Когда мы окажемся там, мы втроем высадимся, а вертолет полетит в аэропорт Спрета в Равенне, где будет ждать указаний.
Пятнадцать минут пронеслись мгновенно. Аппарат вдруг накренился вперед, и мы начали головокружительный спуск, из-за которого у меня заколотилось сердце.
— Мы спустились приблизительно на пятьсот футов, — послышался металлический голос капитана. — Сейчас мы летим над лесом Палу. Смотрите, какая чаща.
Мы с Фарагом приникли к окнам и увидели под собой бесконечный зеленый ковер из огромных деревьев, которому не было ни конца ни края. Мое слабое представление о том, сколько это — пять тысяч гектаров, оказалось с лихвой перекрыто реальностью.
— Хорошо еще, что нам не придется пройти его пешком, — прошептала я, не отрывая глаз от картины под нами.
— Не говори наперед… — ответил Фараг.
— Слева вы увидите монастырь, — прозвучал голос капитана. — Мы приземлимся на поляне перед входом.
Босвелл подсел ко мне, чтобы разглядеть аббатство. Скромная колокольня цилиндрической формы, разделенная на четыре этажа, с крестом на крыше, высилась на месте, где много лет назад существовало прекрасное место умиротворения и молитвы. Сейчас от него осталась только овальная стена, окружающая бывшие постройки, потому что все остальное с высоты птичьего полета казалось грудой разрушенных камней. Только когда мы начали спускаться на поляну, колебля лесные деревья ветром от лопастей пропеллера, мы заметили небольшие строения у стен.
Вертолет мягко приземлился, и мы с Фарагом открыли дверцу пассажирского салона. Мы не сообразили, что лопасти еще не остановились и вращаются с могучей силой, которая понесла нас, как несчастные полиэтиленовые пакеты в вихре урагана. Фарагу пришлось схватить меня за локоть и помочь мне выбраться из завихрения, потому что я, как дурочка, застыла неподвижно, отдавшись на милость циклона.
В кабине капитан разговаривал с молодым пилотом, который теперь надел круглый шлем с черным сверкающим козырьком. Он кивнул и снова запустил моторы, пока Глаузер-Рёйст пробирался сквозь ураган, прилагая куда меньшие усилия, чем мы. Вертолет снова поднялся в воздух, и через несколько секунд от него осталась только белая точка в небе. Мой первый полет оказался восхитительным, его стоило повторить при первом же случае, однако за долю секунды мой разум уже отодвинул его на задний план: мы с Фарагом и капитаном стояли перед калиткой у входа в пустынный бенедиктинский монастырь Агиос Константинос Аканзон, и единственным звуком в округе было пение птиц.
— Что ж, мы прибыли, — объявил Кремень, оглядываясь по сторонам. — Теперь пойдем искать нашего друга ставрофилаха, блюстителя этого испытания.
Но этого не потребовалось, потому что, словно вынырнув из ниоткуда, на ведущей к забору каменистой дорожке появились два старых монаха, одетые в черные сутаны бенедиктинцев.
— Здравствуйте! Добрый день! — воскликнул один из них, помахивая рукой. — Хотите у нас остановиться?
— Да, отче! — ответила я.
— А где ваши рюкзаки? — спросил тот, что постарше, складывая руки на груди и пряча их в рукава.
Кремень поднял свой рюкзак так, чтоб его было видно.
— Здесь у нас есть все необходимое.
Мы подошли ближе, и уже все впятером оказались около калитки. Монахи были гораздо старше, чем мне показалось, но выглядели моложаво и приветливо улыбались.
— Вы позавтракали? — спросил тот из них, у которого еще сохранилось немного волос.
— Да, спасибо, — ответил Фараг.
— Тогда пойдем внутрь и определим вам комнаты. — Он оглядел нас с головы до ног и добавил: — Вам нужно три, так ведь? Или, девица, кто-то из них тебе муж?
Я улыбнулась.
— Нет, отче. Никто из них мне не муж.
— А почему вы прилетели на вертолете? — с детским любопытством поинтересовался второй, девяностолетний.
— У нас не много времени, — пояснил Кремень, шедший очень медленно, чтобы не обгонять старцев своими прыжками.
— А! Значит, вы, наверное, очень богаты, потому что не каждый может позволить себе прокатиться на вертолете.
И оба монаха от души рассмеялись, словно услышали самый смешной анекдот. Мы тайком растерянно переглянулись: или эти ставрофилахи — настоящие актеры, или мы совершенно ошиблись в поисках места. Я тщательно разглядывала их, стараясь заметить малейший признак обмана, но на их сморщенных лицах лежал отпечаток полнейшей невинности, а открытые улыбки казались абсолютно искренними. Неужели мы допустили какую-то ошибку?
Мы пошли в сторону постоялого двора, пока монахи подробно рассказывали нам об истории аббатства. Они очень гордились украшавшими трапезную византийскими фресками и хорошим состоянием, в котором сохранилась церковь благодаря усилиям всей их жизни, посвященным также обслуживанию тех немногих туристов, которые сюда добирались. Они поинтересовались, почему нам пришло в голову приехать в монастырь Святого Константина Аканццо и сколько времени мы планируем остаться. Конечно, заверили нас они, мы сможем разделить с ними трапезы, и, если пребывание здесь покажется нам приятным, было бы неплохо, учитывая наше благосостояние, перед отъездом оставить хорошее пожертвование для аббатства. И, сказав это, они снова рассмеялись, как счастливые дети.
В общем, за беседой мы прошли мимо огородика, в котором работал еще один отец-бенедиктинец, склонившийся над лопатой, которую он с трудом погружал в землю.
— Отец Джулиано, у нас гости! — крикнул ему один из наших сопровождающих.
Отец Джулиано приложил ладонь к глазам, чтобы получше разглядеть нас, и что-то проворчал.
— Отец Джулиано — наш аббат, так что подойдите, поздоровайтесь с ним, — тихонько посоветовал нам один из монахов. — Скорее всего он будет расспрашивать вас долго, так что мы подождем вас внутри. Когда закончите, идите по вон той тропинке, а потом сверните направо. Заблудиться тут невозможно.
Капитан начинал проявлять нетерпение и раздражаться. Чувство, будто мы ошиблись и зря теряем время, становилось все острее и острее. Эти монахи даже отдаленно не подходили на роль ставрофилахов так, как мы себе их представляли. Хотя на самом-то деле, подумала я, пока мы пробирались по огороду, как мы представляем себе ставрофилахов?
Мы могли быть абсолютно уверены только насчет одного из них: нашего молодого эфиопа Аби-Руджа Иясуса, потому что два других — ризничий из церкви Святой Лючии и вонючий священник из Санта-Марии-ин-Космедин — могли быть всего лишь ризничим и священником.
Монахи удалились по тропинке, а неподвижный, словно монарх на троне, аббат дожидался, пока мы подойдем, опершись на лопату.
— Сколько времени вы тут пробудете? — прямо спросил он, когда мы подошли ближе.
— Немного, — ответил Кремень так же неприветливо.
— Что привело вас в аббатство Святого Константина Аканццо? — Судя по его интонации, это был допрос третьей степени. Его лицо мы как следует рассмотреть не могли, потому что голову ему прикрывал широкий капюшон.
— Интерес к флоре и фауне, — недовольно ответил капитан.
— Природа, отче, природа и покой, — поспешно добавил профессор примирительным тоном.
Аббат взялся за лопату обеими руками и с размаху снова всадил ее в землю, поворачиваясь к нам спиной.
— Идите в дом. Вас ждут.
Мы были смущены и озадачены этой краткой беседой и пошли назад по дорожке через огород, а затем направились по указанной нам дороге. Тропинка бежала по тенистой части леса и сужалась просто до ниточки.
— Каспар, что это за деревья — такие высокие?
— Здесь всего понемножку, — пояснил Кремень, не поднимая голову, чтобы на них взглянуть, словно он уже все осмотрел: — Дубы, ясени, вязы, серебристые тополя… Но эти виды не такие уж высокие. Возможно, химический состав почвы здесь очень богат, а может, монахи из аббатства Святого Константина на протяжении веков проводили какую-то селекцию семян.
— Потрясающе! — воскликнула я, поднимая глаза к густому зеленому растительному куполу, затенявшему дорогу.
Молча пройдя порядочный отрезок пути, Фараг спросил:
— Монахи вроде говорили, что нужно где-то свернуть направо?
— Наверное, осталось уже чуть-чуть, — ответила я.
Но оставалось немало, потому что минуты шли, а развилки все не было.
— Кажется, мы идем не туда, — сказал Кремень, глядя на часы.
— Я уже об этом давно говорю.
— Пойдем дальше, — возразила я, вспоминая, что вышли мы на тропинку правильно.
Однако больше чем полчаса спустя мне пришлось признать свою ошибку. Казалось, мы углубляемся в самую чащу леса. Тропинка еле виднелась, и, помимо того, что листва стала гуще, отсутствие солнечного света, который не пропускали сомкнувшиеся сверху кроны деревьев, не позволяло нам понять, в каком направлении мы движемся. К счастью, воздух был чист и свеж, и идти было не в тягость.
— Возвращаемся, — приказал Глаузер-Рёйст с сердитым лицом.
Ни я, ни Фараг с ним спорить не стали, потому что было очевидно, что, даже если мы будем идти целый день, этим путем мы никуда не выйдем. Странно только было, что, пройдя около километра в обратном направлении, мы вышли на перекресток тропинок.
— Что за вздор, — вспылил Кремень. — Раньше мы тут не проходили.
— Хочешь услышать мое мнение? — усмехнувшись, спросил Фараг. — Думаю, мы начали путь по второму уступу. Они, наверное, спрятали эти тропки, а теперь открыли, чтобы мы их нашли. Какая-то из них ведет к правильному месту.
Это немного успокоило капитана.
— В таком случае, — сказал он, — будем вести себя так, как полагается в таких обстоятельствах.
— Куда пойдем? Направо или налево?
— А если это не испытание? — возразила я, поджав губы. — А если мы просто заблудились, и в бреду нам мерещатся видения?
Вместо ответа я получила равнодушное молчание. Оба они начали присматриваться, рыскать и носками ботинок переворачивать камешки. Они были похожи на двух индейских разведчиков или, еще хуже, на двух охотничьих псов, которые ищут упавшую в листву дичь.
— Вот, нашел! — закричал вдруг Фараг.
На стволе дерева, растущего рядом с тропинкой, идущей влево, виднелась маленькая христограмма Константина величиной не больше ногтя.
— Ну, что я говорил! — с довольным видом продолжал он. — Нам сюда!
Это «сюда», однако, оказалось длиннющей дорожкой, которая уже ближе к полудню привела нас к кустарнику почти трехметровой высоты, вставшему у нас на пути. Мы остановились перед ним с тем же выражением удивления на лице, какое появилось бы у туарега, нашедшего небоскреб посреди пустыни.
— По-моему, мы пришли, — пробормотал профессор.
— И что теперь?
— Наверное, идти вдоль него. Может быть, где-то есть просвет. Возможно, с другой стороны нас что-то ожидает.
Мы прошли вдоль стены кустов минут двадцать, пока наконец ее идеальная линия не нарушилась. Ворота шириной около двух метров, казалось, приглашали нас войти, а прикованная к земле железная христограмма не оставляла сомнений относительно дальнейших действий.
— Круг завистников, — прошептала я, немного труся, и поднесла левую ладонь к руке, на которой еще не зажил шрам с первым крестом.
— Вперед, Басилея, а то еще скажут, что мы — трусы! — восторженно провозгласил Фараг, входя в просвет.
Перед нами вздымалась вторая линия кустарников, и ее конца не было видно ни в одну, ни в другую сторону, так что кусты с обеих сторон образовывали бесконечный коридор.
— Господа предпочитают пойти направо или налево? — с таким же энтузиазмом вопросил Фараг.
— В какую сторону идет Данте, попав на второй уступ? — спросила я.
Капитан быстро достал из рюкзака свой потрепанный экземпляр «Божественной комедии» и начал его листать.
— Слушайте, что гласит третья строфа песни, — с явным волнением произнес он: — «Дорога здесь резьбою не одета; стена откоса и уступ под ней — сплошного серокаменного цвета». И на четыре стиха ниже, говоря о Вергилии: «Затем, на солнце устремляя взоры, недвижным стержнем сделал правый бок, а левый повернул вокруг опоры». Думаю, вы согласитесь со мной, что яснее объяснения не придумаешь.
— А где же солнце? — поинтересовалась я, ища его глазами. Громадные деревья росли так, что сложно было угадать, где именно оно находится.
Капитан взглянул на часы, достал компас и указал на точку на небе.
— Оно должно быть где-то там, — указал он.
И правда, так и было, потому что, зная это, было легче заметить его свет, проникавший в этом месте сквозь листву.
— Но мы не можем быть уверены, что Вергилий смотрел на солнце в то же время, что и мы, — заметил Фараг. — А от этого зависит направление.
— Положимся на удачу, — вмешалась я. — Если ставрофилахи хотели бы, чтоб мы пошли в каком-то конкретном направлении, они бы указали нам его.
Глаузер-Рёйст, не отрывавшийся от «Божественной комедии», поднял голову и посмотрел на нас блестящими глазами:
— Знаете, доктор, наша удача нас не подвела, она попала прямо в точку, потому что Вергилий и Данте пришли ко второму уступу как раз после полудня. То есть почти в то же время, что и мы.
Довольно улыбаясь, я повернула лицо к солнцу, уперлась правой ногой в землю и повернулась влево, и слева оказался правый проход, так что мы пошли между одинакового цвета «стеной откоса» и «уступом под ней», хотя они только казались гладкими, так как были сплетены из тесно перекрученных ветвей. Дорога тоже не была «сплошного серокаменного цвета», так как через каждые сто — двести метров на ней появлялась прочно закрепленная в земле деревянная звезда. В начале эти фигуры очень привлекли наше внимание, но после часа пути мы решили, что, что бы это ни было, нам все равно.
Мы прошагали в быстром темпе еще час, но пейзаж совершенно не изменился: в центре — усеянный звездами земляной коридор, а по бокам — пара высоченных зеленых стен, которые под влиянием перспективы, казалось, сходятся где-то вдалеке перед нами.
Меня начинала одолевать усталость. Ноги в туфлях горели и болели, и я бы что угодно отдала за стул или, еще лучше, за удобное кресло, как те, что были в вертолете. Но, так же как Данте с Вергилием, хотя, будучи духом, последний никогда не уставал, нам тоже пришлось довольно долго идти вперед, пока мы нашли что-то стоящее.
— Мне вспоминается фраза Борхеса, — пробормотал Фараг, — которая гласит: «Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что немудрено было запутаться простому детективу». По-моему, это из «Хитросплетений».
— А помнишь вот это: «Бесконечный круг, центр которого везде, а окружность так велика, что кажется прямой линией»? — Я тоже читала Борхеса, так почему бы не покрасоваться?
Около пяти вечера, когда никто из нас еще даже не вспомнил о голоде и жажде, мы наконец обнаружили проход во втором, внутреннем, круге кустов: железную дверь высотой с живую ограду и шириной около восьмидесяти сантиметров. Толкнув ее и переступив через порог, мы заметили еще пару любопытных деталей: во-первых, наши огромные изгороди были не чем иным, как толстыми, прочными каменными стенами толщиной почти в полметра, увитыми вьющимися растениями; а во-вторых, дверь была сделана таким образом, что, как только мы закрыли бы ее за своей спиной, мы уже никак не смогли бы снова открыть ее.
— Если только что-нибудь не подложим, — сказал Босвелл, на которого сегодня снизошло вдохновение.
Поскольку камней вокруг не было, с собой у нас не было ничего лишнего и, в довершение всего, проклятые растения были крепче веревок и кололись, как черти, единственным решением нам представилось заложить в дверь часы Фарага, который сделал это щедрое предложение, говоря, что часы из титана и выдержат давление двери без проблем. Однако, как только мы, хоть и очень аккуратно, прижали их железной створкой, бедный механизм, выдержав несколько секунд, подался под весом двери и разлетелся на тысячи кусков.
— Мне очень жаль, Фараг, — сказала я, пытаясь его утешить. Но на его лице было написано скорее смущение и недоверие к происходящему, чем расстройство.
— Не беспокойтесь, профессор, Ватикан вернет вам их стоимость. Хуже всего, — заключил он, — что теперь дверь закрылась, и открыть ее никак нельзя.
— Ну а разве это не значит, что мы на правильном пути? — с энтузиазмом откликнулась я.
Мы снова зашагали в том же направлении, обратив внимание, что этот второй коридор чуть уже предыдущего. Тьма начала опасно сгущаться.
Быть может, за пределами леса было еще довольно светло, но под этим густым небом из ветвей видимость была очень ограничена.
Мы не прошли и ста метров, как опять наткнулись на символ на тропе, хотя теперь выглядел он гораздо оригинальнее:

Судя по цвету и по фактуре, похоже было, что он сделан из свинца (хотя полной уверенности у нас не было), и разумеется, тот, кто его здесь оставил, позаботился о том, чтобы его нельзя было сдвинуть ни на сантиметр. Он казался частью земли, словно вырастал из нее.
— Вообще-то этот знак мне очень знаком, — заметила я, разглядывая его на корточках. — Это, случайно, не знак Зодиака?
Капитан стоял, не сгибаясь, ожидая, пока два специалиста по классическим древностям выскажут свое мнение.
— Нет. Похож, но не он, — возразил Фараг, сбрасывая ладонью упавшую на знак листву. — Это символ, которым со времен античности обозначали планету Сатурн.
— А какое отношение ко всему этому имеет Сатурн?
— Если бы мы это знали, доктор, то могли бы уже вернуться домой, — проворчал Кремень.
Оскалившись, я тайком скорчила презрительную мину, которую смог увидеть только Фараг — он тихонько усмехнулся. Потом мы встали и пошли дальше. Над нами сгущалась ночь. Иногда слышался крик какой-то птицы и шелест листьев, колеблемых порывом ветра. В довершение всего начало холодать.
— Нам придется тут ночевать? — спросила я, поднимая ворот куртки. Хорошо хоть, она кожаная и на фланелевой подкладке.
— Боюсь, что да, Басилея. Надеюсь, вы, Каспар, предусмотрели такую возможность.
— При чем тут Басилея? — вместо ответа спросил капитан.
У меня вдруг задрожали ноги.
— Это слово часто употреблялось в Византии. Оно означает «достойная женщина».
«Ну и врун!» — подумала я, одновременно облегченно вздыхая про себя. Никак нельзя перевести слово «Басилея», как «достойная женщина», и, уж конечно, это слово не было общеупотребительным в Византии, поскольку буквально оно означает «императрица» или «принцесса».
Было только полседьмого вечера, но капитану пришлось зажечь свой мощный фонарь, потому что нас окружала кромешная тьма. Мы весь день прошагали по этим длинным грунтовым дорожкам, так никуда и не добравшись. Наконец мы сделали привал и рухнули на землю, чтобы перекусить в первый раз после завтрака, съеденного еще в Риме. Пока мы жевали то, что уже можно называть «знаменитыми» бутербродами с колбасой и сыром (от одного испытания к другому капитан меню не менял), мы снова перебрали все собранные в этот день данные и пришли к выводу, что нам не хватает еще многих фрагментов головоломки. Завтра мы уже будем лучше представлять, в чем суть дела. Термос с горячим кофе вернул нам хорошее настроение.
— А что, если нам остаться здесь, поспать, а как только рассветет, мы продолжим путь? — предложила я.
— Пройдем чуть-чуть еще, — не согласился Кремень.
— Каспар, я думаю, надо послушать Оттавию. Сегодня был долгий день.
Хоть и с неудовольствием, но Кремень сдался, так что прямо там мы и разбили импровизированный лагерь. Для начала капитан вручил нам пару хороших шерстяных шапок, при виде которых мы рассмеялись и посмотрели на него как на сумасшедшего. Он, конечно, обиделся.
— Стыдились бы своего невежества! — загремел он. — Вы что, никогда не слышали, что говорят: «Когда мерзнут ноги, надевай шляпу»? Именно через голову происходит большая часть теплопотери в нашем теле. Человеческий организм устроен таким образом, что, когда туловище и спина мерзнут, он жертвует конечностями. Если мы избежим теплопотери через голову, мы поддержим температуру тела, а значит, руки и ноги у нас останутся теплыми.
— Ой, как сложно! Я же простой обитатель пустыни! — хохотнул Фараг, но одновременно со мной нахлобучил шапку до ушей. Шапка, которую капитан дал мне, показалась мне слегка знакомой, но почему, я вспомнила только позже.
Затем Кремень вытянул из волшебного рюкзака нечто похожее на пачки с сигаретами и хотел вручить по одной каждому из нас. Разумеется, мы как можно вежливее отказались от его предложения, но Глаузер-Рёйст, набравшись терпения, объяснил нам, что это что-то вроде походных одеял, нечто наподобие продублированных фольгой кусков полиэтилена, которые ничего не весили, но очень хорошо сохраняли тепло. Мое одеяло оказалось с одной стороны красного цвета, с другой — серебристого, одеяло Фарага было серебристо-желтым, а капитану досталось серебристо-оранжевое. Они и на самом деле оказались очень теплыми, так что благодаря шапкам и одеялам, которые жутко хрустели при малейшем движении, мы почти не заметили, что спим под открытым небом посреди леса. Осторожно прислонившись спиной к увитой растениями стене, я уселась между моими спутниками, и капитан погасил фонарь. Наверное, я потихоньку, сама того не сознавая, сползла в сторону Фарага, но как только я уронила голову ему на плечо, я во сне вспомнила, что надетая на мне шерстяная шапка была на смуглой девушке на той фотографии, которую я видела в гостиной дома у капитана.
Рассвет, если так можно сказать о переходе от черной к темно-серой тьме, начался около пяти утра. Все мы проснулись одновременно, наверняка разбуженные громким пением птиц, звучавшим как настоящая оглушительная хоровая ария. Сквозь сон я смутно вспомнила, что сегодня суббота и что всего неделю назад я была в Палермо с семьей на поминках по моему отцу и брату. Я молча помолилась за них и прежде, чем окончательно открыть глаза, попыталась принять окружавшую меня безумную реальность.
Шатаясь и спотыкаясь, мы встали, выпили немного холодного кофе, собрали вещи и отправились в путь с того места, где остановились вчера. Мы без отдыха шли до девяти или половины десятого утра, насчитав тридцать с лишком символов Сатурна. Потом чуть-чуть отдохнули и зашагали дальше, недоумевая, участвуем мы в испытании на очищение души или в соревнованиях на выносливость. Внезапно в глубине перед нами встала огромная стена, перегораживавшая коридор.
— Внимание! — провозгласил Фараг. — Мы пришли!
Мы ускорили шаг, подгоняемые ужасным желанием достичь последнего отрезка. Но нет, до конца было далеко, потому что, хоть эта заросшая кустарниками стена и закрывала коридор, по которому мы пришли, слева от нас красовалась новая железная дверь, точь-в-точь такая же, как та, сквозь которую мы прошли накануне. Зная, что оставить ее открытой мы не сможем, мы толкнули ее и смиренно пересекли порог, догадываясь, что по ту сторону двери нам откроется очень похожая на уже знакомую нам картина. Если бы этот новый коридор не был еще уже предыдущего, можно было бы поклясться, что мы все в том же месте.
— Такое впечатление, что мы проходим сквозь параллельные линии, разделенные все более узкими расстояниями, — заметил Фараг, вытягивая руки в стороны и убеждаясь, что в этом третьем коридоре кончики его пальцев находились всего в пяди от зарослей растений. Но и растения изменились: трехметровой высоты стены теперь покрывали не скрещивающиеся стебли и листья; теперь в них вплелись целые заросли колючего терновника, ежевики, чертополоха и крапивы, угрожая при малейшем прикосновении оцарапать и ожечь нас.
— Коридоры, бесспорно, уже, — согласился Кремень, глядя на компас, — но я не так уж уверен в том, что мы идем по параллельным прямым линиям. Похоже, что мы повернули почти на семьдесят градусов влево.
— Серьезно? — удивился Фараг, недоверчиво подходя к нему, чтобы взглянуть на показания прибора. — Точно!
— По-моему, это я говорила про «бесконечный круг, центр которого везде, а окружность так велика, что кажется прямой линией», — насмешливо проговорила я, поглаживая пальцами одну из острых колючек, торчащих из живой изгороди. Если бы она не была явно растительного происхождения, я была бы готова поспорить, что это дело лучшего производителя игл всех времен и народов. С шипа слетел черный пушок, от которого моя кожа в считанные секунды покраснела, и я тут же почувствовала жжение, словно дотронулась до горящей спички. — Господи, какие ужасные колючки! Надо держаться от них подальше!
— Дайте-ка взглянуть.
Но пока капитан осматривал мою руку, краснота и жжение понемногу распространялись.
— К счастью, прурит, вызываемый колючками, к которым вы прикоснулись, быстро пройдет, но неизвестно, чего ожидать от других видов растений, которые здесь растут. Будьте осторожны.
Стараясь не касаться колючих веток, острые рапиры которых могли без труда разорвать нашу одежду, мы прошли еще сто — сто пятьдесят метров, пока капитан, шедший на шаг впереди, резко не остановился.
— Еще один странный символ, — сказал он.
Мы с Фарагом нагнулись, чтоб его разглядеть. Это была замысловато выписанная цифра четыре, изготовленная из какого-то нового металла с голубоватыми отблесками:

— Символ планеты Юпитер, — констатировал все более удивленный Босвелл. — Не знаю… Если мы на самом деле идем кругами и в каждом новом проходе появляется новая планета, возможно, все это — просто большое космологическое изображение.
— Может быть, — согласился Кремень, касаясь фигуры рукой, — но этот космологический символ сделан из олова.
— Сатурн был из свинца, — напомнила я.
— Не знаю, не знаю… — хмуро повторил Фараг. — Все это очень странно. Во что нас заставляют играть на этот раз?
Следующую дверь мы нашли пять часов спустя, после того, как прошлись по планете Юпитер по крайней мере раз тридцать.
Прежде чем пересечь порог, мы перекусили, усевшись на земле подальше от колючих зарослей. Следующий коридор или гигантский круг, как посмотреть, был еще чуть уже, а колючие растения стали гуще и опаснее. Здесь находился сделанный из железа символ планеты Марс:

— В общем, похоже, сомнений больше нет, — подытожил капитан.
— Мы идем по Солнечной системе.
— Думаю, мы не должны исходить из современных понятий, — поправил меня Фараг, склонившийся над символом. — Наши теперешние познания о планетах и вселенной не имеют ничего общего со знаниями античности. Если вы обратите внимание, то увидите, что пока порядок был такой: Сатурн-Юпитер-Марс, то есть не хватает трех первых, самых удаленных от Солнца планет, Плутона, Нептуна и Урана, которые были открыты за последние три века. Так что я бы сказал, что мы ходим по изображению вселенной в таком виде, в каком ее представляли со времен классической Греции до Возрождения, то есть в виде сферы с прикрепленными к ней звездами, воплощенной в первом пройденном нами коридоре, семи планет и Земли.
— Такого взгляда на вселенную придерживался и Данте.
— Конечно, капитан. Данте Алигьери, как и все его предшественники и даже многие после него, считал, что вселенная — это девять сфер, размещенных одна внутри другой. Самая внешняя сфера, включающая в себя все остальные, — сфера неподвижных звезд, а самая внутренняя — Земля, где живет человек. Обе эти сферы неподвижны, их положение всегда неизменно. Однако другие сферы, расположенные между ними, находятся во вращательном движении, это сферы семи известных древним планет: Сатурна, Юпитера, Марса, Меркурия, Венеры, Солнца и Луны.
— Девять сфер и семь планет, — подчеркнул Глаузер-Рёйст. — Снова семь и девять.
Я посмотрела на Фарага, не в силах скрыть своего глубокого восхищения. Это самый умный мужчина, которого я когда-либо встречала. Все, что он сказал, каждое слово, было совершенно правильным, что говорило о том, что у него восхитительная память, даже лучше, чем моя. А я никогда не встречала никого, о ком можно было бы сказать нечто подобное.
— То есть следующей будет орбита Меркурия.
— Я в этом уверен, Каспар, но, кроме того, думаю, что с каждым разом мы будем двигаться все быстрее, потому что круги вписаны друг в друга, и их диаметры обязательно должны уменьшаться.
— А дороги сужаться, — добавила я.
— Тогда вперед, — приказал Кремень. — Осталось посетить четыре планеты.
К двери Меркурия мы подошли на закате, когда я раздумывала о том, что Аби-Рудж Иясус, это мертвое тело, лежавшее на носилках Афинского института патологоанатомии, должно быть, был кем-то вроде Колосса, настоящим Гераклом, если он прошел все испытания братства, а вместе с ним и остальные ставрофилахи, включая Данте и отца Бонуомо. Что за вера или фанатизм толкали этих людей на то, чтобы вынести все эти тяготы? И почему, если они так избранны, так мудры, они впоследствии соглашаются на то, чтобы пребывать на непритязательных должностях сторожей, ведя банальную, скрытую от других жизнь?
Ночь мы провели на одном из символов Меркурия, изготовленном на этот раз из какого-то очень блестящего, шлифованного металла с фиолетовым отсветом, который мы не смогли опознать, и спать нам пришлось вповалку на земле, улегшись рядком вдоль коридора, потому что расстояние между колючими стенами коридора уже не позволяло никаких излишеств.
На рассвете следующего дня, воскресенья, снова проснувшись от оглушительного пения птиц, с первыми лучами зари мы продолжили путь, преодолевая боль всех косточек и мышц наших затекших тел.
До пятой планетной орбиты мы добрались, когда солнце было в зените. Капитан объявил нам, что мы повернули больше чем на двести градусов относительно исходной точки пути, так что нам оставалось уже меньше половины оборота, чтобы завершить полный круг. В коридоре Венеры ее символ, выполненный из красновато-бурой меди, повторялся только двадцать два раза. Но большая неожиданность ожидала нас в следующем коридоре, который, как и предыдущий, уже не представлялся нам двумя прямыми, сходящимися там, где терялся взгляд, а являл собой полукружия, заметно изгибавшиеся влево. Так вот, едва переступив порог и войдя в этот круг Солнца, мы с удивлением заметили, что теперь над нашими головами боковые стены, которые стояли уже так близко друг к другу, что самый крупный из нас, капитан Глаузер-Рёйст, мог двигаться вперед, только повернув плечи, соединяла теперь колючая крыша из ежевики и чертополоха. Еще до того, как мы нашли первый из символов, рукава куртки Фарага уже были разорваны, а мне приходилось глядеть во все глаза, чтобы как-нибудь не наткнуться на пару сотен этих ужасных булавок.
Да, первый символ появился почти сразу: простой круг с еще более простой точкой в середине, но из чистого золота, чистейшего золота, которое даже в тесном полумраке коридора поблескивало в том скудном свете, которому удавалось пробиться сквозь заросли. Если бы мы не находились в таком бедственном положении, когда со всех сторон нам грозили длинные шипы, рвущие нам одежду и царапающие кожу, мы бы наверняка остановились полюбоваться таким сокровищем (потому что всего мы насчитали пятнадцать таких символов Солнца), но мы очень торопились выбраться оттуда, добраться до какого-нибудь места, где можно спокойно двигаться, не боясь уколов и вызываемых крапивой ожогов, и, кроме того, над нами сгущалась ночь.
В ту минуту мы испытывали настоящую панику при мысли о том, что нас ждет за дверью седьмой и последней планеты, Луны, но почти невероятная действительность превзошла любое наше предположение, каким бы ужасным оно ни было. С самого начала железная створка двери, словно натыкаясь на какую-то преграду, еле открылась настолько, чтобы дать нам с трудом протиснуться внутрь; но препятствием оказались заросли на стене против двери: проход был теперь так узок, что лишь ребенок мог бы пройти по нему, не оцарапавшись. Колючая изгородь стены и потолка была обрезана так, что в центре оставался проход, напоминавший формой человеческое тело, так что, когда мы шли, наши головы оказывались в окружении двух рядов острых шипов, сходящихся вокруг шеи, и нам ничего не оставалось, как идти вперед этой дорогой. Поскольку Фараг и капитан были выше и шире прорезанного прохода, подходящего мне, как облегающий костюм, я настаивала на том, чтобы отдать им мою куртку и свитер, чтобы они, по возможности, защитились от ужасных царапин, которые их ожидали, а сверху накрыть их, особенно капитана, походными одеялами. Однако Фараг наотрез отказался закутываться.
— Нам всем придется оцарапаться, Басилея! — сердито крикнул он. — Ты что, не понимаешь, что в этом заключается испытание? Это часть плана! Почему ты должна страдать больше нас?
Я пристально посмотрела ему в глаза, пытаясь передать ему всю свою решимость.
— Послушай меня, Фараг: я только оцарапаюсь, а у вас будут очень серьезные раны, если вы не закутаетесь во все, что только найдете!
— Профессор Босвелл, — прервал меня Кремень, — доктор Салина права. Возьмите ее куртку и укройтесь ею.
— И шапки, — вспомнила я, — натяните на лица шапки.
— Нужно их разрезать. Сделать вырезы для глаз.
— Ты тоже защитишь лицо шапкой, Оттавия. Как мне все это не нравится… — пробормотал Босвелл.
— Хорошо, не беспокойся. Я тоже прикроюсь.
Коридор седьмой планеты был жутким кошмаром, хоть капитан и сказал, что символы на земле, похожие на миски серебряные полумесяцы, были самыми красивыми во всем лабиринте. Он мог их разглядеть, потому что шел первым и нес фонарь, но думаю, что даже если бы я смогла наклонить голову, чтобы на них посмотреть — неосуществимая операция, — мне было бы все равно. Помню, что в своем отчаянии я испытывала желание броситься на колючки, чтобы раз и навсегда покончить с этими сотнями невыносимых мелких щипков, острых уколов, порезов, из-за которых по моим рукам, ногам и даже щекам лилась кровь, потому что не было такой шерсти или другой ткани, которые могли бы противостоять атакам этих кинжалов. Помню, что я чувствовала холодок засыхающих ручейков крови, помню, как пыталась успокоиться, думая, что Христос претерпел мучения на Крестном Пути с терновым венцом на голове, помню, как была на грани отчаяния, бесконтрольной истерики. Однако больше, чем все остальное, помню, как липкая от крови рука Фарага ищет мою. И кажется, именно тогда, в эти моменты, когда я никак не могла контролировать себя саму, я поняла, что влюбляюсь в этого странного египтянина, который, казалось, всегда заботился обо мне и втайне от всех называл меня императрицей. Это было невозможно, но то, что я ощущала, было ничем иным, как любовью, хоть я никогда раньше ее не испытывала и сравнивать мне было не с чем. Потому что я никогда не влюблялась, даже в отрочестве, поэтому никогда не понимала смысла этого слова, и у меня не было сентиментальных проблем. Центром моего существования был Бог, и Он всегда хранил меня от этих чувств, которые сводили с ума моих старших сестер и подруг, заставляя их говорить и совершать глупости и нелепые поступки. Но сейчас я, Оттавия Салина, монахиня ордена Блаженной Девы Марии, за спиной которой почти сорок лет жизни, влюбляюсь в этого иностранца с голубыми глазами. И больше я не чувствовала уколов. А если чувствовала, то о них не помню.
Естественно, остаток коридора седьмой планеты стал для меня путем долгой борьбы с самой собой, заранее проигранной борьбы, хотя в тот момент я думала, что еще могу что-то сделать, чтобы помешать происходившему со мной, и на самом деле вот что я решила перед тем, как мы добрались до последней двери этого дьявольского лабиринта из прямых линий: это неизвестное, смущавшее меня чувство, из-за которого быстрее билось мое сердце, а мне хотелось смеяться и плакать, из-за которого я существовала только ради этой руки, еще сжимающей мою руку, есть абсурдное следствие ужасного положения, в котором я нахожусь. Как только окончится эта авантюра со ставрофилахами, я вернусь домой, и все будет как раньше, без порывов и глупостей. Жизнь вернется в свое русло, и я снова окажусь в Гипогее и похороню себя среди кодексов и книг… Похороню себя? Я сказала «похороню себя»? На самом деле идея вернуться без Фарага, без Фарага Босвелла, была невыносимой… Когда я тихонько произносила его имя, так, чтобы он не услышал, на моих губах появлялась детская улыбка. Фараг… Нет, я не могла вернуться к моей прошлой жизни без Фарага, но я не могла вернуться с Фарагом! Я монахиня! Я не могу перестать быть монахиней! Вокруг этой оси вращалась вся моя жизнь, моя работа.
— Дверь! — воскликнул капитан.
Мне хотелось повернуться и взглянуть на профессора, улыбнуться ему и дать знать, что я здесь. Мне нужно было его видеть! Видеть и сказать ему, что мы пришли, хоть он уже и знает об этом, но если бы я повернула голову хоть на сантиметр, скорее всего при этом я осталась бы без носа. И это меня спасло. Эти последние секунды перед выходом из коридора Луны вернули мне благоразумие. Быть может, дело было в том, что мы подходили к концу, а может, в уверенности, что я навсегда погублю себя, если буду и дальше идти на поводу этих сильных эмоций, но здравый смысл взял свое, и мое рациональное «Я», то есть вся я, выиграло эту первую битву. Я с корнем вырвала опасное чувство, задушила его при самом рождении без всякого сожаления и колебаний.
— Открывайте, капитан! — крикнула я, резко выпуская руку, которая всего секунду назад была единственным, что что-то значило в моей жизни. И, когда я ее отпустила, все стерлось, хоть мне и стало больно.
— Оттавия, ты в порядке? — обеспокоенно спросил меня Фараг.
— Не знаю. — Мой голос немного дрожал, но я совладала с ним. — Когда я смогу вздохнуть, не почувствовав уколов, я тебе скажу. Сейчас мне нужно как можно скорей отсюда выйти!
Мы добрались до центра лабиринта, и я возблагодарила Бога за это широкое круглое пространство, где можно было двигаться и вытянуть руки и даже, при желании, бегать.
Капитан положил фонарь на стоявший в центре стол, и мы осмотрелись по сторонам, словно это прекраснейший в мире замок. Не так приятно было смотреть на нас самих: мы были похожи на шахтёров после смены. Но перепачканы мы были не сажей, а кровью. Множество мелких порезов ещё сочились на наших лбах и щеках, когда мы сняли с себя шапки; они покрывали наши шеи и руки, и даже под свитерами и брюками у нас были кровоточащие раны плюс к бесчисленным гематомам и участкам сыпи, вызванной стрекательной жидкостью растений. Кроме того, как если бы этой картины «Се человек» было недостаточно, то тут, то там из нас торчали застрявшие шипы, художественно дополняя весь наш образ.
К счастью, в рюкзаке капитана была небольшая аптечка, так что с помощью ваты и перекиси водорода мы смыли кровь с ран — слава Богу, все они оказались поверхностными, — а потом при свете фонаря хорошенько залили их йодом. Закончив с этими процедурами, немного придя в себя в своём новом положении и успокоившись, мы оглядели место, куда мы попали.
Первым наше внимание привлёк грубый стол, на котором лежал фонарь и который после быстрого осмотра оказался совсем не столом: это была довольно большая старая железная наковальня, испещрённая в верхней части глубокими следами долгой службы в какой-то кузнице. Но любопытнее всего была не наковальня (можно сказать, она имела даже какую-то декоративную ценность), а огромная куча молотков разных размеров, как попало сваленных в угол, словно это ненужный хлам.
Мы стояли молча, не в силах угадать, что мы должны были со всем этим сделать. Если бы тут хотя бы было горнило и какой-нибудь кусок металла, мы бы поняли, но тут была только наковальня и груда молотков, и для начала этого было маловато.
— Предлагаю поужинать и лечь спать, — предложил Фараг, падая на землю и опираясь спиной на мягкое и пружинистое сплетение растений, которое теперь покрывало круглые каменные стены. — Утро вечера мудренее. Я больше не могу.
Не говоря ни слова, но полностью согласившись с ним, мы с капитаном уселись рядом и точно последовали его примеру. Утро вечера мудренее.
У нас уже не было ни холодного кофе в термосе, ни воды во фляге, ни бутербродов с колбасой и сыром в рюкзаке. У нас не было ничего, кроме множества ран, тягостной усталости и треска в суставах. Этой ночью от холода нас не защитили даже походные одеяла, потому что накануне они были разорваны и стали совершенно бесполезными. Так что либо Бог поможет нам выйти отсюда, либо мы присоединимся к многочисленным желающим стать членами братства ставрофилахов — а их наверняка было немало, — погибшим, пытаясь достичь этой цели.
Разум подсказывал мне, что, несмотря на кажущуюся действительность, наше положение не очень изменилось по сравнению с кругом Луны, потому что, если там клетка из растений насильно вынуждала нас идти по проложенному пути, в этом гладком, пустом центре лабиринта, откуда была видна чистая и холодная твердыня неба, нам ничего не оставалось, как решить задачу с молотками и наковальней. Или это, или ничего. Вот так просто.
— Надо размяться, — пробормотал ещё сонный Фараг. — Кстати, доброе утро.
Мне хотелось обернуться и посмотреть на него, но я крепко-накрепко сдержала голову и поборола вдруг накатившее на меня глупое желание заплакать. Я уже начинала себе надоедать.
Глаузер-Рёйст встал и начал делать зарядку, чтобы размять затёкшие мышцы. Я не двинулась с места.
— Неплохо было бы заказать у портье завтрак.
— Я хочу очень горячего кофе-эспрессо с шоколадным кексом! — взмолилась я, воздевая вверх ладони.
— А как насчёт взяться за работу? — прервал нас Кремень, заложив руки за затылок и пытаясь оторвать себе голову.
— Разве что если вы хотите, чтобы мы выковали какую-нибудь статую из железа, из которого сделаны молоты! — пошутила я.
Капитан подошёл к груде молотков и встал перед нею с сосредоточенным видом. Потом он присел на корточки, и я потеряла его из виду, потому что его скрыла наковальня. Фараг привстал, чтобы видеть, что он делает, а потом поднялся и пошёл к нему.
— Что-то обнаружили, Каспар? — спросил он.
Тогда Кремень встал, и я снова увидела половину его корпуса.
— Ничего особенного. Самые обыкновенные молотки, — сказал он, взвешивая их в руке. — Некоторые раньше использовались, некоторые нет. Есть большие, маленькие и средние. Но, похоже, ничего особенного в них нет.
Фараг присел на корточки и тут же встал с ещё одним железным молотом в руке. Он поднял его вверх, покрутил им, подкинул в воздух и ловко поймал.
— Действительно, ничего особенного, — сокрушённо произнёс он и одновременно сделал шаг к наковальне и ударил по ней. Звук разнёсся по лесу, как колокольный звон. Мы оцепенели, а птицы стаями поднялись с верхушек деревьев и с криками улетели. Когда несколько секунд спустя гром утих, никто из нас троих не посмел шевельнуться, мы всё ещё были напуганы происшедшим и стояли, окаменев от страха, как статуи.
— Господи!.. — пробормотала я, нервно моргая и сглатывая слюну.
Кремень хохотнул.
— Хорошо ещё, профессор, что в них нет ничего особенного! Иначе вообще!..
Но Фараг не засмеялся. Он стоял с серьёзным, отсутствующим выражением. Ни слова не говоря, он повернулся, выхватил из рук капитана молоток и прежде, чем мы смогли вмешаться, снова изо всех сил ударил по наковальне. Я закрыла уши руками, когда увидела, как он замахивается с однозначным намерением, но это меня не спасло: удар железа по железу врезался мне в мозг сквозь кости черепа. Я вскочила на ноги и побежала к нему. В тысячу раз лучше поссориться, чем снова такое ощутить. А если ему взбредёт в голову использовать все молотки?
— Что это, интересно знать, ты делаешь? — грубо спросила я поверх наковальни, стоя с ним лицом к лицу. Но он не ответил. На моих глазах он сделал шаг назад, собираясь взять ещё один молот. — Даже не думай! — крикнула я. — Ты что, с ума сошёл?
— Басилея, Басилея! — отозвался он. — Подумай, Басилея! Пифагор!
— Пифагор?..
— Пифагор, Пифагор! Разве это не чудесно?
Мой мозг прокрутил всё случившееся с момента нашего выхода из вертолёта, в то время как на втором плане быстро всплывала вся хранившаяся в нём информация о Пифагоре: лабиринт из прямых линий, знаменитая теорема («квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов» или что-то в этом роде), семь кругов планет, гармония сфер, братство ставрофилахов, тайная секта пифагорейцев… Гармония сфер и наковальня с молотками! Я улыбнулась.
— Догадалась, да?! — улыбнулся Фараг, не сводя с меня глаз. — Ты уже знаешь! Правда?
Я кивнула. Пифагор Самосский, один из величайших греческих философов античности, родившийся в VI веке до нашей эры, создал теорию, согласно которой фундаментальной основой всего являются числа, и они же представляют собой единственный путь к разрешению загадки вселенной. Он основал нечто вроде научно-религиозного сообщества, в котором изучение математики считалось путём духовного совершенствования, и приложил все свои усилия, чтобы привить своим ученикам дедуктивный способ мышления. У его школы были многочисленные последователи, и она послужила начальным звеном целого ряда мудрецов, который через Платона и Вергилия (Вергилия!) протянулся вплоть до эпохи Средневековья. На сегодняшний день именно его исследователи называют отцом средневековой нумерологии, которой так тщательно следовал в «Божественной комедии» Данте Алигьери. И именно он, Пифагор, установил известную классификацию математических наук, которая больше двух тысяч лет служила основой квадривиума наук и в которую входили арифметика, геометрия, астрономия и… музыка. Да, музыка, потому что Пифагор во что бы то ни стало хотел найти математическое объяснение музыкальному ряду, который в то время был для людей величайшей загадкой. Он был уверен, что интервалы между нотами октавы можно представить с помощью чисел, и настойчиво работал над этой темой на протяжении большей части своей жизни. До тех пор, пока в один прекрасный день, как гласит легенда…
— А что, если кто-нибудь из вас объяснит всё это мне? — ворчливо заметил Глаузер-Рёйст.
Фараг обернулся к нему, как человек, только что вышедший из транса, и несколько виновато посмотрел на Кремня.
— Пифагорейцы, — начал он объяснять, — первыми заявили, что космос есть ряд совершенных сфер, описывающих круговые орбиты. Это теория о девяти сферах и семи планетах, на которой строится лабиринт, по которому мы пришли, капитан! Именно Пифагор изложил её первым… — Он на секунду задумался. — Как я раньше не догадался? Понимаете, Пифагор утверждал, что, проходя по своим орбитам, семь планет издают звуки, музыкальные ноты, которые сливаются в то, что он назвал гармонией сфер. Этот звук, эта гармоничная музыка не слышна людям, потому что мы привыкли к ней с нашего рождения. То есть каждая из планет издаёт одну из семи музыкальных нот, от «до» до «си».
— И как это связано с вашими ударами по наковальне?
— Оттавия, может, ты объяснишь?
По какой-то непонятной причине у меня в горле образовался комок. Я смотрела на Фарага и хотела только, чтобы он продолжал говорить, поэтому жестом отказалась от его предложения. Старая Оттавия умерла, с болью подумала я. Куда делась моя страсть к блистанию интеллектом?
— Однажды, — продолжил свои объяснения Фараг, — когда Пифагор прогуливался по улице, он услышал ритмичные удары, которые сильно привлекли его внимание. Они доносились из находившейся неподалёку кузницы, к которой и направился самосский мудрец, привлечённый музыкой ударов молота по наковальне. Он пробыл там долго, наблюдая за тем, как работают кузнецы и как они используют свои инструменты, и обнаружил, что звук меняется в зависимости от размера молота.
— Это очень известная легенда, — сказала я, делая над собой нечеловеческое усилие, чтобы не показать, что что-то происходит, — и похоже даже, что в ней есть доля правды, потому что после этого Пифагор действительно открыл математическое отношение между музыкальными нотами, теми самыми музыкальными нотами, которые издают семь планет, вращающихся вокруг Земли.
Из-за стены выглянуло сверкающее солнце, прямыми лучами освещая этот земной круг, из которого мы хотели выбраться. Глаузер-Рёйст был потрясён.
— И на этой Земле, — с довольным видом подытожил Фараг, — в центре пифагорейской космологии мы теперь и находимся. Вот с чем связаны символы планет, которые попались нам в предыдущих кругах.
— Полагаю, вы уже убедились, что ваша любимая Дантова нумерология происходит прямо от Пифагора, так ведь? — ехидно сказала я капитану.
Кремень взглянул на меня, и я бы сказала, что в его стальных глазах было почтительное уважение.
— Разве, доктор, вы не понимаете, что всё это лишь усиливает моё убеждение в том, что в ходе истории мы утратили очень глубокую и прекрасную мудрость?
— Капитан, Пифагор ошибался, — напомнила я. — Для начала Луна — не планета, а спутник Земли, и, конечно, ни одно небесное тело, проходя по орбите, не издаёт музыкальных нот, да и орбиты их, кстати, не круглые, а эллиптические.
— Вы уверены, доктор?
Фараг внимательно прислушивался к нам.
— Уверена ли я, капитан? Боже мой! Вы что, не помните, чему вас учили в школе?
— Из всех возможных путей, — задумчиво сказал он, — человечество, пожалуй, выбрало самый скучный. Разве вам не хотелось бы верить, что во вселенной есть музыка?
— Ну, если говорить по правде, мне всё равно.
— А мне нет, — заявил он и, повернувшись ко мне спиной, молча направился к молоткам. Как в таком жёстком человеке могла уместиться такая мягкая, впечатлительная натура?
— Не забывай, — тихо сказал мне Фараг, — что романтизм зародился в Германии!
— А это тут при чём? — вспылила я.
— При том, что иногда мнение других людей о ком-то или то, каким человек предстаёт нам извне, не соответствует действительности. Я уже говорил тебе, что Глаузер-Рёйст — человек хороший.
— Я никогда и не говорила, что это не так! — возразила я.
В этот момент раздался жуткий удар молотом. Капитан изо всех сил ударил по наковальне.
— Нам нужно найти гармонию сфер! — во весь голос крикнул он, когда гул начал затихать. — Что вы там время тратите?
— Боюсь, к моменту окончания этой истории голова у нас у всех будет не на месте, — грустно сказала я, глядя на Кремня.
— Надеюсь, что по крайней мере твоя останется там же, Басилея. Она слишком дорога.
Обернувшись, я наткнулась на улыбку в глубине его голубых глаз. О Господи!.. Как Фараг ошибался! Я уже потеряла голову.
— Ну же! — не унимался капитан. — Может быть, вы объясните мне, что Пифагор сделал с этими чёртовыми молотками?
Босвелл повернулся к нему и усмехнулся.
— Он велел, чтоб ему принесли целую кучу молотков, такую, как сейчас лежит перед нами, — рассказал он, — и пробовал их на наковальне, пока не нашёл те, при ударе которыми раздавались ноты музыкального ряда. Ну, на самом деле греки делили ноты на тетраккорды, потому что ноты в нашем понимании — «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си» — происходят от первого слога строф средневекового гимна, посвящённого святому Иоанну, но суть абсолютно та же.
— Я когда-то знала этот гимн, — сказала я. — Но сейчас не помню.
— Что же ещё сделал Пифагор после того, как нашёл молотки? — фыркнул капитан.
— Он установил математическое соотношение между весом тех молотков, которые у него были, и смог просчитать вес недостающих. Он велел их изготовить, и все семь молотков зазвучали как настроенный инструмент.
— Хорошо, и каково же это математическое соотношение?
Мы с Фарагом переглянулись, а потом посмотрели на капитана.
— Без понятия, — заявила я.
— Наверное, математикам и музыкантам оно известно, — начал оправдываться Фараг. — Но мы не математики и не музыканты.
— То есть их надо искать.
— Ну, кажется, да. Я помню только одну вещь, но не уверен, правильно ли это: что молоток, дававший ноту «до», весил ровно вдвое больше того, что давал ноту «до» следующей октавы.
— То есть, — подхватила я, — самое высокое «до» давал молот, весивший в два раза меньше молотка, который давал «до» низкое. Я тоже что-то такое припоминаю.
— Это один из любопытных исторических фактов, который похож на легенду и всегда запоминается.
— Всегда более-менее запоминается, — быстро возразила я, — потому что, если бы мы не попали в эту ситуацию, я никогда в жизни не извлекла бы её из памяти.
— Как бы там ни было, суть в том, что мы здесь уже три дня, и если мы хотим снова увидеть мир, нам нужно воспользоваться гармонией сфер.
От одной мысли о том, что нам нужно будет беспрестанно бить молотками, пока мы не найдём семь подходящих, мне становилось плохо. Ведь мне так нравилась тишина!
Я предложила разобрать молотки на кучки в зависимости от их приблизительного веса, чтобы быстрее их рассортировать, но на это у нас ушло больше времени, чем мы предполагали, потому что в большинстве случаев разницу между молотком, весившим, к примеру, килограмм, и молотком, весившим килограмм и двести пятьдесят граммов или полтора килограмма, уловить было нелегко. По крайней мере было светло, потому что солнце продолжало свой путь к зениту, но у нас не было ни пищи, ни воды, так что я в любой момент опасалась гипогликемии.
Спустя пару часов стало ясно, что легче уложить молотки длинным рядом (на самом деле спиралью, потому что разгуляться здесь было негде), начиная с самого большого и заканчивая самым маленьким, и разложить все остальные по размеру. Наконец нам это удалось, но к этому времени мы уже взмокли от усилий и жаждали воды не меньше, чем пески пустыни. С этого момента работа пошла гораздо легче. Мы взяли самый большой молот и легко ударили по наковальне; потом, начиная с него, выбрали восьмой молоток по порядку и тоже ударили им. Поскольку мы были не совсем уверены, что нота вышла та же самая, мы попробовали ещё седьмой и девятый молотки, но в результате только больше запутались, так что после долгих споров и взвешивания молотков мы решили, что и на самом деле ошиблись и нужно заменить восьмой на девятый. После этой поправки в раскладе ноты зазвучали лучше.
К сожалению, молоток, который теоретически должен был дать ноту «ре», второй в нашей спирали, дал вовсе не похожий на неё звук (все могут пропеть нотный ряд, но ни одному из нас не показалось, что наши «до» и «ре» были похожи на распевку). Однако во второй октаве после полученного в результате замены молотка «до» второй молоток всё-таки звучал как «ре» по отношению к соответствующему «до», так что мы чуть продвинулись вперёд, так же, как день, незаметно проходивший мимо нас. Но даже во второй октаве не было «ми», или по крайней мере так нам показалось после того, как мы перепробовали все её молотки, так что нам пришлось искать третье «до», а потом его «ре» и «ми», которое, ради разнообразия, находилось не на месте, а на пару позиций ниже.
Затея была совершенно безумной, нам никак не удавалось найти полную октаву, может, потому, что мы неправильно разложили молотки, а может, потому, что нужных молотков просто не было, так что от сочетания отчаяния, грохота ударов молотков по наковальне, голода и жажды у меня начался один из обычных приступов головной боли, которая со временем только нарастала. Несмотря на это, уже в начале вечера нам показалось, что октава сложилась. Безусловно, почти все ноты звучали неплохо, но я была не совсем уверена в том, что они верны, то есть они казались не совсем точными, словно нескольких граммов железа в молотке недоставало или они были лишними. Тем не менее Фараг с капитаном были уверены, что мы выполнили задачу.
— Ну а почему ничего не происходит? — спросила я.
— А что должно произойти? — вместо ответа спросил Глаузер-Рёйст.
— Ну, нам вообще-то надо отсюда выйти, капитан, вы не забыли?
— Значит, сядем и будем ждать. Кто-нибудь нас выведет.
— Почему я никак не могу вас убедить, что ваш музыкальный ряд не совсем правилен?
— Он правилен, Басилея. Это ты упираешься и говоришь, что это не так.
Злясь на свою головную боль и на его упрямство, я уселась на землю, опершись спиной о наковальню, и обиженно замолчала, хотя они решили не обращать на меня никакого внимания. Но минуты шли, потом прошло полчаса, и на их лицах появились сомнения в собственной правоте: может быть, всё-таки права была я. Я сидела с закрытыми глазами, мерно дышала и раздумывала, всё более осознавая, что эта передышка идёт нам на пользу. Когда целый день слушаешь гул, который к тому же пытается походить на музыкальные ноты, наступает момент, когда ты уже ничего не слышишь. Так что, если Фараг с капитаном снова прослушают свой замечательный нотный ряд после того, как тишина как следует прочистит нам уши, может быть, они будут более склонны изменить своё мнение.
— Попробуйте ещё раз, — не вставая, подзадорила их я.
Фараг не сделал даже попытки сдвинуться с места, но неутомимый даже в деле противоречия самому себе капитан снова приступил к делу. Он проиграл все семь нот, и лёгкая погрешность в ноте «фа» этой октавы прозвучала теперь гораздо более заметно.
— Профессор, доктор была права, — неохотно признал Кремень.
— Я уже заметил, — ответил Фараг, пожимая плечами и улыбаясь.
Капитан снова обошёл всю спираль, пока не нашёл молотки, шедшие непосредственно перед и после неправильного «фа». Снова вышло неверно, и он снова пробовал и пробовал, пока наконец не наткнулся на подходящий молот, который издавал правильную ноту.
— Проиграй весь ряд снова, Каспар, — попросил Фараг.
Глаузер-Рёйст ударил по наковальне семью окончательно выбранными молотками. Уже смеркалось. Небо светилось тёплым золотистым светом, и, когда вновь воцарилась тишина, весь лес погрузился в гармонию и покой. Но гармония и покой были столь велики, что я заметила, что засыпаю. По правде говоря, я сразу поняла, что это не обычный сон, я так никогда не засыпала, это я знала по овладевшему моим телом могучему изнеможению, медленно погрузившему меня в тёмный колодец крепкого сна. Я открыла глаза и увидела Фарага со стекленеющим взглядом и опершегося на наковальню напряжёнными, как канаты, руками капитана, пытавшегося удержаться на ногах. В воздухе витал слабый запах смолы. Мои веки снова закрылись с лёгкой дрожью, словно что-то заставило их опуститься против воли. Мне сразу начался сниться сон. Мне снился мой прадедушка Джузеппе, который руководил строительными работами на вилле «Салина», и это меня встревожило. Моё ещё не полностью сдавшееся рациональное «Я» говорило мне, что это нереально. С величайшим усилием я снова приоткрыла глаза и сквозь тонкое облако беловатого дыма, сочившегося в круг из нижней части стены и поднимавшегося от земли, увидела, как Глаузер-Рёйст валится на колени, неразборчиво что-то бормоча. Он хватался за наковальню, чтобы не утратить равновесия, и тряс головой, стараясь отогнать сон.
— Оттавия…
Зовущий меня голос Фарага взбодрил меня так, что у меня хватило сил протянуть ему руку, хотя ответить ему я не смогла. Кончики моих пальцев коснулись его руки, и его рука тут же нашла мою. Снова соединившись, как в лабиринте, наши руки остались моим последним ясным воспоминанием.
А моим первым ясным воспоминанием стал сильный холод и яркий белый свет, бьющий мне прямо в глаза. Будто от меня осталась только самая моя сущность без настоящей личности, без прошлого, без воспоминаний, даже без имени, так постепенно вернулась я к жизни, плавая в пузыре, всплывавшем в масляном море. Я сморщила лоб и заметила, как скованы мои лицевые мышцы. Во рту у меня пересохло так, что я не могла оторвать язык от нёба и приоткрыть челюсти.
Окончательно меня привёл в себя шум мотора проезжавшей рядом машины и неприятное ощущение холода. Я открыла глаза и, ещё не обретя сознание и не ощутив, кто я, заметила перед собой фасад церкви, освещённую фонарями улицу и небольшой кусочек зелени лужайки, кончавшейся у меня под ногами. Лившийся на меня белый свет происходил как раз от высокого уличного фонаря, стоявшего на тротуаре. Это одинаково легко мог быть Нью-Йорк или Мельбурн, а я могла быть Оттавией Салиной или Марией Антуанеттой, королевой Франции. И тут я вспомнила. Я глубоко вздохнула, чтобы наполнить воздухом лёгкие, и вместе с воздухом вернулись лабиринт, сферы, молотки и Фараг!
Я подпрыгнула на месте и поискала его глазами. Он был тут же, слева от меня, и крепко спал между также спавшим капитаном и мной. По улице проехала ещё одна машина с зажжёнными фарами. Водитель не обратил на нас внимания, а если и обратил, то, наверное, подумал, что мы — трое бродяг, ночующих на парковой скамейке. Трава была мокрой от росы. Я подумала, что пора разбудить спящих красавцев и быстро разузнать, где мы и что произошло. Я положила руку на плечо Фарагу и легонько потрясла его. При этом такая же боль, как в момент пробуждения в Великой клоаке в Риме, пронзила моё левое предплечье. Мне не пришлось закатывать рукав, чтобы догадаться, что там находится повязка, покрывающая новый шрам в форме креста. Таким своеобразным образом ставрофилахи отмечали, что мы успешно прошли второе испытание, испытание греха зависти.
Фараг открыл глаза, взглянул на меня и улыбнулся.
— Оттавия!.. — прошептал он и провёл пересохшим языком по губам.
— Просыпайся, Фараг. Мы уже не в круге.
— Мы вышли из?.. Ничего не помню! А, да! Молоты и наковальня.
Он полусонно оглянулся вокруг и провёл ладонями по впалым щекам.
— Где мы?
— Не знаю, — сказала я, не снимая руку с его плеча. — По-моему, в каком-то парке. Надо разбудить капитана.
Фараг попытался встать, но не смог. На его лице было написано удивление.
— Нас сильно стукнули?
— Нет, Фараг, нас не били. Нас усыпили. Я помню белый дым.
— Белый дым?..
— Нас окурили чем-то, что пахло смолой.
— Смолой? Честное слово, Оттавия, с того момента, как Каспар ударил по наковальне семью молотками, я абсолютно ничего не помню.
Он на минуту задумался, а потом снова улыбнулся, поднося руку к левому предплечью.
— Ого, нас пометили! — У него был довольный вид.
— Да. Но теперь, пожалуйста, разбуди Кремня.
— Кремня? — удивился он.
— Капитана! Разбуди капитана!
— Ты зовёшь его Кремнем? — весело спросил он.
— Не вздумай ему об этом говорить!
— Не бойся, Басилея, — пообещал он, давясь смехом. — От меня он об этом не узнает.
Бедному Глаузер-Рёйсту крепко досталось. Нам пришлось резко потрясти его и дать ему пару пощёчин, чтобы он начал приходить в себя. Нам было нелегко вернуть его к жизни, и мы были благодарны, что в этот момент мимо не проходил никакой полицейский патруль, потому что нас точно упекли бы в тюрьму.
Когда Кремень пришёл в себя, машин на улице стало больше, хотя было только пять утра. Нам очень повезло, что на тротуаре неподалёку от нас стоял указатель, говоривший о близости мавзолея Галлы Плачидии. Так мы узнали, что мы в Равенне, в самом центре города. Глаузер-Рёйст позвонил по своему сотовому телефону и долго с кем-то говорил. Мы с Фарагом терпеливо ожидали конца беседы. Закончив, он повернулся и странно на нас взглянул.
— Хотите посмеяться? — спросил он. — Кажется, мы находимся в парке Национального музея, совсем недалеко от мавзолея Галлы Плачидии и базилики Святого Виталия, между церковью Санта-Мария-Маджоре и той, которая стоит перед нами.
— И что в этом смешного? — спросила я.
— То, что церковь, находящаяся перед нами, называется церковью Святого Креста.
Ну что ж, мы уже привыкли к такого рода деталям. А то ли ещё будет, подумала я.
Пока все мы пытались, каждый на свой лад, прийти в себя, время тянулось медленно. Я шагала из стороны в сторону, понурив голову и разглядывая траву.
— Кстати, Каспар, — воскликнул вдруг Фараг, — посмотрите-ка в карманах, может, нам оставили подсказку для следующего уступа Чистилища.
Капитан сунул руки в карманы и в правом кармане брюк, как и в предыдущий раз, нашёл сложенный лист толстой неровной бумаги кустарного изготовления.
έρώτησον τὸν ἔχοντα τάς κλέΐδας ό άνοίγων καὶ κλείσει, καὶ κλείων καὶ ούδεὶς άνοίγει.
— «Спроси имеющего ключи: того, кто открывает, и никто не закрывает, и закрывает, и никто не открывает», — перевела я. — Чего они хотят от нас в Иерусалиме? — Я была в растерянности.
— Я бы об этом не беспокоился, Басилея. Эти люди прекрасно осведомлены обо всех наших шагах. Они как-то дадут нам знать.
По улице к нам быстро приближалась машина с зажжёнными фарами.
— Пока нам нужно отсюда выбраться, — пробормотал Кремень, приглаживая рукой волосы. Бедняга был ещё немного сонный.
Машина, маленький «фиат» светло-серого цвета, остановилась перед нами, и окошко водителя опустилось.
— Капитан Глаузер-Рёйст? — спросил молодой священник с воротником-брыжами.
— Это я.
Судя по всему, священника разбудили без особых церемоний.
— Я из архиепископства. Меня зовут отец Яннуччи. Мне нужно отвезти вас на аэродром Ла Спрета. Садитесь, пожалуйста.
Он вышел из машины и любезно отворил нам дверцы.
Через несколько минут мы были на аэродроме. Он был крохотным и не имел ничего общего с огромными римскими аэропортами. Рядом с ним даже аэропорт в Палермо казался гигантом. Отец Яннуччи оставил нас у входа и испарился так же вежливо, как появился.
Глаузер-Рёйст расспросил одинокую служащую аэродрома, и девушка с ещё опухшими от сна глазами указала нам находящуюся в отдалении, рядом с аэроклубом имени Франческо Барраки, зону, где стояли частные самолёты. Снова вооружившись сотовым, Глаузер-Рёйст позвонил пилоту, и тот сообщил ему, что «Вествинд» готов ко взлёту, как только мы поднимемся на борт. Сам пилот с помощью телефона указывал нам дорогу, пока мы не нашли самолёт, стоявший недалеко от авиеток аэроклуба, с включенными моторами и огнями. По сравнению с находившимися рядом букашками он казался громадным «Конкордом», хотя на самом деле это был небольшой самолёт с пятью окошками, естественно, белого цвета. У подножия лестницы нас ждали молодая стюардесса и пара пилотов «Алиталии», которые, поприветствовав нас с профессиональной сдержанностью, пригласили нас подняться на борт.
— А этот самолёт точно долетит до Иерусалима? — с опаской тихонько спросила я.
— Мы летим не в Иерусалим, доктор, — провозгласил Кремень во весь голос, поднимаясь по ступенькам. — Мы приземлимся в аэропорту Тель-Авива, а оттуда полетим в Иерусалим на вертолёте.
— Но, — не унималась я, — как вы думаете, этот самолётик сможет пересечь Средиземное море?
— У нас преимущественное право взлёта, — сказал в этот момент капитану один из пилотов. — Мы можем отправляться, когда вы скажете.
— Вперёд, — лаконично скомандовал Глаузер-Рёйст.
Стюардесса указала нам наши кресла и показала, где находятся спасательные жилеты и аварийные выходы. Салон был очень узким и с низким потолком, но пространство было использовано очень рационально, так как по бокам находились два длинных дивана, а в конце салона лицом друг к дружке стояли четыре кресла, обитых белоснежной кожей.
Через несколько минут самолёт мягко взлетел, и солнце, ещё не взошедшее над Италией, затопило своим светом весь салон. «Иерусалим! — с восторгом подумала я. — Я лечу в Иерусалим, в места, где жил, проповедовал и умер, чтобы воскреснуть на третий день, Иисус!» Именно это путешествие мне всю жизнь хотелось совершить, чудесная мечта, которую я из-за работы так и не смогла осуществить. А теперь неожиданно сама работа ведёт меня туда. Внутри меня нарастало волнение, и, закрыв глаза, я отдалась на волю постепенного возрождения моего твёрдого религиозного призвания, от которого я никак не могу отказаться. Как могла я позволить, чтобы какие-то иррациональные чувства предали самое святое в моей жизни? В Иерусалиме я попрошу прощения за это временное глупое безумие, и там, в самых святых местах на свете, я окончательно освобожусь от несуразных страстей. Но, кроме того, в Иерусалиме меня ждало другое очень важное дело: мой брат Пьерантонио, который и представить себе не может, что я в хрупком самолётике лечу сейчас к его владениям. Как только я ступлю на землю, если, конечно, я на неё вообще ступлю, я позвоню ему, чтобы сказать, что я в Иерусалиме и чтобы он отменял все свои дела на сегодняшний день, потому что всё своё время он должен посвятить мне. Ну и сюрприз я устрою почтенному кустоду!
Мы долетели до Тель-Авива чуть меньше чем за шесть часов, на протяжении которых любезнейшая стюардесса приложила столько усилий, чтобы наш полёт был приятным, что, когда мы снова видели её в проходе, мы прыскали от смеха. Приблизительно каждые пять минут она предлагала нам еду и питьё, музыку, видеофильмы, газеты и журналы. В конце концов Глаузер-Рёйст резко отослал её, и мы смогли спокойно заснуть. Иерусалим, прекрасный и святой Иерусалим! Ещё до конца дня я ступлю на твои улицы.
Незадолго до приземления Кремень вытащил из рюкзака свой потрёпанный экземпляр «Божественной комедии».
— Вам не любопытно узнать, что нас ждёт?
— Я уже знаю, — сказал Фараг. — Непроницаемая дымовая завеса.
— Дым! — удивлённо вырвалось у меня, и я широко открыла глаза.
Капитан быстро перелистнул несколько страниц. В окошки лился яркий свет.
— Песнь шестнадцатая «Чистилища», — провозгласил он. — Стихи от первого и далее:
Во мраке Ада и в ночи, лишённой
Своих планет и слоем облаков
Под небом скудным плотно затемнённой,
Мне взоров не давил такой покров,
Как этот дым, который всё сгущался,
Причём и ворс нещадно был суров.
Глаз, не стерпев, невольно закрывался;
И спутник мой придвинулся слегка,
Чтоб я рукой его плеча касался.
— Где нас на этот раз запрут? — спросила я. — Это должно быть место, куда они смогут напустить густого дыма.
— Естественно, когда мы будем внутри, — уточнил Фараг.
— Разумеется, — согласилась я. — Капитан, а что происходит на третьем уступе? Как они оттуда выходят?
— Идут и выходят, — ответил он. — Больше ничего не происходит.
— Ничего не происходит? В них ничего не вонзают, они не падают по каменному склону, не?..
— Да, доктор, ничего не происходит. Они просто идут по уступу, встречаются с душами гневных, которые вслепую проходят круг, окружённые дымом, говорят с ними, а потом поднимаются на следующий уступ после того, как ангел стирает со лба Данте очередную букву «Ρ».
— И всё?
— Всё. Так ведь, профессор?
Фараг кивнул.
— Но тут есть кое-что любопытное, — добавил он с лёгким арабским акцентом. — К примеру, это самый короткий круг «Чистилища», и длится он всего полторы песни: песнь шестнадцатую, как сказал капитан, которая тянется всего несколько страниц, и коротенький кусочек семнадцатой песни. — Он вздохнул и закинул ногу на ногу. — И это ещё один любопытный момент: против своего обыкновения Данте не заканчивает круг вместе с песней. Уступ гневных начинается, как сказал капитан, в шестнадцатой песне, а тянется до… докуда, Каспар?
— До семьдесят девятого стиха семнадцатой песни. Опять семь и девять.
— И в семьдесят девятом стихе, на удивление, ни с того ни с сего начинается четвёртый круг Чистилища, круг ленивых. То есть и четвёртый уступ не совпадает с началом следующей песни. По какой-то непонятной причине флорентиец сливает конец одного круга с началом следующего в одной главе, такого он раньше нигде не делал.
— И это что-то значит?
— Откуда нам знать, Оттавия? Но не бойся, у тебя наверняка будет шанс самой всё узнать.
— Спасибо.
— Не за что, Басилея.
Мы приземлились в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве около двенадцати утра. Машина компании «Эль-Аль» довезла нас до расположенного поблизости гелипорта, где мы сели в израильский военный вертолёт, который доставил нас в Иерусалим за каких-нибудь двадцать минут. Как только мы ступили на землю, официальный автомобиль с затемнёнными стёклами быстро повёз нас к апостольскому представительству.
То немногое, что я смогла разглядеть по дороге, меня разочаровало: Иерусалим с его проспектами, машинами и современными зданиями был похож на любой другой город в мире, Вдалеке чуть виднелись целящиеся в небо мусульманские минареты. Среди самых обычных людей, однако, выделялись правоверные иудеи в чёрных шляпах и с закрученными пейсами и десятки арабов в кафии[33], завязанной акалем[34]. Наверное, Фараг заметил написанное на моём лице разочарование, потому что он попытался меня утешить:
— Не расстраивайся, Басилея. Это современный Иерусалим. Старый город тебе понравится больше.
Вопреки моим ожиданиям я не замечала никакого очевидного свидетельства пребывания Бога на земле. Я мечтала когда-нибудь побывать в Иерусалиме и всегда была уверена в том, что в тот самый момент, когда моя нога ступит на эту столь особую землю, я сразу почувствую несомненное присутствие Бога. Но это было не так, по крайней мере пока. Единственным, что действительно привлекло моё внимание, была пёстрая смесь строений восточной и западной архитектуры и что все дорожные указатели были на иврите, арабском и английском языке. Моё любопытство также вызвало большое количество израильских военных, которые ходили во улицам вооружёнными до зубов. Тогда я вспомнила, что Иерусалим — город хронической войны, и об этом не следует забывать. Ставрофилахи опять угадали с распределением грехов: Иерусалим и дальше был переполнен гневом, кровью, местью и смертью. Иисус вполне мог бы выбрать другой город для принятия смерти, а Магомет — для восхождения на небо. Они бы спасли множество человеческих жизней, и многие души не познали бы гнева.
Однако наибольший сюрприз ожидал меня в апостольском представительстве, громадном здании, которое, кроме как размером, ничем не отличалось от своих ближайших соседей. В дверях нас встретили несколько священников разных национальностей и возрастов во главе с самим апостольским нунцием монсеньором Пьетро Самби, который провёл нас сквозь многочисленные покои в элегантный современный зал совещаний, где среди прочих выдающихся особ находился мой брат Пьерантонио!
— Крошка Оттавия! — воскликнул он, стоило мне следом за капитаном и монсеньором пересечь порог.
Мой брат бросился ко мне, и мы сжали друг друга в долгом трогательном объятии. Из немалой толпы остальных присутствующих послышался весёлый говор.
— Как ты, а? — спросил он наконец, отстраняя меня и осматривая с ног до головы. — Ну, то есть если не считать, что ты ранена и давно не мылась.
— Устала, — ответила я на грани слёз, — очень устала, Пьерантонио. Но очень рада тебя видеть.
Мой брат, как всегда, выглядел превосходно и внушительно смотрелся даже в простом облачении францисканца. Я нечасто видела его в таком виде, потому что, приезжая домой, он носил мирскую одежду.
— Ты стала настоящей знаменитостью, сестричка! Смотри, сколько важных особ собралось тут, чтобы с тобой познакомиться.
Монсеньор Самби представлял присутствующим Глаузер-Рёйста с Фарагом, так что мой брат воздал почести мне: архиепископ Багдадский и вице-президент Латинской епископской конференции Поль Дахдах; Патриарх Иерусалимский и президент Ассамблеи католиков Святой Земли, Его Святейшество Мишель Саббах; архиепископ Хайфы, греко-мелькит Бутрос Муаллем, вице-президент Ассамблеи католиков; православный Патриарх Иерусалимский Диодор I; Патриарх Армянской православной церкви Торком II; экзарх Греко-мелькитской церкви Жорж Эль-Мурр… Настоящая плеяда влиятельнейших патриархов и епископов Святой Земли. Моя растерянность нарастала с каждым новым именем. Разве наша миссия уже не была столь секретной, как в начале? Разве его высокопреосвященство кардинал Содано не сказал нам, что мы должны хранить наши действия и всё происходящее в полнейшей тайне?
Фараг подошёл к Пьерантонио и радушно поздоровался с ним, но Глаузер-Рёйст держался на некоторой дистанции, что не ускользнуло от моего внимания. У меня уже не было ни малейшего сомнения в том, что между моим братом и Кремнем по какой-то неизвестной причине существовала глубокая неприязнь. Однако на протяжении последовавшего за приветствиями разговора я также заметила, что многие из присутствующих обращаются к Кремню с некоторой боязнью, а некоторые даже с заметным презрением. Я дала себе слово, что до нашего отъезда из Иерусалима эта загадка будет разрешена.
Встреча была долгой и нудной. Патриархи и епископы Святой Земли один за другим выразили свою сильную озабоченность похищениями Честного Креста. По их словам, первыми кражам подверглись самые мелкие христианские церкви, и это при том, что часто в их реликвариях хранилась лишь крохотная щепочка или немного опилок. Я с удивлением подумала о том что история, начавшаяся с непонятной аварии на затерянной греческой горе, превратилась в международное происшествие небывалых масштабов, как снежный ком, который непрерывно рос до тех пор, пока не подавил всё христианское сообщество. Все присутствующие были крайне озабочены последствиями, которые происходящее могло иметь для общественного мнения, если скандал просочится в прессу, а я задавалась вопросом, до каких пор можно хранить молчание, если столько важных особ уже знают об этом деле. На самом деле единственной причиной этой встречи было вызванное любопытством желание патриархов, епископов и их уполномоченных познакомиться с нами, потому что из всего сказанного ни мне, ни Фарагу, ни капитану не удалось извлечь ни капли полезной информации. Разве что сознание, что мы могли рассчитывать на помощь всех этих церквей во всём необходимом. Так что я воспользовалась случаем.
— Со всем должным уважением, — заявила я по-английски, используя те же вежливые выражения, которые употребляли они, — кто-нибудь из вас слышал о неком «хранителе ключей» здесь, в Иерусалиме?
Они растерянно переглянулись.
— Простите, сестра Салина, — ответил мне монсеньор Самби. — Боюсь, мы не поняли вопроса.
— Нам необходимо найти в этом городе, — нетерпеливо перебил его Глаузер-Рёйст, — человека, у которого есть ключи, и когда он что-то открывает, никто этого не может закрыть, и наоборот.
Они снова переглянулись с таким видом, словно не имели ни малейшего понятия, о чём мы говорим.
— Но, Оттавия! — добродушно упрекнул меня брат, не обращая внимания на Кремня. — Ты хоть знаешь, сколько важных ключей на Святой Земле? В каждой церкви, базилике, мечети и синагоге есть собственная историческая коллекция ключей! То, что ты говоришь, в Иерусалиме лишено всякого смысла. Прости, но это просто смешно.
— Постарайся отнестись к этому посерьёзнее, Пьерантонио! — На мгновение я забыла, где мы находимся, забыла, что я обращаюсь к высокопоставленному кустоду Святой Земли посреди экуменического собрания прелатов, иные из которых считались равными по достоинству Папе Римскому, и видела только своего старшего брата, который насмехается над вещами, из-за которых я чуть трижды не распрощалась с жизнью. — Понимаешь, нам очень важно найти «имеющего ключи»! Дело не в том, много или мало ключей в Иерусалиме. Дело в том, что в этом городе есть кто-то с нужными нам ключами.
— Понятно, сестра Салина, — ответил мне он, и я окаменела, впервые в жизни увидев на властном королевском лице Пьерантонио уважение и понимание. Неужели «крошка Оттавия» вдруг стала важнее кустода? О Господи, вот так новость! У меня есть власть над братом!
— Ну что ж… В общем… — Монсеньор Самби не знал, как покончить с этим неслыханным семейным спором в лоне столь важного собрания. — Думаю, всем нам, здесь присутствующим, необходимо взять на заметку сказанное капитаном Глаузер-Рёйстом и сестрой Салина и принять меры по началу поисков этого носителя ключей.
Все выразили согласие, и конклав завершился дружеским обедом, который представительство сервировало в роскошной столовой здания. Как мне сказали, именно тут недавно во время своего приезда на Святую Землю несколько раз обедал Папа. Я не смогла сдержать ироничную улыбку при мысли о том, что мы уже три дня не мылись, и, должно быть, от нас дурно пахло.
Когда, завершив послеобеденную беседу, мы поднялись в отведённые нам комнаты, я обнаружила, что две венгерские монахини уже разобрали мой чемодан, и мои вещи в идеальном порядке лежали в шкафу, в ванной и на рабочем столе. Я подумала, что зря они так беспокоились, потому что на следующий день, скорее всего рано утром (или в любое другое неподходящее время), мы уже будем лететь в Афины с новыми синяками, ранами и шрамами на теле. И с мыслью о шрамах я отправилась в ванную, сняла одежду выше пояса и аккуратно размотала две повязки, закрывавшие внутреннюю поверхность моих предплечий. Отметины были там, всё ещё покрасневшие и воспалённые, хотя римская выглядела уже намного лучше равеннской, нанесённой всего несколько часов назад; два красивых креста, которые будут сопровождать меня до конца жизни, хочу я этого или нет. На обоих глубоко под кожей были зеленоватые линии, словно туда впрыснули какую-то травяную настойку. Я решила, что расстраиваться нечего, так что окончательно разделась, приняла душ, который показался мне райским наслаждением, и, вытершись, смазала раны тем, что нашла в спрятанном за дверью аптечном шкафчике, и забинтовала себе руки. К счастью, с длинными рукавами это убожество было незаметно.
В начале вечера, дав нам на отдых всего несколько часов, мой брат Пьерантонио предложил нам пройтись в Старый город, в древний Иерусалим, и немного прогуляться по туристическому маршруту. Нунций выразил некоторую озабоченность нашей безопасностью, поскольку всего несколько дней назад между палестинцами и израильтянами состоялись самые жестокие с начала интифады столкновения. Погружённые в наши собственные проблемы, мы об этом не знали, но, судя по всему, в этих столкновениях были по крайней мере десяток убитых и более четырёхсот раненых. Правительство Израиля было вынуждено передать под контроль палестинских властей три района Иерусалима: Абу-Дис, Эль-Азарию и Савахрэ, в надежде вновь открыть путь к переговорам и покончить с беспорядками на автономных территориях. Так что ситуация была напряжённой, и в городе опасались новых терактов. Поэтому, а также принимая во внимание занимаемую Пьерантонио должность, нунций настоял на том, чтобы для того, чтобы добраться до Старого города, мы воспользовались неброским автомобилем представительства. Он также дал нам лучшего экскурсовода: отца Мёрфи Кларка из Библейской школы Иерусалима, крупного и толстого, как бочка, человека с прекрасной подстриженной белой бородой, который был одним из лучших в мире специалистов по библейской археологии. Мы оставили автомобиль, стёкла которого тоже были затемнены, поблизости от Стены Плача и оттуда пешком совершили путешествие во времени и вернулись назад на две тысячи лет.
Я хотела увидеть абсолютно всё, и глаз у меня не хватало на то, чтобы одновременно вобрать в себя невероятную прелесть этих вымощенных камнем улочек с магазинчиками, где продавали футболки и сувениры, и странных жителей города, одетых по обычаям трёх существовавших здесь культур. Но самое большое впечатление на меня произвело прохождение Крестного Пути, дороги, по которой прошёл к Голгофе Иисус Христос с крестом на плечах и впивающимся в кожу терновым венцом на лбу. Как описать словами это чувство? Таких слов просто нет. Пьерантонио, читавший мои эмоции, как открытую книгу, отстал и пошёл рядом со мной, пропустив вперёд капитана, отца Кларка и Фарага. Было ясно, что думает мой брат совсем не о том, чтобы прочесть со мной молитву Крестного Пути. На самом деле он хотел вытащить из меня побольше информации о выполняемой нами миссии.
— Но послушай, Пьерантонио, — возмутилась я, — ты ведь уже всё знаешь! Почему ты пристаёшь ко мне с вопросами?
— Потому что ты ничего не рассказываешь! Из тебя всё нужно тисками вытягивать!
— Ну что ты хочешь из меня вытащить, интересно знать! Больше ничего нет!
— Расскажи мне про испытания.
Я вздохнула и подняла глаза к небу в мольбе о помощи.
— Это не совсем испытания, Пьерантонио. Мы проходим что-то вроде Чистилища, которое должно очистить наши души, чтобы мы были достойны прийти к Земному Раю ставрофилахов. Вот наша единственная цель. Как только мы найдём Истинный Крест, мы позвоним в полицию, и они возьмут на себя всё остальное.
— Ну а что с Данте? Господи, это невероятно. Ну же, расскажи мне!
Я резко остановилась посреди группы американцев, совершавших одно из стояний Крестного Пути, и обернулась к нему.
— Давай договоримся, — серьёзно заявила я. — Ты рассказываешь мне про Глаузер-Рёйста, а я тебе выдаю все подробности нашей истории.
Лицо брата исказилось. Я готова поклясться, что видела, как в его святых глазах блеснула молния ненависти. Он покачал головой.
— В Палермо ты сказал, — не унималась я, — что Глаузер-Рёйст — самый опасный человек в Ватикане, и, если мне не изменяет память, спросил, как это я работаю с тем, кого боятся небо и земля и кто является чёрной рукой Церкви.
Пьерантонио снова зашагал вперёд, оставляя меня позади.
— Если хочешь, чтобы я рассказала тебе историю Данте Алигьери и ставрофилахов, — догнав, продолжала соблазнять его я, — тебе придётся сказать мне о Глаузер-Рёйсте. Не забывай, это ты научил меня добывать информацию, даже переступая через укоры собственной совести.
Мой брат снова остановился посреди Крестного Пути.
— Хочешь всё узнать о капитане Каспаре Линусе Глаузер-Рёйсте? — вызывающе спросил он, и искры гнева так и сыпались в разные стороны. — Так узнаешь! Твой любимый коллега занимается покрывательством всех грязных делишек важных деятелей церкви. Уже около тринадцати лет Глаузер-Рёйст уничтожает всё, что может бросить тень на образ Ватикана; и когда я говорю «уничтожает», это значит уничтожает: угрожает, отбирает силой, и я бы не удивился, узнав, что для исполнения своего долга он дошёл и до убийства. Никто не в силах укрыться от длинных рук Глаузер-Рёйста: ни журналисты, ни банкиры, ни кардиналы, ни политики, ни писатели… Если, Оттавия, в твоей жизни есть какая-то тайна, лучше Глаузер-Рёйсту о ней не знать. Имей в виду, что однажды он сможет абсолютно хладнокровно и без малейшего сочувствия использовать её против тебя.
— Да прямо уж! — подстегнула его я, но не потому, что сомневалась в его словах, а потому что знала, что так заведу его, и он будет говорить дальше.
— Прямо уж? — возмутился он. Мы снова зашагали, потому что отец Кларк, Фараг и Кремень ушли далеко вперёд. — Тебе нужны доказательства? Помнишь «дело Марцинкуса»?
Ну да, что-то я об этом слышала, хотя немного. Как правило, всё, что шло против церкви, оставалось более или менее за пределами моей жизни и жизни всех монахинь и монахов. Мы не то чтобы не могли ничего узнать, мы могли, но не хотели; нам априори не нравилось слышать такого рода обвинения, и мы все более или менее пропускали антиклерикальные скандалы мимо ушей.
— В 1987 году итальянские судьи приказали арестовать архиепископа Поля Казимира Марцинкуса, тогдашнего директора «IOR» (Института религиозных дел), также известного в качестве Ватиканского банка. После семи месяцев следствия ему предъявили обвинение в мошенническом банкротстве миланского «Банко Амброзиано». Было доказано, что этот банк контролировала группа иностранных корпораций, зарегистрированных в оффшорных зонах Панамы и Лихтенштейна, которые на самом деле служили прикрытием «IOR» и самому Марцинкусу. «Банко Амброзиано» оставил за собой «дыру» на более чем тысячу двести миллионов долларов, из которых Ватикан под давлением вернул кредиторам только двести пятьдесят. То есть Ватикан «заглотил» больше девятисот миллионов долларов. Знаешь, кто занимался тем, чтобы Марцинкус не попал в руки правосудия, а всё это мутное дело поросло быльём?
— Капитан Глаузер-Рёйст?
— Твой друг капитан умудрился перевезти Марцинкуса в Ватикан с дипломатическим паспортом, чтобы его не могла задержать итальянская полиция. Попав в безопасное место, он организовал отвлекающую кампанию для общественного мнения, неизвестно какими методами добившись того, чтобы некоторые журналисты охарактеризовали Марцинкуса как наивного, недобросовестного и зазевавшегося администратора. Потом он увёл его в тень, организовав ему новую жизнь в небольшом американском приходе в штате Аризона, где он и находится по сей день.
— Пьерантонио, я в этом ничего преступного не вижу.
— Да нет, он ничего не делает противозаконно! Просто не обращает на закон внимания. На швейцарской границе задержали кардинала с миллионами в чемодане, которые он хочет провезти как дипломатическую почту? Глаузер-Рёйст выезжает направить события на путь истинный. Забирает кардинала, возвращает его в Ватикан, добивается того, чтобы пограничники «забыли» об инциденте, и стирает все следы этого дела, так что выходит, что таинственного исчезновения денег никогда и не было.
— Всё равно я не вижу причин опасаться Глаузер-Рёйста.
Но Пьерантонио уже завёлся:
— Итальянское издательство опубликовало скандальную книгу о коррупции в Ватикане? Глаузер-Рёйст быстро находит монсеньора или монсеньоров, которые предали ватиканский закон о молчании, затыкает им рот неизвестно какими угрозами и добивается того, чтобы пресса после начального скандала предала это дело полному забвению. Кто, по-твоему, готовит отчёты с самыми скабрезными подробностями частной жизни членов курии, чтобы потом у них не было другого выхода, как молча покрывать определённые бесчинства? Кто, по-твоему, первым вошёл в квартиру капитана швейцарской гвардии Алоиза Эстерманна в ту ночь, когда он, его жена и капрал Седрик Торней погибли якобы от выстрелов, сделанных капралом? Каспар Глаузер-Рёйст. Он забрал с собой доказательства того, что произошло там на самом деле, и выдумал официальную версию о «приступе безумия» капрала, которого церковь обвинила в употреблении наркотиков, в «неуравновешенности и мстительности», так что слухи об этом просочились в прессу. Он единственный знает о том, что случилось той ночью на самом деле. Ватиканский прелат организует несколько, скажем, «разгульную» вечеринку, а какой-то журналист хочет об этом написать и опубликовать скандальные фотографии? Не о чем беспокоиться. Статья никогда не выходит в свет, а журналист после посещения Глаузер-Рёйста до конца своих дней держит рот на замке. Почему? Можешь себе представить! Прямо сейчас на одного из важных церковных прелатов, архиепископа Неаполитанского, завела дело судебная прокуратура Базиликаты, обвиняющая его в ростовщичестве, участии в преступных группировках и незаконном присвоении имущества. Можешь на что угодно поспорить, что его оправдают. Судя по тому, что мне рассказали, в это дело уже вмешался твой друг.
В голове у меня возникла зловещая мысль, которая была мне совершенно не по душе и вызывала огромное беспокойство.
— А что скрывать тебе, Пьерантонио? Ты не говорил бы так о капитане, если бы у тебя самого не возникло с ним каких-то проблем.
— Мне? — Он выглядел удивлённым. Внезапно весь его гнев испарился, и он стал живым воплощением пасхального ягнёнка, но меня ему было не обмануть.
— Да, тебе. И не начинай мне рассказывать, что всё знаешь о Глаузер-Рёйсте, потому что церковь — большая семья, где всё обо всех известно.
— Ну, это тоже верно! Те, кто находится в церкви, занимая определённые посты, знают всё почти обо всём.
— Возможно, — машинально пробормотала я, глядя на маячившие вдалеке затылки Мёрфи Кларка, Кремня и Фарага, — но меня тебе не обмануть. У тебя с капитаном Глаузер-Рёйстом были какие-то проблемы, и ты обо всём расскажешь мне прямо сейчас.
Брат рассмеялся. Проскользнувший между двух облаков тонкий луч светил ему прямо в лицо.
— А почему я должен тебе о чём-то рассказывать, крошка Оттавия? Что может толкнуть меня на исповедание грехов, которые нельзя открывать никому и уж тем более младшей сестре?
Я холодно посмотрела на него, изображая улыбку на лице.
— Потому что, если этого не сделаешь ты, я иду сейчас к Глаузер-Рёйсту, рассказываю всё, что ты мне сказал, и прошу, чтобы на этот вопрос ответил мне он.
— Он этого не сделает, — горделиво отпарировал он. Что и говорить, скромное облачение францисканца совсем ему не шло. — Такой человек, как он, никогда не заговорит о таких вещах.
— Вот как? — Если он пошёл на жёсткую игру, я тоже могла устроить показательное выступление. — Капитан! Эй, капитан!
Кремень и Фараг обернулись. Следом за ними свой огромный живот развернул отец Мёрфи.
— Капитан! Вы могли бы на минуточку подойти?
Пьерантонио побледнел.
— Я всё расскажу, — процедил он сквозь зубы, увидев, что Глаузер-Рёйст возвращается к нам. — Всё расскажу, только скажи, чтоб не подходил!
— Простите, капитан, я ошиблась! Идите дальше, идите! — И я махнула ему рукой, чтобы он шёл к остальным.
Кремень остановился, пристально посмотрел на меня, а потом повернулся и пошёл дальше. Странная группа из шести-семи одетых в чёрное женщин оттеснила нас в сторону и обогнала. На них были длинные одеяния, закутывавшие их от шеи до пят, а на голове — любопытные уборы, нечто вроде крохотной круглой шапочки, надвинутой на лоб, которую придерживал обвязанный вокруг головы платок. Судя по их виду, я решила, что это православные монахини, хотя не смогла догадаться, к какой церкви они принадлежат. Любопытно, что почти тут же нас обогнала другая похожая группка, но без шапочек и с длинными жёлтыми восковыми свечами в руках.
— Крошка Оттавия, ты становишься очень упрямой!
— Говори.
Пьерантонио довольно долго задумчиво молчал, но наконец глубоко вдохнул и начал:
— Помнишь, что там, дома, я рассказывал тебе о проблемах со Святым Престолом?
— Да, помню.
— Я рассказывал тебе о школах, больницах, домах престарелых, археологических раскопках, странноприимных домах для паломников, библейских исследованиях, восстановлении католического богослужения на Святой Земле…
— Да, да, ещё ты говорил мне о приказе Папы вернуть трапезную, где проходила Тайная Вечеря, и о том, что он не предоставил тебе никаких необходимых средств.
— Вот именно. Всё дело в этом.
— Что ты сделал, Пьерантонио? — расстроенно спросила его я. Крестный Путь вдруг стал для меня настоящим путём страдания.
— Ну… — замялся он. — Мне пришлось продать кое-какие вещи.
— Какие вещи?
— Некоторые из тех, что мы находили во время раскопок.
— О Господи, Пьерантонио!
— Знаю, знаю, — печально согласился он. — Если тебя это утешит, я продавал их самому Ватикану через одно подставное лицо.
— Что ты говоришь?
— Среди князей церкви есть большие коллекционеры предметов искусства. Незадолго до того, как Глаузер-Рёйст вмешался в это дело, работавший на меня в Риме адвокат продал одному прелату, которого ты лично знаешь, потому что он долго работал в тайном архиве, старинную мозаику VIII века, найденную при раскопках в Бану Гассане. Тот заплатил почти три миллиона долларов. По-моему, сейчас он выставляет её в своей гостиной.
— Боже мой! — простонала я. Я была в отчаянии.
— Знаешь, сколько хорошего мы сделали со всеми этими деньгами, крошка Оттавия? — Похоже, мой брат совсем не чувствовал себя виноватым. — Мы основали новые больницы, накормили множество людей, создали новые дома престарелых и школы для детей. Что плохого я сделал?
— Пьерантонио, ты спекулировал произведениями искусства!
— Но я же продавал их им же! Ничто из того, что я продал, не ушло в руки, на которых бы не лежало благословение священного сана, и все заработанные мною деньги пошли на самые срочные нужды бедняков Святой Земли. У некоторых из этих князей церкви огромные деньги, а тут нам не хватает самого элементарного… — Он прерывисто задышал, и я снова увидела блеск ненависти у него в глазах. — Пока в один прекрасный день в мой кабинет не явился твой друг Глаузер-Рёйст, о котором я уже был наслышан. Оказывается, он навёл справки и разузнал о моих занятиях. Он запретил мне продолжать продавать находки под угрозой скандала, который опорочил бы моё имя и имя моего ордена. «У меня есть средства, чтобы завтра ваше лицо появилось на первой странице крупнейших мировых газет», — невозмутимо заявил мне он. Я говорил ему про больницы, про дома престарелых, об открытых столовых, школах… Ему было абсолютно плевать. А теперь мы задыхаемся от долгов, и я не знаю, как выйти из этой ситуации.
Что говорил мне Фараг в катакомбах Святой Лючии? «Даже если правда причиняет боль, она всегда лучше лжи». Теперь я задумывалась о том, что лучше: причинившая вред доброта моего брата или несправедливость. А может, я сомневаюсь потому, что речь идёт о моём брате, и я отчаянно ищу способ его оправдать? Или дело в том, что жизнь сложена не из белых и чёрных блоков, а представляет собой многоцветную мозаику с бесконечным числом комбинаций? Разве жизнь не является смесью двусмысленностей и взаимозаменяемых оттенков, которые мы пытаемся зажать в абсурдные рамки норм и догм?
К тому времени, как я дошла до такого философствования, наша маленькая группа, завернув за угол, вдруг оказалась на площади базилики Гроба Господня. Я восторженно застыла на месте. Передо мной находилось место, где был распят Иисус. Я почувствовала, как к глазам подкатывают слёзы и рвутся наружу растроганные чувства.
Базилика, построенная по приказу святой Елены в том месте, где, как она полагала, был найден Истинный Крест Христов, являла собой поразительное зрелище: прямые углы, прочный тысячелетний камень, большие зарешёченные окна, квадратные башенки с черепичными кровлями… а на площади толпились люди всех рас и сословий. Вокруг узких деревянных крестов грудились группы туристов, на разных языках поющих религиозные гимны, которые, смешиваясь в резонаторе площади, напоминали нескладный гул. Здесь же, в портике, стояли и обогнавшие нас по дороге православные монахини, повернувшись спиной к другим монахиням, католическим, в светлых облачениях с короткими юбками. У многих женщин на шеях, подобно бусам, висели красивые чётки, а другие перебирали их в такт молитве, стоя на коленях на твёрдом каменном полу. Тут также было много католических священников и монахов из самых разных орденов, и виднелось множество длинных густых бород, типичных для православных монахов, которые к тому же носили цилиндрические головные уборы разных видов: гладкие, украшенные обшивками, кружевами, похожие на козырёк крыши и даже с длинными покрывалами, ниспадающими по спине до пояса. Над всем этим человеческим хаосом летало множество белых голубей, казалось, не обращавших на людишек никакого внимания и планировавших с одного окна на другое в поисках лучшего вида на это зрелище.
Фасад у базилики был незаурядным, с двумя одинаковыми дверями, расположенными под двумя тоже одинаковыми окнами со стрельчатыми арками, хотя правая дверь, на удивление, была заложена большими каменными блоками. А внутри… Ну, внутри просто дух захватывало. Поскольку вход был с боковой стороны нефа, полная перспектива не открывалась, пока не пройдёшь довольно большое расстояние, но на всём его протяжении дорогу освещал свет сотен свечей. Я была так взволнована, что едва могу припомнить всё увиденное. Отец Мёрфи подробно рассказывал нам обо всём, что нам встречалось. В атриуме, у входа, в окружении канделябров и ламп находился Камень Помазания, большой прямоугольный кусок красного известняка, на который, по преданию, положили тело Иисуса после снятия с креста. Охваченные религиозным чувством люди лили на камень святую воду, а потом десятки рук тянулись, чтобы смочить в ней платки и чётки. Подойти туда было невозможно. В центре базилики находился Католикон, где, как считается, был расположен Гроб Господень, фасад которого покрыт лампадами в красивых серебряных шарах. Над дверью находились три картины, посвящённые воскресению Иисуса и написанные в разных стилях: латинском, греческом и армянском. Пройдя мимо двери Католикона, мы попали к небольшому склепу, называемому Часовня Ангела, потому что, согласно традиции, именно здесь ангел возвестил святым жёнам о воскресении. За следующей дверцей находилась сама Святая Гробница, маленькое, узкое помещение, в котором виднелась мраморная плита, покрывавшая настоящий камень, на котором лежало тело Иисуса. Я на секунду преклонила колени (людей было столько, что большего сделать было нельзя) и вышла с меньшим горением, чем вошла. Пожалуй, окружение было гипнотическим и способствовало возникновению некоего религиозного «стокгольмского синдрома», но давка в толпе лишала меня благочестивого пыла.
Спустившись по лестницам, мы попали в то место, где святая Елена обнаружила три креста, как описывает в своей «Золотой легенде» Иаков Ворагинский. Это было широкое, пустое каменное помещение, в одном из углов которого железной оградой было отгорожено точное место, где нашли реликвии. Поглаживая бороду, отец Мёрфи начал рассказывать нам легенду, и так мы обнаружили, что знаем намного больше, чем один из прославленных мировых специалистов. Но любезный толстый археолог скоро понял, что находится в обществе экспертов, и с полнейшим смирением выслушал наши высказывания и мнения.
Мы обошли базилику сверху донизу, включая ротонду Анастазис, и во время осмотра Пьерантонио и отец Мёрфи пояснили нам, что этим храмом одновременно владели католическое, греко-православное и армянско-православное сообщество и что равновесие поддерживалось «статусом кво», то есть хрупким соглашением, которое, за неимением лучшего, пыталось примирить христианские церкви в Иерусалиме. В базилике могли также проводить службы православные копты, православные сирийцы и эфиопы, и Фараг очень возмутился по этому поводу, так как у коптов-католиков такого права не было; но отец Мёрфи взмолился, чтобы он не подливал масла в огонь и что сейчас не до новых народных восстаний.
Когда мы закончили осмотр базилики, отец Мёрфи с моим братом предложили нам продолжить туристический обход других святых мест города.
— Мы ещё не всё посмотрели, — возразила я. — Осталась подземная крипта.
Пьерантонио непонимающе взглянул на меня, а Мёрфи Кларк довольно улыбнулся.
— Доктор, откуда вы знаете о существовании крипты? — заинтригованно спросил он.
— Очень долго объяснять, Мёрфи, — ответил ему Фараг, не дав мне вставить ни слова, — но мы очень хотим её осмотреть.
— Это будет непросто… — задумчиво пробормотал он, снова теребя себя за бороду. — Эта крипта принадлежит Греческой Православной Церкви, и лишь нескольким католическим священникам, которых можно легко пересчитать по пальцам одной руки, посчастливилось туда войти. Может быть, вашему брату кустоду Салине удалось бы получить разрешение.
— Да я ведь даже не знал о её существовании! — растерянно проговорил мой брат.
— Я тоже не видел крипту, отче, — ответил Мёрфи, — но, как и вашей сестре, мне бы очень хотелось это сделать. Попросите разрешения у православного Патриарха Иерусалимского. Достаточно будет одного звонка.
— Это так необходимо? — поинтересовался мой брат перед тем, как просить о политически обязывающих одолжениях.
— Уверяю тебя, что да.
Пьерантонио направился к выходу и, укрывшись от толпы в уголке атриума, за дверями, вытащил из кармана сутаны сотовый телефон. Ему потребовалось лишь несколько минут.
— Готово! — радостно сообщил он, вернувшись к нам. — Ищем отца Хризостома. Это было не так-то просто! Судя по всему, это тайная крипта, скрытая в самой глубине базилики. Жаль, вы не слышали все удивлённые и недоверчивые возгласы по телефону. Как вы узнали о её существовании?
— Это очень долгая история, Пьерантонио.
Мой загоревшийся брат обратился к первому же православному священнику, который попался ему на пути, и через несколько минут мы стояли перед батюшкой с седоватой бородой в уборе модели «козырёк крыши», точь-в-точь как у флорентийцев эпохи Возрождения. Отец Хризостом, на груди которого висели на ниточке очки, посмотрел на нас в полной растерянности. По выражению его лица было ясно видно, что он ещё не пришёл в себя от недавнего звонка. Пьерантонио заговорил первым и представился, назвав все свои титулы, которых оказалось больше, чем я подозревала, и отец Хризостом уважительно пожал ему руку, хотя удивлённое выражение так и не исчезло, застыв у него на лице. Затем представили всех остальных, и наконец православный священник дал волю тягостному чувству, сжимавшему его испуганное сердце:
— Я не хотел бы лезть не в своё дело, но не могли бы вы объяснить, как вы узнали о существовании крипты?
Кремень ответил:
— Из старинных документов, описывающих её постройку.
— Вот как? Тогда, если мои вопросы вас не затруднят, мне хотелось бы уточнить кое-что ещё. Мы с отцом Стефаном всю свою жизнь храним находящиеся в крипте реликвии Истинного Креста, но даже не подозревали о том, что кто-то о ней знает и что существуют документы, описывающие её постройку.
Спускаясь к глубинам земли этаж за этажом, мы с Фарагом и Кремнем рассказали то, что знали о крестовых походах и тайном хранилище, не упоминая при этом о ставрофилахах. Наконец, пройдя сотни каменных ступенек, мы дошли до прямоугольной комнатки, на вид используемой в качестве кладовой. На стенах висели портреты бывших патриархов, покрытая полиэтиленовыми чехлами мебель, казалось, спала сном праведных, и тут даже было старое облачение православного священника, неподвижно висевшее на вешалке, словно привидение. В глубине железная решётка скрывала вторую деревянную дверь, за которой, похоже, находилась наша цель. Увидев нас, со стула поднялся старичок с длинной седой бородой.
— Отец Стефан, у нас гости, — объявил отец Хризостом.
Оба священника тихо обменялись несколькими словами и обратились к нам:
— Проходите.
Старенький православный священник вытащил из складок рясы связку железных ключей, подошёл к решётке и очень медленно, как в фильмах с замедленной съёмкой, её отворил. Прежде чем сделать то же самое с деревянной дверью, он нажал на расположенный на раме допотопный выключатель.
Моему удивлению не было границ, когда, войдя в тайную палату ставрофилахов, крипту, построенную около 1000 года для защиты реликвии Честного Древа от уничтожения по приказу обезумевшего халифа Аль-Хакема, я наткнулась на нечто вроде военного барака с кухонной мебелью. С трудом придя в себя от этого впечатления, я снова оглянулась и смогла разглядеть в центре комнаты небольшой алтарь, на котором стояла красивая икона с изображением распятия, а перед ней — пара крестов небольшого размера, которые оказались реликвариями со священными щепами. Стоявшие слева от меня старые офисные металлические шкафы служили идеальным дополнениям к стоявшим как попало складным стульям и деревянным столам. Если бы только это видели ставрофилахи! Хотя, если хорошенько подумать, пожалуй, это самый разумный способ защитить нечто столь ценное, если, конечно, речь шла о сознательном решении.
Отец Стефан и отец Хризостом несколько раз осенили себя православным крестным знамением, а потом с благоговением и почтением показали нам через стекло реликвариев мелкие щепки от дерева Креста, найденного святой Еленой. Все мы поцеловали эти предметы, кроме Кремня, который неподвижно стоял к нам спиной, словно соляной столп. Заметив это, отец Стефан медленно подошёл к нему и взглядом отыскал то, что с таким интересом рассматривал капитан.
— Красиво, правда? — спросил он на правильнейшем английском.
Мы все тоже подошли туда и, вот так сюрприз, обнаружили прекрасную христограмму Константина, нарисованную на большой доске тёмного дерева, на которой красовался длинный греческий текст. Доска стояла прямо на полу и опиралась на стену.
— Это моя любимая молитва. Вот уже пятьдесят лет я раздумываю над ней, и, поверьте, что ни день — нахожу новые сокровища в её простой мудрости.
— Что это? — спросил Фараг, садясь на корточки, чтобы лучше рассмотреть доску.
— Около тридцати лет назад английские учёные сказали нам, что это очень древняя христианская молитва, вероятно, XII или XIII века. Заказавший её кающийся грешник или записавший её мастер не были греками, потому что в тексте много ошибок. Учёные сказали, что, может быть, это был какой-то римский еретик, посетивший это место и в знак благодарности подаривший базилике эту красивую доску с мыслями, которые внушило ему Животворящее Древо.
Я присела рядом с Фарагом и тихо перевела первые слова: «Ты, преодолевший гордыню и зависть, преодолей теперь гнев терпением». Я вскочила на ноги и многозначительно посмотрела на капитана.
— «Ты, преодолевший гордыню и зависть, преодолей теперь гнев терпением», — повторила я по-итальянски.
Капитан широко открыл глаза, поняв смысл сообщения. Любой соискатель звания ставрофилаха, преодолевший испытания в Риме и Равенне, то есть уступы гордыни и зависти, сразу понял бы, что это послание обращено лично к нему.
— Это слова первой фразы, написанной красными унциальными буквами.
Отец Стефан ласково посмотрел на меня.
— Госпожа поняла смысл фразы?
— Простите! — поспешно извинилась я. — Я нечаянно перешла на другой язык. Извините.
— О, ничего страшного! Я был очень рад увидеть волнение в ваших глазах, когда вы прочли текст. Похоже, вы поняли всю значимость этой молитвы.
Фараг встал, и мы втроём многозначительно понимающе переглянулись; и, в завершение сцены, тут же втроём посмотрели на отца Стефана… Отца Стефана или Стефана, ставрофилаха?
— Вас она интересует? — поинтересовался старик. — Если интересует, я могу дать вам брошюру, отпечатанную вскоре после визита английских учёных. Там есть фотография всей доски и несколько более детальных фрагментов. Плохо только, что отпечатали её довольно давно, и изображения чёрно-белые. Но молитва переведена, хотя, — широко улыбаясь, горделиво добавил он, — должен предупредить, что переводчиком был я, — и взволнованно начал декламировать наизусть: — «Ты, преодолевший гордыню и зависть, преодолей теперь гнев терпением. Так же, как растение бурно растёт по воле солнца, проси Бога, чтобы Его божественный свет осветил тебя с неба. Иисус сказал: не бойся ничего, кроме грехов. Христос накормил вас в группах из ста и пятидесяти голодных. Его благословенное слово не сказало: в группах из девяноста и из двух. Так что доверься справедливости, как афиняне, и не бойся могилы. Уверуй в Христа, как уверовал даже порочный сборщик податей. Твоя душа как птица, беги и стремись к Богу. Не преграждай ей путь грехами, и она достигнет Его. Если ты победишь зло, солнце взойдёт до рассвета. Очисти душу твою, склонившись перед Богом, как смиренный проситель. С помощью Истинного Креста нещадно ударь по своим земным страстям. Распнись на нём, как Христос, семью гвоздями и семью ударами. Если ты сделаешь это, то Христос в своём величии выйдет встречать тебя у сладчайшей двери. Да будет твоё терпение преисполнено этой молитвой. Аминь». Правда, красиво?
— П-поразительно, отец Стефан, — пробормотала я.
— О, я вижу, она вас тронула! — радостно воскликнул он. — Я сейчас найду брошюры и дам каждому из вас!
И неуверенным, медленным шагом он вышел из крипты и исчез.
Доска, несомненно, была очень древней. Дерево потемнело от копоти свечей, которые веками горели перед ним, хотя сейчас их здесь не было. Она была размером приблизительно метр в высоту и полтора метра в ширину, а буквы были греческими унциальными. Текст был написан чёрными чернилами, хотя в первом и последнем предложении у них была красная кайма. Наверху, наподобие щита или условного знака, красовалась христограмма императора с горизонтальной перекладиной.
Мой брат быстро заметил, что мы наткнулись на что-то важное. Поэтому он завёл банальную беседу с отцом Мёрфи и отцом Хризостомом, чтобы мы с Фарагом и Кремнем могли поговорить.
— Именно за этой доской, — проговорил капитан, — мы и приехали в Иерусалим.
— Это яснее ясного, — согласился Фараг. — Нам нужно хорошенько изучить текст. Содержание странное.
— Просто странное? — воскликнула я. — Ужасно странное! Мы все глаза проглядим, пытаясь с ним разобраться.
— А что скажете про отца Стефана? — спросил Кремень.
— Ставрофилах, — хором ответили мы с Фарагом.
— Да, это очевидно.
Названный нами отец снова появился, крепко держа в руках брошюры, чтобы они не упали.
— Читайте эту молитву ежедневно, — попросил он, давая их нам, — и вы увидите, сколько красоты таится в её словах. Вы даже не представляете, сколько благочестия исходит из неё, если читать её терпеливо.
Я почувствовала, как внутри меня нарастает глупый гнев на этого циничного ставрофилаха. Я отбросила мысль о том, что это старик, что он может и не быть членом братства, и яростно хотела схватить его за рясу и крикнуть, чтобы он перестал над нами насмехаться, потому что мы уже несколько раз были на грани смерти из-за нелепого фанатизма. Тогда я вспомнила, что не зря это новое испытание — испытание гнева, и постаралась подавить злость, питаемую, я уверена, физической и умственной усталостью, поняв, что весь путь инициации скрупулёзно рассчитан бесноватыми дьяконами-тысячелетниками.
Мы вышли из крипты, как лунатики, унося с собой тёплые пожелания старого священника и симпатию и благодарность отца Хризостома, которому обещали выслать все исторические источники по сооружению крипты. В это вечернее время в базилику Гроба Господня ещё вливались новые волны туристов.
Для работы над текстом молитвы нам выделили скромный кабинет в представительстве. Капитан потребовал компьютер с доступом к сети, а мы с Фарагом — несколько словарей классического и византийского греческого, которые нам принесли из библиотеки Библейской школы Иерусалима. После лёгкого ужина Глаузер-Рёйст уселся перед компьютером и принялся в нём копаться. Компьютеры были для него чем-то наподобие музыкальных инструментов, которые должны быть идеально настроены, или чем-то вроде мощных моторов, детали которых всегда должны быть хорошо смазаны и вращаться в лад. Пока он был занят с компьютером, мы с Фарагом развернули брошюры на столе и начали работать над текстом.
Перевод отца Стефана заслуживал всяческих похвал. Его интерпретация греческого текста с точки зрения стиля была безупречной, хотя в плане грамматики её можно было бы подправить. Однако мы были вынуждены признать, что ничего другого с таким несовершенным материалом, как текст этой молитвы, старику сделать бы не удалось. Было очевидно, что автор не очень хорошо владел греческим: даже принимая во внимание то, что система греческих глаголов крайне сложна, некоторые глагольные времена были написаны неправильно и некоторые слова в предложениях стояли не на своих местах. Было логично предположить, что написавший эту молитву, подталкиваемый какими-то социальными или религиозными причинами, изо всех сил старался выразить свои мысли на языке, который не совсем знал, но так как мы знали, что это сообщение ставрофилахов, мы не могли не обратить внимание на эти неточности. Прежде всего наше внимание привлекли предложения с числительными, отчасти потому, что в этом контексте они были абсурдными, отчасти потому, что мы были почти уверены, что это мог быть какой-то код: «Христос накормил вас в группах из ста и пятидесяти голодных. Его благословенное слово не сказало: в группах из девяноста и из двух», а потом: «Распнись на нём, как Христос, семью гвоздями и семью ударами». Число семь не могло быть случайностью, на этом этапе мы это себе уже уяснили, ну а числа сто, пятьдесят, девяносто и два?
В тот вечер мы не очень продвинулись. Мы так устали, что едва могли удержать слипавшиеся веки. Так что мы пошли спать, уверенные в том, что несколько часов сна чудесным образом подействуют на наши интеллектуальные способности.
Но на следующий день нам всё равно не удалось добиться каких-то результатов. Мы вывернули текст наизнанку, проанализировали слово за словом, и, кроме первой и последней фраз, выделенных окантовкой красного цвета, ничто в молитве прямо не указывало на испытания ставрофилахов. Тем не менее в конце вечера мы вычленили информацию, которая только запутала те немногие идеи, которые приходили нам в голову: единственным смыслом фразы «Христос накормил вас в группах из ста и пятидесяти голодных» была ссылка на фрагмент Евангелия об умножении хлебов и рыбы, в котором евангелист Марк буквально говорит про людей, что они «сели рядами по сту и по пятидесяти»[35]. То есть мы опять остались ни с чем.
Скоро выделенный представительством кабинет оказался нам мал. Справочники, которые нам приносили из Библейской школы, наши записи, словари, отпечатанные листы с отысканными в интернете материалами были ничем по сравнению с планшетами, с которыми мы начали работать на последовавших выходных. Фараг решил, что, может быть, мы что-то заметим или заметим больше, если будем работать над крупноформатной фотографией молитвы. Капитан отсканировал изображение в брошюре, придав ему максимальную чёткость, а потом, как раньше с бумажным силуэтом Аби-Руджа Иясуса, принялся распечатывать листы, которые наклеил на картонный планшет в натуральную величину доски. Потом эту репродукцию установили на длинноногий треножник, который в кабинет уже не поместился. Так что в воскресенье мы со всем своим имуществом перебрались в комнату побольше, где, кроме того, у нас была большая доска, на которой можно было рисовать схемы и разбирать предложения.
В воскресенье вечером я покинула моих несчастных товарищей на произвол судьбы — отчаяние уже начало подтачивать наш дух — и в одиночестве направилась к церкви францисканцев в Старом городе Иерусалима. Мой брат Пьерантонио проводил службу каждое воскресенье в шесть вечера, и я не могла пропустить это событие, находясь в Иерусалиме (кроме всего прочего, мать меня бы убила). Поскольку церковь францисканцев была пристроена к базилике Гроба Господня, выйдя из автомобиля представительства за стенами города, я пошла той же дорогой, которой мы проходили в первый день. Мне нужно было спокойно пройтись, отыскать саму себя, а где же это лучше сделать, как не в Иерусалиме? Получая удары локтями и толчки от прохожих на Крестном Пути, я чувствовала себя просто избранной.
Согласно объяснениям, полученным от Пьерантонио по телефону, церковь францисканцев находилась как раз с противоположной входу стороны базилики, поэтому я не выходила на площадь, а за пару улочек до неё свернула направо. В полном одиночестве я описала странный круг, чтобы прийти к своему назначению.
Я с благоговением прослушала мессу и причастилась из рук Пьерантонио, а после службы мы с ним отправились прогуляться. Мы много говорили; я смогла подробно рассказать ему всю историю про похищения реликвий Святого Древа и ставрофилахов. А когда уже стало смеркаться, он предложил проводить меня до апостольского представительства. Мы вернулись той же дорогой: я увидела Купол Скалы, мечеть аль-Акса и многое другое и остановились на площади базилики Гроба Господня, привлечённые небольшой толпой, которая собралась у двери, щёлкая фотоаппаратами и записывая на видеокамеры закрытие дверей храма на сегодняшний день.
— Уму непостижимо! Народ из всего устраивает зрелище! — иронично заметил мой брат. — А ты, туристка? Тоже хочешь посмотреть?
— Ты очень любезен, — ответила я с сарказмом, — но спасибо, лучше не надо.
Однако я шагнула в ту сторону. Пожалуй, я не могла не поддаться очарованию заката в христианском сердце Иерусалима.
— Кстати, Оттавия, я хотел тебе кое-что рассказать, но не нашёл удачного момента.
Словно на цирковом представлении, невысокий человечек, забравшийся на прислонённую к дверям высоченную лестницу, был освещён прожекторами и вспышками фотоаппаратов. Он возился с громоздким железным замком.
— Пожалуйста, Пьерантонио, только не говори, что у тебя в запасе остались тёмные дела, которыми ты хочешь со мной поделиться.
— Нет, со мной это никак не связано. Речь о Фараге.
Я резко повернулась к нему. Человечек начал спускаться с лестницы.
— А что такого с Фарагом?
— Честно говоря, — заговорил мой брат, — с Фарагом ничего такого, чего не могло бы случиться. Проблемы, похоже, у тебя.
Сердце у меня в груди остановилось, и я почувствовала, как кровь отливает у меня от лица.
— Не понимаю, Пьерантонио, о чём ты говоришь.
Из толпы зрителей послышались крики и тревожный говор. Мой брат быстро обернулся туда, но я осталась как стояла, парализованная словами Пьерантонио. Я старалась удерживать свои чувства в узде, сделала всё возможное, чтобы они не проявлялись, и всё-таки Пьерантонио меня раскусил.
— Что случилось, отец Лонгман? — услышала я вопрос брата. Я подняла взгляд от земли, и увидела, что он обращается к ещё одному монаху-францисканцу, который стоял неподалёку от нас.
— Здравствуйте, отец Салина, — поприветствовал его тот. — Хранитель ключей упал, спускаясь по лестнице. Нога сорвалась, и он свалился. Хорошо хоть, что он был уже недалеко от земли.
Я настолько остолбенела от расстройства и страха, что отреагировала не сразу. Но, слава Богу, мой мозг снова заработал, и голос подсознания заговорил у меня в голове: «Хранитель ключей, хранитель ключей». Пока Пьерантонио благодарил своего брата по ордену, я с огромным трудом выплыла из тумана.
— Человек на лестнице оступился… Ну, вернёмся к нашему разговору. Я обещал себе, что сегодня обязательно поговорю с тобой об этом. В общем, если я не ошибся, у тебя, сестричка, очень серьёзная проблема.
— Что именно сказал тебе этот монах из твоего ордена?
— Оттавия, не пытайся сменить тему, — очень строго одёрнул меня Пьерантонио.
— Оставь эти глупости! — вспылила я. — Что именно он тебе сказал?
Брат был поражён моей внезапной сменой настроения.
— Что привратник базилики, спускаясь по лестнице, оступился и упал.
— Нет! — закричала я. — Он сказал не привратник!
В голове брата, должно быть, вдруг вспыхнул свет, потому что его выражение лица изменилось, и я увидела, что он понял.
— Хранитель ключей! — запинаясь, выговорил он. — Тот, у кого ключи!
— Мне нужно поговорить с этим человеком! — воскликнула я, не давая ему договорить и пробираясь вперёд в толпе туристов. Тот, кого называют хранителем ключей базилики Гроба Господня в Иерусалиме, должен быть достаточно связан с «имеющим ключи: тем, кто открывает, и никто не закрывает, и закрывает, и никто не открывает». Если это не так, что ж, но попробовать надо.
Когда я добралась до центра событий, человечек уже встал на ноги и отряхивал одежду. Как и многие другие арабы, которых мне приходилось видеть за эти дни, он был в рубахе без галстука с распахнутым воротом и закатанными рукавами, а на верхней губе у него были тонкие усики. На его лице была написана сдерживаемая злость и обида.
— Это вас зовут хранителем ключей? — несколько смущённо спросила я его по-английски.
Человечек равнодушно посмотрел на меня.
— По-моему, это и так ясно, госпожа, — с большим достоинством ответил он и тут же повернулся ко мне спиной и занялся лестницей, которая всё ещё была прислонена к двери. Я почувствовала, что упускаю уникальную возможность, что нельзя дать ему уйти.
— Послушайте! — крикнула я, чтобы привлечь его внимание. — Мне сказали спросить у «имеющего ключи»!
— Я очень рад, госпожа, — не оборачиваясь, ответил он, будучи уверен, что я просто сумасшедшая. Он постучал в скрытое в одной из створок двери окошко, и оно отворилось.
— Вы не понимаете, господин, — не унималась я, отстраняя двух-трёх паломников, которые хотели заснять на камеру, как скрывается за дверью лестница. — Мне сказали спросить «того, кто открывает, и никто не закрывает, и закрывает, и никто не открывает».
На несколько секунд этот мужчина застыл, а потом повернулся и внимательно посмотрел на меня. Какое-то мгновение он изучал меня, как энтомолог насекомое, а потом не удержался от удивлённого возгласа:
— Женщина?
— Разве я первая?
— Нет, — немного подумав, проговорил он. — Были и другие, но не при мне.
— Значит, мы можем поговорить?
— Конечно, — сказал он, пощипывая себя за усы. — Ждите меня здесь через полчаса. Если не возражаете, сейчас мне нужно заканчивать.
Я оставила его заканчивать работу и вернулась к нетерпеливо ждавшему меня Пьерантонио.
— Это был он?
— Да. Он будет ждать меня здесь через полчаса. Наверное, хочет, чтобы разошлась толпа.
— Что ж, тогда идём пройдёмся.
Полчаса — немного времени, но если мой брат собирался вернуться к разговору о Фараге, они могли превратиться в вечность. Так что, чтобы минуты шли быстрее, я попросила у него мобильный телефон и позвонила капитану. Кремень был доволен сообщению о хранителе ключей, но обеспокоен тем, что ни он, ни Фараг не могли успеть на встречу, даже если бы бегом бежали из представительства. Так что он начал перечислять мне все бесконечные вопросы, которые я должна была задать хранителю, и в конце концов стал повторяться, как заигранная пластинка, напоминая мне, чтобы я сделала или сказала то, что он мне только что сказал сделать или сказать. По правде говоря, после четырёх дней задержки на нашем пути находка такого важного следа была светом во тьме. Теперь мы уже сможем пройти через иерусалимское испытание, каким бы оно ни было, и как можно скорее отправиться в Афины.
Таким образом, благодаря длительным разговорам с капитаном мне удалось потянуть время так, что полчаса прошли, а брату не удалось задать мне никаких неловких вопросов. Когда наконец я вернула ему телефон, Пьерантонио усмехнулся. Мы стояли перед его церковью, церковью францисканцев.
— Ты, наверное, думаешь, что мы уже не сможем поговорить о твоём друге Фараге, — сказал он, придерживая меня за локоть и направляя к вымощенной камнем улочке, ведущей к Крестному Пути.
— Совершенно верно.
— Крошка Оттавия, я только хочу тебе помочь. Если тебе плохо, ты можешь на меня рассчитывать.
— Мне очень плохо, Пьерантонио, — призналась я, поникнув головой, — но, наверное, у всех монахов когда-нибудь бывает подобного рода кризис. Мы не особые существа, и человеческие чувства нам не чужды. Разве с тобой никогда такого не было?
— Ну… — пробормотал он, глядя в противоположную сторону. — Честно говоря, да. Но это было уже давно, и в конце концов, слава Богу, моё призвание восторжествовало.
— На это я и надеюсь, Пьерантонио. — Мне хотелось его обнять, но мы были не в Палермо. — Я надеюсь на Бога, и если Он хочет, чтобы я следовала на Его зов, Он поможет мне.
— Я буду молиться за тебя, сестричка.
Мы дошли до площади Гроба Господня, и хранитель ключей, как и обещал, ждал меня перед дверями. Я медленно подошла и встала в нескольких шагах от него.
— Повторите мне, пожалуйста, фразу, — любезно попросил меня он.
— Мне сказали: «Спроси имеющего ключи: того, кто открывает, и никто не закрывает, и закрывает, и никто не открывает».
— Очень хорошо, госпожа. Теперь слушайте внимательно. У меня для вас следующее сообщение: «Седьмое и девятое».
— «Седьмое и девятое»? — непонимающе переспросила я. — Что за седьмое и что за девятое? О чём вы говорите?
— Не знаю, госпожа.
— Не знаете?
Человечек пожал плечами. Вечер был очень жарким.
— Нет, нет, госпожа. Я не знаю, что это значит.
— Тогда как вы связаны со… со ставрофилахами?
— С кем? — Он удивлённо поднял брови и ладонью отбросил назад чёрную чёлку. — Простите, я ничего об этом не знаю. Понимаете, меня зовут Якуб Нуссейба. Муджи Якуб Нуссейба. Наша семья Нуссейба каждый день открывает и закрывает двери базилики Гроба Господня с 637 года, когда халиф Омар вручил нам ключи. Когда халиф вступил в Иерусалим, моя семья служила в его армии. Чтобы избежать конфликтов между христианами, которые очень враждовали друг с другом, он передал ключи нам. С тех пор уже в течение тринадцати веков старший сын каждого поколения Нуссейба становится хранителем ключей. В какой-то момент к этой долгой традиции присоединилась ещё одна, уже тайная. Когда отец передаёт сыну ключи, он говорит ему: «Когда тебя спросят, ты ли имеющий ключи, тот, кто открывает, и никто не открывает, и закрывает, и никто не закрывает, ты должен ответить: «Седьмое и девятое». Мы заучиваем это наизусть и уже многие века произносим в ответ на вопрос, который задали сегодня вы.
Седьмое и девятое, опять семь и девять, Дантовы числа, но к чему они относятся на этот раз?
— Желаете ли что-нибудь ещё, госпожа? Уже поздно…
Я легонько покачала головой, чтобы выйти из задумчивости, и взглянула на Муджи Нуссейбу. Генеалогическое древо этого человечка было древнее, чем у многих королевских домов Европы, и тем не менее по его внешнему виду никто не мог бы отличить его от обычного официанта в кафе.
— И много людей приходили и задавали вам такой же вопрос, как я? Ну, то есть…
— Понимаю, понимаю… — поспешил ответить он, делая мне знак рукой, чтобы я замолчала. — Отец передал мне ключи десять лет назад, и с тех пор я повторял ответ девятнадцать раз. С вами — двадцать.
— Двадцать!
— Мой отец повторил его шестьдесят семь раз. Кажется, там было и пять женщин.
Кремень велел мне спросить ещё и про Аби-Руджа Иясуса, но хранитель ключей не дал мне такой возможности.
— Мне действительно очень жаль, госпожа, но мне нужно идти. Дома меня ждут, и уже поздно. Надеюсь, я вам чем-то помог. Да хранит вас Аллах.
И, сказав это, он быстрым шагом исчез, оставив меня с большим числом вопросов, чем были у меня до разговора с ним.
Внезапно перед моим лицом материализовалась рука без туловища, но с сотовым телефоном.
— Позвонишь своим дружкам? — спросил меня Пьерантонио.
— «Седьмое и девятое»? — воскликнул капитан, гигантскими шагами расхаживая из конца в конец кабинета. Он был похож на льва в клетке; уже четыре дня он сидел взаперти и набирал на компьютере фразы молитвы, чтобы увидеть, появляются ли они в каких-то других документах, и достиг лишь того, что пропустил встречу с хранителем ключей, а также утратил немногое оставшееся у него терпение, услышав данное мне им загадочное указание. — Вы уверены, что он сказал: «Седьмое и девятое»?
— Абсолютно уверена, капитан.
— «Седьмое и девятое», — задумчиво повторил Фараг. — Седьмое испытание и девятое, которого нет? Седьмое и девятое слово в молитве? Седьмой и девятый стих круга гневливых? Седьмая и девятая симфонии Бетховена? Седьмое и девятое что-то, чего мы не знаем?
— Какие на этом уступе у Данте седьмая и девятая строфы?
— Но я же говорил вам, что в четвёртом круге, кроме дыма, ничего интересного! — зарычал Глаузер-Рёйст, не прерывая своего отчаянного хождения.
Фараг взял со стола экземпляр «Божественной комедии» и начал искать шестнадцатую песнь «Чистилища». Капитан презрительно смотрел на него.
— Меня что, вообще никто не слушает? — пожаловался он.
— Седьмая строфа шестнадцатой песни, — сказал Фараг, — с 19-го по 21 стихи гласит:
Там «Agnus Dei» пелось во вступленье;
И речи соблюдались, и напев
Одни и те же, в полном единенье.
— О чём это пишет Данте? — поинтересовалась я.
— О душах, которые приближаются к ним с Вергилием. Поскольку, ослеплённые дымом, они их не видят, они знают об их приближении, потому что слышат, как те поют «Agnus Dei».
— «Agnus Dei»? — завопил Кремень.
— Молитву, которую мы читаем во время мессы, когда священник преломляет Хлеб: «О Агнец Божий, принявший грехи мира, прими молитву нашу!»
— Я же говорил вам, что эти строфы тут ни при чём!
Фараг снова перевёл глаза на книгу:
— Вот девятая строфа этой же песни:
«А кто же ты, идущий в нашем дыме
И вопрошающий про нас, как те,
Кто мерит год календами земными?»
— Души удивляются присутствию живого на уступе, — заключила я. — Ничего интересного.
— Да уж конечно, — согласился Фараг, снова просматривая строфы.
Глаузер-Рёйст нетерпеливо фыркнул.
— Я же говорил! Единственно, что здесь важно, так это дым, а дым — это проклятая молитва, которая не даёт нам ничего разглядеть.
— Фараг, о каких ещё вариантах ты говорил?
— Каких вариантах?
— Когда ты сказал, что седьмая и девятая могут быть строфами шестнадцатой песни, у тебя были другие варианты.
— Ах да! Я сказал, что это могут быть проходимые нами испытания, но, раз их только семь, этот вариант отпадает. Не думаю также, что это могут быть седьмая и девятая симфонии Бетховена, так ведь? Ну и ещё я сказал, что это могут быть седьмое и девятое слово из молитвы отца Стефана!
— Это неплохой вариант, — заявила я, вставая и подходя к фотографии на планшете, воспроизводившей текст в натуральную величину. После четырёх дней напряжённой работы над молитвой я запомнила её наизусть и, не глядя, знала, что там написано: «Ты, преодолевший гордыню и зависть, преодолей теперь гнев терпением. Так же, как растение бурно растёт по воле солнца, проси Бога, чтобы Его божественный свет осветил тебя с неба. Иисус сказал: не бойся ничего, кроме грехов. Христос накормил вас в группах из ста и пятидесяти голодных. Его благословенное слово не сказало: в группах из девяноста и из двух. Так что доверься справедливости, как афиняне, и не бойся могилы. Уверуй в Христа, как уверовал даже порочный сборщик податей. Твоя душа как птица, беги и стремись к Богу. Не преграждай ей путь грехами, и она достигнет Его. Если ты победишь зло, солнце взойдёт до рассвета. Очисти душу твою, склонившись перед Богом, как смиренный проситель. С помощью Истинного Креста нещадно ударь по своим земным страстям. Распнись на нём, как Христос, семью гвоздями и семью ударами. Если ты сделаешь это, то Христос в своём величии выйдет встречать тебя у сладчайшей двери. Да будет твоё терпение преисполнено этой молитвой. Аминь». Я вздохнула… В одном не было ни малейшего сомнения: как сказал Глаузер-Рёйст, это настоящая дымовая завеса.
— Оттавия, возьми фломастер, — попросил меня Фараг со своего места. — Мне пришла в голову мысль.
Я послушно повиновалась, потому что, когда у Фарага рождалась идея, это всегда была хорошая идея. Так что, вооружившись толстым чёрным фломастером, я застыла, как усердная ученица, ожидая, пока учитель начнёт делиться своей мудростью.
— Ну вот, предположим, что два предложения, написанных чернилами двух цветов, уже сами по себе обладают особым смыслом.
— На этой неделе мы уже несколько раз об этом говорили, — грубо проворчал Кремень.
— «Ты, преодолевший гордыню и зависть, преодолей теперь гнев терпением». Без сомнения, эта первая фраза нужна, чтобы привлечь к себе внимание. Желающий стать ставрофилахом приходит в крипту Гроба Господня и, находясь перед реликвариями, обнаруживает доску с этой фразой, предупреждающей его о том, что всё последующее является частью испытания, которое ему надлежит пройти.
— Не понимаю только, — пробормотала я, — как прибывающие в Иерусалим на инициацию в братстве ставрофилахов могут узнать о существовании этой потайной крипты и как они могут туда попасть.
— Как давно мы начали проходить испытания? — вдруг спросил Кремень, останавливаясь на месте и опираясь на спинку своего кресла.
— Ровно две недели назад, — ответила я. — В воскресенье, 14 мая. В этот день я была в Палермо на похоронах отца и брата, когда вы с Фарагом позвонили мне по телефону. Сегодня воскресенье, 28 мая, так что прошло ровно две недели.
— Значит, две недели. Ладно, теперь представьте себе, что вместо того, чтобы перебираться из города в город на вертолёте или самолёте, вместо того, чтобы пользоваться компьютерами и интернетом, иметь в нашем распоряжении неоценимый кладезь ваших знаний и знаний других людей, которые помогают нам в разных городах, так вот, представьте себе, что только одному из нас нужно было бы пройти все расстояния пешком или верхом и разобраться с загадками Святой Лючии и Пифагора. Сколько у него ушло бы на это времени, как думаете?
— Вопрос сформулирован не совсем правильно, Каспар, — возразил профессор. — Имейте в виду, что то, что для нас является исторически устаревшими знаниями, для человека с XII по XVIII века входило в содержание обычной учёбы. Обучение было направлено на достижение полноты, на то, чтобы человек был одновременно художником, скульптором, поэтом, архитектором, астрономом, музыкантом, математиком, атлетом, трубадуром… Всем сразу! Наука и искусство не были разделены так, как они разделены сейчас. Вспомните Хильдегарду Бингенскую, Леона Батисту Альберти, Тротулу Руджьеро или Леонардо да Винчи. Любой средневековый или ренессансный соискатель звания ставрофилаха, как Данте Алигьери, с малолетства учил всё то, что нам приходится выуживать из закоулков памяти. Данте к тому же был врачом, вы знали об этом?
— Хорошо, но Аби-Рудж Иясус, — не согласилась я, — единственный современный нам ставрофилах, которого мы знаем, не получал этого классического образования, о котором ты говоришь. На самом деле не знаю, получил ли он хоть какое-то образование.
— Откуда ты знаешь?
— Ну, наверняка не знаю, но будучи родом из Эфиопии, страны, где люди умирают от голода и где больше половины населения живёт в лагерях беженцев…
— Ты ошибаешься, Оттавия, — поправил меня Фараг. — Эфиопия — одна из стран, истории, традициям и культуре которой в пору позавидовать Европе и Америке. До того, как она попала в то катастрофическое положение, в котором находится сейчас, Эфиопия, или Абиссиния, была богатой, сильной, могущественной и, прежде всего, образованной, очень образованной страной. Просто то, что мы видим сейчас по телевизору, наводит нас на мысль о жалкой стране, затерянной в далёком уголке Африки, но не забывай, что царица Савская была эфиопкой и что королевская семья этой страны считала себя потомками царя Соломона.
— Профессор, пожалуйста! — неучтиво вмешался Кремень. — Не будем отходить от темы! Я задал вам простой вопрос, а вы мне не ответили. Сколько времени ушло бы на эти испытания у одного из нас, не располагающего никакой помощью?
— Наверное, месяцы, — ответила я. — Или даже годы.
— Вот об этом я и говорю! Соискатели звания ставрофилаха не торопятся. Они переходят из одного города в другой, от одного испытания к другому, и у них на это есть сколько угодно времени. Они изучают, спрашивают, используют мозги… Если они добираются до Иерусалима, то, по логике, живут в этом городе несколько месяцев, пока не…
— Пока не утрачивают терпение, именно об этом и речь, — с улыбкой заметил Фараг.
— Вот именно! Но у нас этого времени нет. За две недели мы прошли Предчистилище и два первых круга.
— И если нам немного повезёт, Каспар, если сегодня вечером мы продолжим работу, за несколько дней мы разгадаем первую часть третьего круга.
Слова Фарага прозвучали как призыв к вниманию, и я снова крепко сжала фломастер, а он продолжал:
— До того, как мы перешли к этой приятной беседе, я говорил, что, когда желающий стать ставрофилахом попадает в крипту Честного Древа, он находит там доску, на которой красуется христограмма Константина и пара выделенных красным фраз, которые привлекают к себе его внимание, поскольку первая из них указывает ему на то, что он наконец стоит на пороге испытания греха гнева и что для его прохождения ему нужно будет быть терпеливым, очень терпеливым, поскольку терпение является теологической добродетелью, противопоставляемой смертному греху гнева. А последняя фраза, гласящая: «Да будет твоё терпение преисполнено этой молитвой», говорит ему, что разгадку он должен искать в самой молитве, поскольку в ней его поиск исполнится. Так что, отбрасывая две выделенные красным цветом фразы, нам остаётся чёрный текст, и, думаю, именно там нам нужно искать «седьмое и девятое».
— Значит, седьмое и девятое слово? — спросила я, поворачиваясь к репродукции.
— Раз лучших идей нет, попробуем это. — И Фараг посмотрел на Кремня, который даже не пошевельнулся.
— Седьмое слово «οταν» — «когда», — сказала я, обводя её кругом, — а девятое «ελιος» — «солнце».
— «Хотан хо хелиос…» — с довольным видом произнёс Фараг. — «Когда солнце…» По-моему, мы угадали, Басилея! По крайней мере смысл есть.
— Рано радуетесь, — упрекнул его Глаузер-Рёйст. — Совпадение может быть случайным. Кроме того, эти слова не совпадают со словами перевода.
— Художественный перевод никогда не совпадёт с оригиналом, Каспар. Но эти совпадают с буквальным переводом этой фразы, который звучал бы так: «Так же, как растение бурно растёт, когда хочет солнце».
— В общем, если предположить, что это седьмое и девятое слово каждого предложения, — объявила я, чтобы не дать им снова затеять спор, — следующие слова: «κατεδυ» и «εκ» — «заходить» и «от».
— Вот вам доказательство, Каспар! «Хотан хо хелиос катеди эк…» Или, что то же самое: «Когда солнце зайдёт от…» Это греческое выражение, означающее «на закате». Ну как вам?
Я продолжала отсчитывать и обводить слова, пока в тексте молитвы не было выделено всё послание.
— «Когда солнце зайдёт, — буквально перевела я, закончив свою работу, — от ста и девяноста двух афинян могилы до сборщика податей. Беги и достигни до рассвета. Как проситель ударь семью ударами в дверь».
— Здесь есть смысл! — воскликнул Фараг.
— Вот как? — с издёвкой произнёс Кремень. — Тогда давайте объясните мне его, потому что я его не вижу.
Фараг одним прыжком оказался рядом со мной.
— На закате от могилы ста девяноста двух афинян до сборщика податей. Беги и достигни до рассвета…
— Зачем ты ставишь точки, как в молитве? — вмешалась я. — Если их убрать, фраза выходит лучше.
— Точно. Ну-ка. На закате, гм… На закате беги от могилы ста девяноста двух афинян до сборщика податей и достигни до рассвета. Как проситель ударь семью ударами в дверь. По-гречески «достигать» и «добегать» — одно и то же.
— По-моему, выходит очень хорошо. Перевод совершенно верный, — сказала я.
— Вы уверены, доктор? Потому что я не очень понимаю, как можно бежать от ста девяноста двух афинян до сборщика податей. Если вы, конечно, не будете в обиде на мои слова.
— По-моему, нам нужно выйти поужинать и продолжить чуть позже, — предложил Фараг. — Мы устали, и отдых пойдёт нам на пользу: мы восстановим силы и прочистим мозги разговорами о посторонних вещах. Что скажете?
— Я согласна, — с энтузиазмом присоединилась к нему я. — Пойдёмте, капитан. Пора сделать перерыв.
— Идите сами, — сказал Кремень. — У меня дела.
— Какие это дела? — спросила я, беря с кресла куртку.
— Я мог бы ответить, что это вас не касается, — раздражённо ответил он, — но я хочу поискать информацию об этих афинянах и сборщике податей.
Спускаясь по лестнице в столовую, я не могла не вспомнить всё то, что брат рассказал мне о капитане Глаузер-Рёйсте. Я чуть не рассказала обо всём Фарагу, но подумала, что не стоит этого делать, что лучше не распространять подобные сведения, а если они и будут распространяться, то по крайней мере не через меня. Есть определённые вещи, в которых я предпочитала играть роль конечной, а не транзитной остановки.
Когда, уже сидя за столом, я вышла из раздумий, бирюзово-голубые глаза профессора смотрели на меня так, что я не смогла выдержать его взгляда. На протяжении всего ужина я избегала его глаз, словно они жгли огнём, хотя пыталась, чтобы мой голос и речь были абсолютно нормальными. Однако должна признать, что, несмотря на то, что я боролась с собой всеми силами, в тот вечер он показался мне… очень красивым. Да, именно так. Очень привлекательным. Не знаю, то ли дело в том, как спадали ему на лоб волосы, то ли в том, как он жестикулировал или как улыбался, но что-то в нём такое было… В общем, он был ужасно хорош собой! По дороге назад в кабинет, где нас ожидал милый Глаузер-Рёйст, которому Фараг нёс тарелку с ужином, я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги, и захотела убежать, вернуться домой, скрыться и никогда его больше не видеть. Я закрыла глаза, отчаянно пытаясь найти покровительство у Бога, но не смогла.
— С тобой всё в порядке, Басилея?
— Я хочу скорее покончить с этой отвратительной авантюрой и вернуться в Рим! — от всей души воскликнула я.
— Надо же! — В его голосе слышалась грусть. — Такого ответа я ожидал в последнюю очередь!
Когда мы вошли в кабинет, Глаузер-Рёйст быстро барабанил инструкции компьютеру.
— Как дела, Каспар?
— Кое-что есть… — процедил он сквозь зубы, не отводя взгляда от экрана. — Просмотрите-ка эти бумаги. Вам понравится.
Я взяла стопку бумаги, лежавшую в поддоне принтера, и начала читать заголовки: «Марафонская усыпальница», «Изначальный марафонский маршрут», «Забег Фидипида», «Местечко Пикерми» и, к моему удивлению, две страницы на греческом: «Тимбос Маратонос» и «Маратонас».
— Что всё это значит? — встревожилась я.
— Это значит, что в Греции, доктор, вам придётся пробежать марафон.
— Пробежать сорок два километра? — Мой голос перешёл на визг.
— На самом деле нет, — сказал Кремень, морща лоб и сжимая губы. — Только тридцать девять. Я обнаружил, что забег, который делают сейчас, не отвечает тому, который совершил Фидипид в 490 году до нашей эры, чтобы сообщить афинянам о победе над персами на Марафонской равнине. Согласно данным Международного олимпийского комитета, опубликованным на одной из его веб-страничек, современная дистанция в сорок два километра была введена в 1908 году, на Олимпийских играх в Лондоне, это расстояние между Виндзорским замком и стадионом в Уайт-Сити, на западе города, где проводились игры. Между деревней Марафон и Афинами всего тридцать девять километров.
— Не хочу вас расстраивать, — заговорил Фараг, к которому снова вернулся явный арабский акцент, почти пропавший за последние недели, — но, кажется, этот самый Фидипид, принеся хорошую весть, сразу умер.
— Да, но не из-за бега, профессор, а из-за полученных в битве ран. Судя по всему, Фидипид несколько раз пробегал сто шестьдесят шесть километров, которые отделяют Афины от Спарты, доставляя сообщения из города в город.
— Ладно, но давайте подумаем… Как всё это связано со ста девяноста двумя афинянами?
— В Марафоне стоят два гигантских кургана с захоронениями, — пояснил Кремень, заглядывая в новые страницы, выползающие из принтера. — В этих захоронениях, похоже, находятся тела погибших в этой знаменитой битве воинов: шести тысяч четырехсот персов с одной стороны и ста девяноста двух афинян с другой. Именно эти цифры приводит Геродот. Согласно этим данным, нам нужно на закате отправиться от захоронения афинян и до рассвета прибыть в город Афины. Но я до сих пор не выяснил место назначения в Афинах: сборщик податей.
— То есть разгадка иерусалимского испытания — это подсказка к испытанию в Афинах.
— Да, доктор. Поэтому Данте сплавляет оба круга в середине семнадцатой песни.
— И нас не пометят крестом?
— Об этом не беспокойтесь. Это они сделают.
— Значит, мы бежим в Грецию? — засмеялся Фараг.
— Как только догадаемся, кто такой сборщик податей.
— Этого я и боялась, — проворчала я, садясь в кресло и пролистывая остававшиеся у меня в руках бумаги. Зная капитана, попрощаться с братом мне не удастся.
— Каспар, вы пробовали искать слово, обозначающее сборщика податей на греческом языке?
— Нет. Мне не позволяет клавиатура компьютера. Нужно скачать какую-нибудь новую версию браузера, где можно будет писать в строке поиска буквами других алфавитов.
Какое-то время он корпел над этой проблемой, потихоньку расправляясь с принесённым нами ужином. За это время мы с Фарагом прочли распечатанные страницы о марафонском забеге. Я, которая никогда не занималась никакими физическими упражнениями, которая вела самый сидячий образ жизни в мире и никогда не интересовалась никаким видом спорта, теперь внимательно изучала подробности исторического забега, который мне вскоре предстояло осуществить. «Но я же не умею бегать! — с тоской повторяла я. — Безмозглые ставрофилахи! Как они могут требовать, чтобы я пробежала тридцать девять километров за одну ночь! Да ещё в темноте! Они что, думают, что любой может стать Абебе Бикилем[36]? Скорее всего я умру на каком-нибудь пустынном холме под холодным светом луны, и рядом со мной не будет никого, кроме диких зверей. И всё это ради чего? Чтобы заполучить новый красивый шрамчик на тело?»
Наконец капитан заявил, что он готов ввести греческий текст в работающие с ним поисковые системы интернета, так что я подошла к компьютеру и села на его место. Писать было непросто, потому что латинские буквы, которые я нажимала, не совсем совпадали с виртуальными греческими, появлявшимися на экране, но скоро я овладела премудростями и смогла писать достаточно свободно. Я понятия не имела, что делаю, потому что, как только я набирала «καπνικαρειας» («капникареиас»), капитан прогонял меня с кресла и снова усаживался за компьютер; но поскольку я всё равно была ему нужна, чтобы разобраться в том, что написано на появлявшихся на мониторе страницах, в результате начало казаться, что мы играем в игру «займи стул».
Так как классический и византийский греческий языки довольно сильно отличаются от современного, нам попадалось много слов или целых конструкций, которые я не понимала, поэтому я обратилась за помощью к Фарагу, и вдвоём мы пытались приблизительно перевести то, что появлялось на экране. Наконец, уже около полуночи, в греческом поисковике под названием «Эллас» нам попалась ссылка, которая оказалась ключевой: короткое примечание на виртуальной странице гласило, что больше ссылок не найдено, но есть двенадцать похожих страниц, которые мы можем при желании просмотреть. Конечно, мы согласились. Одной из похожих ссылок оказалась страница, посвящённая красивой византийской церкви, расположенной в сердце Афин и называемой Капникареа. Там было написано, что церковь Капникареа известна под именем церкви Принцессы, потому что её основание приписывали императрице Ирине, правившей в Византии между 797-м и 802 годами нашей эры. Однако в действительности основателем церкви был богатый сборщик податей на недвижимость, который решил дать церкви имя в честь своей прибыльной профессии: «Капникареас», сборщик податей.
У нас были теперь пункт отправления и пункт назначения, оставалось только поехать в Грецию, в прекрасный город Афины, колыбель человеческой мысли. Но это мы сделали на следующий день, после того, как Глаузер-Рёйст всю ночь провисел на телефоне, отдавая указания, запрашивая информацию и организовывая нашу жизнь на ближайшие дни с помощью Священного Синода Греческой Церкви. Мы окончательно покидали территорию, которая ещё могла считаться латинской и католической, чтобы полностью окунуться в мир восточного христианства. Если всё пройдёт так, как ожидалось, после Афин, города, где нам предстояло совершить забег против греха лени, нам предстояло посетить алчный Константинополь, чревоугодническую Александрию и сладострастную Антиохию, именующуюся ныне Антакией.
Перелёт от Тель-Авива до афинского аэропорта Эллиникон на маленьком «Вествинде» «Алиталии» занял у нас неполных три часа, во время которых мы напряжённо занимались подготовкой четвёртого круга, четвёртого уступа Чистилища, находившегося уже на полпути к вершине.
Освобождённый третьим ангелом от очередной буквы «Ρ» Данте Алигьери идёт, сбросив тяжесть греха гнева, и, чувствуя себя облегчённым, испытывает потребность задать своему проводнику массу вопросов. Как и в предыдущем круге, конкретного содержания, относящегося к сущности испытания, здесь минимум, а половина семнадцатой и вся восемнадцатая песнь посвящены решению серьёзных вопросов, связанных с любовью. Вергилий поясняет Данте, что три больших круга, которые они уже прошли — уступы гордыни, зависти и гнева, — это место, где искупаются грехи, приводящие к желанию зла ближнему своему, поскольку все три из них связаны с радостью, вызванной унижением и болью других. Напротив, в трёх оставшихся им кругах, расположенных на маленьких верхних уступах — алчности, чревоугодия и сладострастия, — смываются грехи, в которых вред причиняется самому себе:
«Скажи, какая, — я сказал, — вина
Здесь очищается, отец мой милый?
Твой скован шаг, но речь твоя вольна».
«Любви к добру, неполной и унылой,
Здесь придаётся мощность, — молвил тот. —
Здесь вялое весло бьёт с новой силой».
После этого, бредя по уступу, они заводят ещё одну длинную дискуссию о природе любви и её положительном и отрицательном влиянии на людей и только спустя сорок пять терцетов, после того, как Вергилий закрывает эту тему рассуждением о свободной воле человеческого существа, появляется толпа кающихся ленивцев:
А я, приняв столь ясный и желанный
Ответ на каждый заданный вопрос,
Стоял, как бы дремотой обуянный.
Но эту дрёму тотчас же унёс
Внезапный крик, и показались тени,
За нами обегавшие утёс.
[…] Мгновенно это скопище большое,
Спеша бегом, настигло нас, и так,
Всех впереди, в слезах кричали двое:
«Мария в горы устремила шаг[37],
И Цезарь поспешил, кольнув Марсилью,
В Испанию, где ждал в Илерде враг».
«Скорей, скорей, нельзя любвеобилью
Быть вялым! — сзади общий крик летел. —
Нисходит милость к доброму усилью».
Как всегда, учитель Вергилий спрашивает у душ, где проход, ведущий к следующему уступу, и одна из них, как и другие, без остановки пробегающая мимо, призывает их бежать за ними, так как, следуя их путём, они найдут проход. Но поэты остаются стоять, удивлённо наблюдая за тем, как души, ленивые при жизни, теперь со скоростью ветра исчезают вдали. Уставший от целого дня ходьбы Данте засыпает глубоким сном, раздумывая об увиденном, и на этом сне, служащем переходом между песнями и кругами, завершается четвёртый уступ «Чистилища».
В аэропорту Эллиникон, куда мы прибыли около полудня, нас ожидал официальный автомобиль его высокопреосвященства архиепископа Афинского Христодулоса Параскевиада, который доставил нас к дверям гостиницы «Гран Бретань», где мы должны были остановиться, на самой площади Платеиа-Синтагматос, рядом с греческим парламентом. Дорога из аэропорта была долгой, а въезд в город поразительным. Афины казались разросшейся старой деревней, которая не желала показывать свой статус исторической и европейской столицы, пока вы не попадали в самое сердце города. Только тогда, когда Парфенон приветствовал путешественника с высоты Акрополя, было видно, что это город богини Афины, город Перикла, Сократа, Платона и Фидия; город, который любили римский император Адриан и английский поэт лорд Байрон. Даже воздух казался другим, наполненным невообразимыми запахами: запахами истории, красоты и культуры, которые набрасывали покров невидимости на все поблекшие и увядшие черты Афин.
Швейцар в зелёной ливрее и фуражке любезно открыл нам дверцы машины и позаботился о нашем багаже. Гостиница была старой, и вид её впечатлял: огромный холл цветного мрамора и серебряные лампы. Нас встретил сам директор, который почтительно провёл нас до зала для совещаний на втором этаже, словно мы крупные государственные деятели, а у его дверей нас уже ожидала большая группа высокопоставленных православных прелатов с длинными бородами и потрясающими крестами на груди. Внутри, удобно усевшись в углу, нас ждал его высокопреосвященство Христодулос.
Меня удивил прекрасный, цветущий внешний вид архиепископа, которому было не больше шестидесяти, и его моложавое лицо. Борода у него была ещё довольно тёмной, а взгляд — внимательным и приветливым. Увидев нас, он сразу встал и, широко улыбаясь, шагнул нам навстречу.
— Я очень рад принять вас в Греции! — выпалил он вместо приветствия на чистейшем итальянском. — Я хотел бы передать вам нашу глубочайшую благодарность за то, что вы делаете для христианских церквей.
Нарушив протокол, архиепископ Христодулос сам представил нам остальных присутствующих священников, среди которых была большая часть членов Синода Элладской Церкви (я осознала своё невежество, поскольку была не в состоянии различить ранги православной иерархии по одежде и нагрудным украшениям): его высокопреосвященство митрополит Стагеса и Метеора Серафим (как оказалось, здесь было не принято называть фамилии священников, занимающих высокие церковные должности); митрополит Кайсариани, Вирона и Химеттуса Даниил; митрополит Месогаии и Лауреотики Агафоник; их высокопреосвященства митрополиты Мегары и Саламины, Халкиды, Фессалиотиды и Фанариоферсалы, Милетен, Эрессоса и Пломариона… Одним словом, длинный перечень почтенных митрополитов, архимандритов и епископов с величественными именами. Если встреча в день нашего приезда в Иерусалим показалась мне преувеличенным результатом любопытства патриархов, встреча в этом зале гостиницы «Гран Бретань» показалась мне ещё более чрезмерной. Сами того не желая, мы превратились в героев.
Присутствующие возлагали на наши действия огромные надежды. Несмотря на наш неоднократный отказ, в конце концов капитану Глаузер-Рёйсту пришлось рассказать о рискованных приключениях, через которые нам приходилось пройти до сих пор, опустив, однако, все важные подробности и всё, что касалось братства ставрофилахов. Мы никому не доверяли, и было бы вовсе не безумием предположить, что в этом приятном обществе находится внедрившийся член секты. Несмотря на многочисленные просьбы, он также ничего не сказал о том, какое именно испытание предстояло нам пройти в Афинах в эту ночь. Во время перелёта в самолёте мы решили, что важно сохранить это в секрете, так как невинное вмешательство какого-нибудь любопытного могло сорвать нам достижение цели. Естественно, его высокопреосвященство Христодулос, а также кое-кто из близких ему в Синоде людей были в курсе, но больше никто не должен был знать, что на закате этого дня трое странных бегунов, по крайней мере двое из которых больше походят на библиотекарей, чем на атлетов, оросят потом землю Аттики, чтобы получить право и дальше рисковать жизнью.
Нас пригласили на великолепный обед в отдельном зале ресторана гостиницы, и я получила море удовольствия от тарамосалата[38], мусаки[39], сувлакии с цацики (жаренных на решётке кусочков свинины, маринованной в лимонном соке с травами и оливковым маслом, в сопровождении знаменитого соуса из йогурта, огурца, чеснока и мяты) и оригинального клефтико[40]. Отдельного упоминания заслуживает ни с чем не сравнимый греческий хлеб, приготовленный с изюмом, травами, овощами, оливками и сыром. А на десерт немного «свежики фруктики». Чего ещё желать? Нет на свете кухни лучше средиземноморской, и Фараг доказал это, пообедав за троих или за четверых.
Когда мы наконец освободились от протоколов и священники-бородачи разошлись, нам пришлось поскорее браться за работу, потому что оставалось ещё много дел. Его высокопреосвященство Христодулос захотел остаться с нами на весь вечер, посмотреть, как мы готовимся к испытанию и организовываем забег, и вопреки тому, что могло показаться, присутствие столь важной особы оказалось не помехой, а совсем наоборот, потому что, как только исчезли члены Синода и епископы из архиепископства, его высокопреосвященство явил нам жизнерадостный, молодой и спортивный дух, намного превосходящий настрой нас троих вместе взятых.
— Я должен готовиться к Олимпийским играм 2004 года! — постоянно повторял его высокопреосвященство, который гордился и радовался по поводу того, что Афины были выбраны следующей за Сиднеем столицей Олимпийских игр.
Его высокопреосвященство рассказал нам, что первые Игры современности состоялись в Греции в апреле 1896 года, после более чем тысячапятисотлетнего перерыва. Победителем в марафонском забеге стал двадцатитрёхлетний греческий пастух не больше метра шестидесяти ростом по имени Спирос Луис. Впоследствии признанный национальным героем Спирос пробежал расстояние от деревни Марафон до олимпийского стадиона в Афинах за два часа пятьдесят восемь минут и пятьдесят секунд.
— Он, наверное, был профессиональным бегуном? — с интересом спросила я. В глубине души я была абсолютно уверена, что не смогу преодолеть это испытание, и эта уверенность была больше, чем сомнение или колебания. Я просто знала, что никогда в жизни не смогу пробежать тридцать девять километров. Это было эмпирически, по-картезиански невозможно.
— Нет, нет! — ответил его высокопреосвященство, широко и горделиво улыбаясь. — Спирос участвовал в забеге совершенно случайно. В то время он был солдатом в греческой армии, и в последний момент его полковник уговорил его попробовать. Да, он, кажется, действительно хорошо бегал, но у него не было ни тренировок, ни подготовки. Он просто кинулся бежать из патриотизма, чтобы кто-то из греков бежал в самом важном греческом забеге. Мы же не могли позволить выиграть иностранцу!
Однако Спирос не получил за свой подвиг золотой медали, потому что на тех первых Олимпийских играх эту награду чемпионам ещё не вручали. Всё же ему предоставили пожизненную ежемесячную пенсию в размере 100 драхм, и он получил телегу и коня, чтобы работать в поле.
— Но знаете, что самое интересное? — гордо добавил его высокопреосвященство. — Через сорок лет после этого он был знаменосцем греческой делегации на церемонии открытия Олимпийских игр в Берлине в 1936 году и передал в руки Адольфа Гитлера лавровый венок, символ мира.
— Но он всё же не был спортсменом, так ведь? — снова спросила я.
— Нет, сестра, нет. Он не был спортсменом.
— Ну, раз он не был спортсменом и на то, чтобы пробежать тридцать девять километров, у него ушло почти три часа, сколько времени может уйти у нас? — поинтересовалась я, глядя на капитана.
— Всё не так просто, доктор.
Кремень достал записную книжку размером с небольшой кошелёк и начал листать её страницы, пока не нашёл нужную запись.
— Сегодня 29 мая, — начал он своё объяснение, — и, согласно данным, полученным из архиепископства, солнце в Афинах сядет в 20:56. Завтра, 30 мая, солнце взойдёт в 6:02 утра. Так что у нас есть девять часов шесть минут на прохождение испытания.
— А, тогда — да! — воскликнул Фараг, загоревшись энтузиазмом, и в его голосе была слышна такая радость, что все мы удивлённо обернулись к нему. — Что?.. Я просто думал, что не смогу выдержать это испытание!
Как и я, он до сих пор держал свой страх в тайне.
— Я уверена, что не смогу.
— Да ну, Оттавия! У нас больше девяти часов!
— И что! — вспылила я. — Я не могу бежать девять часов. Честно говоря, не думаю, что смогу пробежать и девять минут.
Кремень опять начал листать записную книжку.
— Результаты в марафонском забеге для мужчин не превышают двух часов семи минут, а для женщин — чуть превосходят два часа двадцать минут.
— Я не смогу, — упрямо повторила я. — Знаете, сколько я за последние годы бегала? Ноль! Вообще не бегала! Даже за автобусом!
— Я дам вам инструкции, которым вы должны будете следовать ночью, — продолжал Кремень, не внимая моим протестам. — Во-первых, избегайте перенапряжения. Не бросайтесь бежать, словно вам на самом деле надо выиграть марафон. Бегите плавно, не спеша, экономьте движения. Шаги должны быть короткими и размеренными, амплитуда движений рук небольшой, дыхание равномерным… Когда вам придётся подниматься на холм, делайте это, не форсируя бег, эффективно распределяя усилия, маленькими шажками; когда нужно спуститься с него, сбегайте быстро, но контролируя шаг. Во время бега всё время поддерживайте один и тот же темп. Не очень высоко поднимайте колени и старайтесь не наклоняться вперёд, лучше всего держать тело под прямым углом к земле.
— Да о чём вы говорите? — проворчала я.
— Я говорю о том, как добраться до Капникареи, вы ещё не забыли, доктор? Или хотите завтра утром вернуться в Рим?
— Знаете, что сделал Спирос Луис, добежав до тридцатого километра? — Его высокопреосвященство Христодулос не собирался выслушивать наши споры. — Поскольку он очень устал, он остановился, попросил большой стакан красного вина и одним глотком его выпил. А потом так потрясающе пошёл нагонять — последние девять километров просто летел.
Фараг засмеялся.
— Ну вот, теперь понятно, что нам делать, когда устанем! Пропустить хороший стаканчик вина!
— Не думаю, что сейчас арбитры позволяют такое во время забегов, — ответила я, всё ещё сердясь на Глаузер-Рёйста.
— Как же! Бегуны могут пить что угодно, лишь бы потом результат допингового контроля вышел отрицательным.
— Мы будем пить изотонические напитки, — заявил Кремень. — Особенно часто это придётся делать доктору Салине, чтобы восстановить баланс ионов и минеральных солей. Иначе в ногах у неё могут возникнуть сильные судороги.
Я держала язык за зубами. Для меня раскалённый докрасна пол в церкви Святой Лючии был в тысячу раз лучше, чем это проклятое физическое испытание, к которому я просто не была готова.
Капитан открыл лежавший на столе кожаный портфель и достал оттуда три загадочные маленькие коробочки. В этот момент где-то поблизости часы пробили семь вечера.
— Наденьте эти пульсомеры, — приказал капитан, показывая нам с Фарагом какие-то странные часы. — Профессор, сколько вам лет?
— Ну ты даёшь, Каспар! А это тут при чём?
— Пульсомеры нужно запрограммировать, чтобы они могли контролировать частоту вашего сердцебиения во время бега. Если пульс будет слишком высок, у вас может случиться коллапс или, что ещё хуже, сердечный приступ.
— Я не собираюсь бежать слишком быстро, — презрительно заявила я.
— Пожалуйста, профессор, скажите, сколько вам лет, — снова попросил Кремень, колдуя над одним из пульсомеров.
— Мне тридцать восемь.
— Хорошо, значит, нужно отнять от двухсот двадцати максимальных ударов тридцать восемь.
— Почему? — с любопытством поинтересовался его высокопреосвященство Христодулос.
— Оптимальный пульс мужчин подсчитывают, отнимая их возраст от максимальной частоты сердцебиения, двести двадцати ударов. Так что теоретическое сердцебиение профессора составит сто восемьдесят два удара. Если во время забега пульс ускорится и превысит эту цифру, его здоровье будет под угрозой. Если это случится, пульсомер запищит, хорошо, профессор?
— Хорошо, — согласился Фараг, надевая аппаратик на запястье.
— Доктор, пожалуйста, назовите мне свой возраст.
Этого жуткого момента я ждала. Мне было всё равно, что мой возраст узнают его высокопреосвященство Христодулос и Кремень, но мне было ужасно неприятно, что Фараг узнает, что я на год старше его. Как бы там ни было, другого выхода у меня не было.
— Мне тридцать девять.
— Чудесно. — Кремень и глазом не моргнул. — Частота сердцебиения у женщин ниже, чем у мужчин. Они могут вынести более сильное напряжение. Так что в вашем случае, доктор, мы отнимем тридцать девять от ста восьмидесяти семи ударов. Однако, раз вы ведёте сидячий образ жизни, мы запрограммируем пульсомер на шестьдесят процентов, то есть на сто двенадцать ударов. Вот, возьмите. Не забудьте, что, если он запищит, нужно немедленно замедлить бег и успокоиться, понятно?
— Разумеется.
— Эти подсчёты приблизительны. Все люди разные. В зависимости от подготовки и конституции каждого человека граничные отметки могут меняться. Поэтому руководствуйтесь не только пульсомером. Как только почувствуете что-то странное, остановитесь и отдохните. Ну а теперь переходим к возможным травмам.
— А нельзя это пропустить? — Мне было донельзя скучно. Я была уверена, что травм у меня не будет, так же как и пульсомер никогда не запищит от слишком частого сердцебиения. Я просто пойду быстрым шагом, так быстро, как только смогу, и буду так идти, пока не дойду до Афин.
— Нет, доктор, это пропустить нельзя. Это важно. Перед началом забега мы сделаем несколько упражнений для разминки и растяжки. Основной причиной травм в области щиколотки и колена у людей, ведущих сидячий образ жизни, является недостаточность мышечной массы. В любом случае нам очень повезло, что весь маршрут проходит по асфальтированным дорогам.
— Да что вы? — перебила я его. — А я думала, что бежать придётся прямо по полям.
— Готов поспорить на пульсомер, что ты уже представила, как умрёшь на холме в окружении травы и диких животных! — сдерживая смех, вставил Фараг.
— Ну да. Думаю, нет ничего стыдного, чтобы в этом признаться.
— Доктор, весь маршрут проходит по шоссе. Кроме того, заблудиться мы тоже не сможем, потому что много лет назад греческое правительство приказало провести синюю памятную линию вдоль всех тридцати девяти километров маршрута, и для вящей безопасности дорога проходит через несколько посёлков и городков, как вы сами скоро убедитесь. Так что мы всё время будем в лоне цивилизации.
Вариант заблудиться в лесу окончательно отпадал.
— Если в какой-то момент вы почувствуете резкую острую мышечную боль, от которой перехватывает дыхание, остановитесь. Для вас испытание закончилось. Скорее всего у вас порвались мышцы, и если вы продолжите бег, последствия могут быть необратимыми. Если вы чувствуете обычную, хоть и сильную боль, потрогайте больную мышцу и, если она стала каменной, остановитесь передохнуть. Это может быть началом контрактуры. Помассируйте ногу по ходу мышцы и, когда сможете, сделайте мягкие упражнения на растяжку. Если напряжение спадет, продолжайте бег; если нет — остановитесь. Марафон закончен. А теперь, пожалуйста, — произнёс он, решительно вставая на ноги, — переоденьтесь — и в путь. По дороге мы что-нибудь перекусим. Уже поздно.
В комнате меня ожидала нелепая спортивная одежда. Не то чтобы она была смешнее любого обычного спортивного костюма, но в ней я показалась себе настолько смешной, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Хотя следует признать, что, когда я сняла туфли и надела белые кроссовки, общий вид улучшился. А когда я повязала на шею под куртку скромный шёлковый платок, стало ещё лучше. В конце концов, всё вместе выглядело уже не так жалко, и, бесспорно, в этом костюме было удобно. За последние месяцы возможности сходить в парикмахерскую у меня не было, поэтому волосы у меня отросли так, что их можно было собрать в хвост. Хоть выглядело это несколько экстравагантно, по крайней мере так я смогла убрать гриву с лица. Сверху я надела длинное шерстяное пальто, не столько из-за холода, сколько для того, чтобы никто не видел, как я одета, и спустилась в холл гостиницы, где меня уже ждали мои товарищи, швейцар в зелёной ливрее и шофёр архиепископства.
Всю дорогу до Марафона нас пичкали разнообразными советами и последними напутствиями. Я поняла, что капитан Глаузер-Рёйст никак не собирается ждать нас с Фарагом, и мне показалось, что в какой-то мере это и к лучшему. По замыслу, хотя бы один из нас должен был добраться до Капникареи до восхода. Продолжить испытания было просто необходимо, а для этого хотя бы один из нас должен был попасть туда, чтобы получить следующую подсказку. Хоть мы с Фарагом в этом случае не получили бы шрамов в виде крестов, мы могли бы помогать Кремню на следующих кругах.
В греческих шоссе было что-то от деревенских дорог. Машин было немного, а ширина полос и состояние покрытия заметно отличались от итальянских. Когда мы ехали на машине архиепископства, казалось, что мы вернулись на десять — пятнадцать лет в прошлое. И всё-таки Греция — замечательная страна.
Когда мы наконец въехали в первые улочки Марафона, уже смеркалось. Находившееся в долине в окружении холмов местечко благодаря ровной поверхности земли и раскинувшимся вокруг широким пространствам, несомненно, было идеальным местом для античной битвы. Всё остальное мало чем отличалось от любого трудолюбивого промышленного городка современной Европы. Водитель рассказал нам, что в летний сезон в Марафон съезжается масса туристов, в основном спортсменов и людей, которые хотят попробовать себя в этом знаменитом забеге. Однако в конце мая здесь не было видно никого, кроме местных жителей.
Машина остановилась у тротуара в странном месте на окраине городка, неподалёку от покрытого зелёной травой и кое-какими цветами холмика. Не сводя глаз с кургана, мы вышли из машины, сознавая, что находимся в месте, где произошло одно из самых знаменательных и забытых событий в истории. Если бы персы победили в Марафонском сражении, если бы навязали грекам свою культуру, религию и политику, вероятно, знакомый нам сегодня мир вообще бы не существовал. Всё было бы по-другому, не хуже и не лучше, просто по-другому. Так что эту давнюю битву вполне можно считать дамбой, которая позволила спокойно развиваться нашей культуре. Под этим курганом, по словам Геродота, находились сто девяносто два афинянина, погибших для того, чтобы это стало возможным.
Водитель попрощался с нами и быстро уехал, оставив нас одних. Я оставила пальто в машине, потому что погода стояла прекрасная.
— Сколько осталось, Каспар? — спросил Фараг, на котором была странного вида футболка белого цвета с длинными рукавами и спортивные голубые шорты. У каждого из нас был небольшой матерчатый рюкзачок со всем необходимым для испытания.
— Сейчас полдевятого. Скоро стемнеет. Давайте обойдём холм. — В своём великолепном костюме красного цвета, с видом опытного спортсмена, капитан выглядел лучше всех.
Курган был намного больше, чем казалось на первый взгляд. Когда мы дошли до его края, где начинала расти трава, даже Кремень стал похожим по размеру на муравья. Поскольку вокруг было так безлюдно, услышав голос, звавший нас с другой стороны холма на современном греческом, мы встревожились.
— Что за чёрт? — воскликнул Кремень.
— Давайте посмотрим, — предложила я, обходя захоронение.
Несколько стариков, усевшихся на каменной скамейке и наслаждавшихся хорошей погодой и последними вечерними солнечными лучами, в чёрных шляпах и с обычными деревянными палками вместо посохов, насмешливо оглядывали нас. Мы, конечно, не поняли ничего из того, что они говорили, хотя не думаю, что они хотели с нами говорить. Привыкнув к присутствию туристов, они, наверное, от души веселились, глядя на тех, кто, как и мы, приезжал сюда, переодевшись бегунами, готовыми уподобиться Спиросу Луису. Насмешливые улыбки на их обветренных морщинистых лицах говорили сами за себя.
— Может, это комиссия ставрофилахов? — не сводя с них глаз, предположил Фараг.
— Не хочу даже думать об этом, — вздохнула я, но на самом деле эта мысль у меня уже мелькнула. — У нас начинается паранойя.
— У вас всё готово? — глядя на часы, спросил капитан.
— Почему мы так торопимся? Осталось ещё десять минут.
— Давайте проведём разминку. Начнём с растяжки.
Не прошло и нескольких минут с момента начала этого урока гимнастики, как на улицах зажглись фонари. Солнечный свет был уже столь слаб, что практически ничего не было видно. Старики продолжали наблюдать за нами, выдавая игривые комментарии, которых мы не могли понять. Иногда при виде наших поз они разражались громким хохотом, который серьёзно подтачивал мой настрой.
— Не волнуйся, Оттавия. Это просто старики-крестьяне. Вот и всё.
— Когда мы найдём современного Катона, я скажу ему пару слов о шпионах на их испытаниях.
Старики снова расхохотались, и я яростно повернулась к ним спиной.
— Профессор, доктор… Пора. Не забывайте, что синяя полоса начинается в центре городка, там, где начинался олимпийский марафон 1896 года. До её начала постарайтесь следовать за мной, хорошо? Вы готовы?
— Нет, — заявила я. — И, думаю, никогда не буду готова.
Кремень презрительно посмотрел на меня, и Фараг быстро вмешался:
— Мы готовы, Каспар. Когда скажешь.
Ещё несколько мгновений мы молча простояли на месте, пока Кремень внимательно смотрел на свои наручные часы. Потом вдруг он обернулся, махнул головой и медленно побежал, а мы с Фарагом последовали за ним. Разминка ничего мне не дала; я чувствовала себя как утка на суше, и каждый шаг был для моих колен мукой, словно на них падала пара тонн груза. Что делать, смирившись, подумала я, чего бы это ни стоило, надо не ударить в грязь лицом.
Через несколько минут мы достигли олимпийского памятника, откуда начиналась синяя полоса на асфальте. Это была простая стена белого камня, перед которой стояла массивная погасшая стойка с факелами. С этого места марафон начинался всерьёз. По моим часам была четверть десятого по местному времени. Следуя за линией, мы углубились в город, и я не могла побороть чувство стыда от того, что могут, увидев нас, подумать люди. Но обитатели Марафона не проявили к нам никакого интереса; они, наверное, уже навидались всякого.
На выезде из города, когда перед нами открылась та же прямая трасса, по которой мы приехали сюда, капитан ускорил темп и начал понемногу удаляться от нас. Я, наоборот, начала сбрасывать скорость почти до полной остановки. Следуя моему плану, я перешла на размеренный шаг, которым собиралась идти всю ночь. Фараг оглянулся на меня:
— Что с тобой, Басилея? Ты почему останавливаешься?
Значит, он опять называл меня Басилеей, так? С момента нашего прибытия в Иерусалим это имя звучало только пару раз, я вела им счёт, и, уж конечно, никогда в присутствии других людей, так что это слово стало тайным, личным, предназначенным только для моих ушей.
В этот миг раздался писк моего пульсомера. Я превысила рекомендованную максимальную частоту сердцебиения. При том, что двигалась медленно.
— Всё в порядке? — пробормотал Фараг, встревоженно глядя на меня.
— Всё просто замечательно. Я всё сама рассчитала, — сказала я, останавливая писк противного устройства, — и в таком темпе я за шесть-семь часов дойду до Афин.
— Ты уверена? — недоверчиво переспросил он.
— Нет, не совсем, но как-то много лет назад я ходила в шестнадцатикилометровый поход и дошла до места назначения за четыре часа. Простая пропорция.
— Но дорога здесь другая. Не забывай об окружающих Марафон горах. Кроме того, расстояние, отделяющее нас от Афин, больше чем в два раза превышает шестнадцать километров.
Я снова оглядела местность и почувствовала себя уже не столь уверенно. Я смутно помнила, что после того похода я была полудохлой, так что перспективы были не очень радужными. В то же время я изо всех сил хотела, чтобы Фараг побежал вперёд и был далеко от меня, но он, по-видимому, не собирался оставлять меня в эту ночь одну.
Последние семь дней я отчаянно боролась, пытаясь сосредоточиться на нашем деле и забыть о глупых сентиментальных расстройствах. Поездка в Иерусалим и встреча с Пьерантонио очень помогли мне. Однако я замечала, что эмоции, которые я упорно пытаюсь подавить, несут глубокую горечь, которая подтачивала мои силы. То, что начиналось в Равенне как восторженное чувство, которое внесло смятение в мою душу, в Афинах превратилось в горькую муку. Можно бороться с болезнью или с ударами судьбы, но как бороться с тем неведомым, что толкает меня к этому поразительному мужчине, Фарагу Босвеллу? Так я и шла, притворно сохраняя хрупкое самообладание, которое рушилось с каждым новым шагом по маршруту марафонского забега.
Хоть синяя полоса и была нарисована по асфальту дороги, мы благоразумно шагали по широкому, засаженному деревьями тротуару. Всё же он скоро кончился, и нам пришлось идти по обочине. К счастью, проезжающих мимо машин было всё меньше и меньше (к тому же мы шли по правой стороне, а этого делать нельзя, потому что мы двигались в том же направлении, что и возникающие за нашей спиной машины), так что единственную опасность, если можно так выразиться, для нас представляла темнота. Перед дорожными барами у деревни и некоторыми домиками на окраине ещё горели кое-какие фонари, но и они скоро кончились. Тогда я подумала, что, пожалуй, хорошо, что Фараг идёт рядом со мной.
Когда мы дошли до ближайшего городка Панделеймонас, мы были с головой погружены в интересную беседу о византийских императорах и царящем на Западе общем невежестве относительно этой Римской империи, просуществовавшей до XV века. Моё восхищение и преклонение перед эрудицией Фарага всё росли. После некрутого длинного подъёма, захваченные разговором, мы прошли через деревушки Неа Макри и Зумбери, не обращая внимания на ход времени и незаметно для нас минуя километры. Никогда ещё я не чувствовала себя столь счастливой, никогда у меня не было такого ясного, целенаправленного ума, готового решить любую интеллектуальную задачу, никогда ещё я не заходила в беседе так далеко и глубоко, как тогда. В спящем селении Агиос Андреас спустя три часа после начала забега Босвелл начал рассказывать мне о своей работе в музее. Ночь была столь волшебной, столь особенной и прекрасной, что я даже не чувствовала холода, безжалостно набросившегося на окружавшие нас тёмные поля. И в этой темноте ни к чему был тусклый свет ущербной луны, едва доходящий до земли. Однако я была спокойна и не боялась; я шагала, полностью погрузившись в слова Фарага, который, освещая дорогу перед нами фонариком, страстно рассказывал мне о гностических текстах с коптской письменностью, найденных в старинном городе Наг-Хаммади в Верхнем Египте. Он работал над ними уже несколько лет, отыскивая греческие первоисточники II века, на которых они были основаны, и сверяя фрагмент за фрагментом с другими известными письменными свидетельствами коптских писателей-гностиков.
Нас объединяла пылкая страсть к нашей работе и глубокая любовь к древности и её тайнам. Мы чувствовали, что призваны разгадать их, открыть то, что из-за нерадения или выгоды было утеряно на протяжении веков. Тем не менее он не разделял некоторых оттенков моего католического подхода к делу, а я не могла согласиться с его постулатами о живописном гностическом происхождении христианства. Я действительно почти ничего не знала о первых трёх веках существования нашей религии; правда и то, что эти большие лакуны для удобства были заполнены фальшивыми документами и подправленными свидетельствами; правда, что Евангелия были переписаны в первые три века существования нашей религии, чтобы подогнать их под доминирующие течения в зарождающейся церкви, из-за чего Иисус впадает в ужасные противоречия или в абсурдные постулаты, которые мы слышали столько раз, что уже не улавливаем их смысла. Но я никак не могла согласиться, что всё это следует выставить напоказ перед общественностью, что двери Ватикана должны быть открыты для любого исследователя, у которого, как у самого Фарага, не обязательно будет достаточно веры, чтобы придать правильный смысл тому, что он может открыть. Фараг назвал меня реакционеркой, ретроградкой и лишь по счастливой случайности не обвинил меня в узурпаторстве достояния человечества, хотя был очень к этому близок. Однако жёлчности в его словах не было. Ночь проносилась мимо нас легче ветерка, потому что мы без конца смеялись, набрасывались друг на друга с высоты своих идеологических позиций со смесью привязанности и нежности, которые смягчали все произносимые нами колкости. И так незаметно текло время.
Мати, Лиманаки, Рафина… Мы уже подходили к Пикерми, деревне, отмечавшей точную середину марафонской дистанции. На узкой дороге не было машин, не было и следов капитана Глаузер-Рёйста. Я начала ощущать сильную усталость в ногах и лёгкую боль сзади, в икроножных мышцах, но не хотела обращать на них внимания; к тому же ноги в кроссовках у меня горели, и чуть позже, во время вынужденной остановки, я обнаружила, что ужасно натёрла их в нескольких местах, которые на протяжении ночи постепенно превратились в открытые раны.
Мы прошагали ещё час, ещё два… И не заметили, что шли всё медленнее и медленнее, что превратили ночь в одну долгую прогулку, где время не имело никакого значения. Мы прошли через Пикерми, по улицам которой от столба к столбу протянулась густая сеть электрических и телефонных проводов, затянувших деревушку, оставили позади Спату, Палини, Ставрос, Параскеви… А часы невозмутимо продолжали свой ход, хоть мы и не замечали, что никак не попадём в Афины до рассвета. Мы были заворожены, пьяны словами и не замечали ничего, кроме нашего разговора.
После Параскеви шоссе делало длинный поворот налево, оставляя внутри круга густой лес высоченных сосен, и именно там, в десяти километрах от Афин, раздался писк пульсомера Фарага.
— Устал? — встревоженно спросила я. Его лица почти не было видно, для меня оно было лишь смутным очертанием.
Ответа не было.
— Фараг? — снова спросила я. Машинка продолжала издавать невыносимый сигнал тревоги, который в окружавшей нас тишине звучал как пожарная сирена.
— Я должен тебе что-то сказать… — загадочно прошептал он.
— Тогда останови этот писк и скажи, в чём дело.
— Не могу…
— Как не можешь? — удивилась я. — Тебе надо просто нажать на оранжевую кнопку.
— То есть… — Он заикался. — Я хочу сказать…
Я взяла его за запястье и остановила писк пульсомера. Внезапно я ощутила, что что-то изменилось. Приглушённый голосок предупреждал меня, что мы ступаем на опасную территорию, и я поняла, что не хочу знать то, что он хочет мне сказать. Я молчала, онемев, словно рыба.
— Я хочу сказать…
Снова запищал пульсомер, но теперь выключил его он сам.
— Я не могу тебе это сказать, потому что есть столько помех, столько препятствий… — Я задержала дыхание. — Помоги мне, Оттавия.
У меня пропал голос. Я хотела остановить его, но я задыхалась. Теперь запищал мой проклятый пульсомер. Просто какая-то писклявая симфония. Нечеловеческим усилием я его выключила, и Фараг улыбнулся.
— Ты знаешь, что я пытаюсь тебе сказать, правда?
Мои губы не слушались. Единственное, что я смогла сделать, это расстегнуть пульсомер и снять его с руки. Если б я этого не сделала, он постоянно бы включался. Всё так же улыбаясь, Фараг сделал то же самое.
— Хорошая мысль, — сказал он. — Я… Знаешь, Басилея, для меня это очень непросто. В моих прежних отношениях мне никогда не приходилось… Всё получалось по-другому. Но с тобой… Господи, как же это трудно! Почему нельзя, чтобы всё было проще? Ты знаешь, что я пытаюсь сказать тебе, Басилея! Помоги мне!
— Я не могу помочь тебе, Фараг, — ответила я замогильным голосом, удивившим меня саму.
— Да, знаю…
Больше он ничего не сказал, я тоже. На нас навалилась тишина, и так мы прошли до Холаргоса, маленького городка с высокими современными зданиями, предвещавшего близость Афин.
Кажется, никогда мне не случалось переживать такие горькие и тяжкие моменты. Присутствие Бога мешало мне принять это подобие объяснения в любви, которое пытался сделать мне Фараг, но мои невероятно сильные чувства к этому замечательному человеку разрывали меня на части. Хуже всего было даже не сознание, что я его люблю; хуже всего было то, что он тоже меня любит. Всё было бы так просто, если бы это было возможно! Но я была несвободна.
Его восклицание застало меня врасплох:
— Оттавия! Уже четверть шестого!
Какое-то мгновение я не могла понять, о чём он говорит. Четверть шестого? Ну и что? Но вдруг в моём мозгу забрезжил свет. Четверть шестого! Мы не сможем добраться до Афин до шести! Осталось по крайней мере четыре километра!
— Боже мой! — крикнула я. — Что же делать?
— Бежим!
Он схватил меня за руку и потянул как сумасшедший, пускаясь бежать сломя голову и вынужденно останавливаясь через несколько метров.
— Фараг, я не могу! — простонала я, валясь на дорогу. — Я слишком устала.
— Послушай, Оттавия! Вставай и беги!
В его голосе звучал приказ, а вовсе не сочувствие и не нежная заботливость.
— У меня очень болит правая нога. Я, наверное, повредила какую-то мышцу. Я не могу бежать с тобой, Фараг. Беги сам. Беги. Я пойду следом.
Он присел на корточки и, резко схватив меня за плечи, встряхнул меня и посмотрел мне прямо в глаза.
— Если ты сейчас же не встанешь и не побежишь в Афины, я скажу тебе то, что не смог сказать раньше. А если я скажу тебе это, — он легонько нагнулся ко мне, так что его губы оказались в нескольких миллиметрах от моих, — я скажу это так, что ты до конца жизни никогда больше не сможешь почувствовать себя монахиней. Выбирай. Если добежишь со мной до Афин, я больше никогда не буду настаивать.
Меня охватило ужасное желание заплакать, уткнуться головой в его плечо и стереть все кошмарные вещи, которые он только что произнёс. Он знал, что я его люблю, и поэтому давал мне выбрать между своей любовью и моим призванием. Если я побегу, я утрачу его навсегда; если останусь здесь, на асфальте шоссе, он поцелует меня, и я забуду, что вручила свою жизнь Богу. Меня пронзила глубочайшая мука, страшнейшая боль. Я отдала бы что угодно, только чтобы не нужно было выбирать, чтобы мне никогда не знать Фарага Босвелла. Я вдохнула столько воздуха, что мои лёгкие чуть не лопнули, качнувшись, высвободила плечи из его рук и, сделав нечеловеческое усилие — только я знаю, чего мне это стоило, и не из-за физической усталости или из-за ран на ногах, — встала, решительно поправила одежду и снова взглянула на него. Он так же сидел на корточках, но теперь в его взгляде была бесконечная грусть.
— Бежим? — спросила я.
Несколько секунд он неподвижно смотрел на меня с тем же выражением лица, потом встал, натянуто улыбнулся и зашагал вперёд.
— Бежим.
Я не очень хорошо помню пригороды, через которые мы бежали, в памяти остались только названия: Халандри и Папагу, но знаю, что бежала, постоянно глядя на часы, стараясь не чувствовать ни боли в ногах, ни боли в сердце. Был момент, когда рассветный холод прихватил текущие у меня по лицу слёзы. Мы вбежали в Афины по улице Кифиссиас без десяти шесть. Как бы мы ни бежали до Капникареи в центре города, нам никогда не выполнить испытание. Но нас не остановило ни это, ни острая колющая боль в боку, из-за которой я не могла дышать. С меня градом тёк пот, и меня не покидало ощущение, что с минуты на минуту я упаду в обморок. Кроме того, казалось, что ноги у меня утыканы ножами, но я бежала, потому что, остановись я, мне пришлось бы столкнуться с тем, что я не могла встретить лицом к лицу. На самом деле я даже не бежала, а убегала, убегала от Фарага, и я уверена, что он об этом знал. Он бежал рядом со мной, хоть мог бы и обогнать и, возможно, успешно завершить испытание на лень. Но он не бросил меня, и я, верная своей привычке чувствовать себя всегда виноватой, тоже ощущала свою ответственность за его неудачу. Эта чудесная, наверняка незабываемая ночь оканчивалась кошмаром.
Не знаю, сколько километров в огромном проспекте Вассилиса Софиаса, но мне он показался бесконечным. По нему ехали машины, а мы в припадке отчаяния неслись по тротуару, огибая столбы, фонари, урны, деревья, рекламные объявления и железные скамейки. Прекрасная древняя столица пробуждалась к новому дню, который означал для нас лишь начало конца. Проспект Вассилиса Софиаса не кончался, а на моих часах было уже шесть утра. Было слишком поздно, но как я ни смотрела направо и налево, солнца нигде не было видно; было так же темно, как час назад. В чём дело?
Направлявшая наши шаги всю ночь синяя полоса затерялась на бульваре Вассилиса Константину, который вёл от проспекта Софиаса прямо к Олимпийскому стадиону. Мы же побежали дальше по проспекту, выходившему прямо на площадь Платеиа-Синтагматос, огромную эспланаду перед греческим парламентом, открывавшуюся прямо с угла нашей гостиницы, мимо двери которой мы, не останавливаясь, промчались словно ветер. Капникареа находилась на середине улицы Эрму, одной из многих, начинавшихся на другом конце площади. В этот момент было уже три минуты седьмого.
Сердце и лёгкие у меня разрывались, меня изводила боль в боку. Силы для бега мне придавала только ночная темнота в небе, этот чёрный занавес, не освещённый ни одним солнечным лучиком. Пока это так, ещё есть надежда. Но как только мы вбежали в пешеходную улицу Эрму, мышцы моей правой ноги решили, что хватит бегать и пора остановиться. Резкая острая боль заставила меня застыть на месте, и я застонала, поднося руку к болезненной точке. Фараг быстрее молнии обернулся и без всяких слов понял, что со мной. Он вернулся назад, обхватил меня левой рукой под плечи и помог встать. Потом, тяжело дыша, мы побежали дальше в странной позе: я делала шаг здоровой ногой, а потом переносила весь вес на него в следующем шаге. Мы шатались, как застигнутый бурей корабль, но продвигались вперёд. Часы показывали уже пять минут седьмого, но нам оставалось пройти около трёхсот метров, потому что в глубине улицы Эрму, как странное, непонятное видение, в центре крохотной круглой площади вздымалась полупогружённая в землю маленькая византийская церковь.
Двести метров… Я слышала прерывистое дыхание Фарага. Моя здоровая нога также отказывалась повиноваться этому последнему, запредельному усилию. Сто пятьдесят метров. Семь минут седьмого. Мы продвигались вперёд всё медленнее и медленнее. Сил не было никаких. Сто двадцать пять метров. Резким движением Фараг подбросил меня и перехватил крепче, держа теперь за руку, лежавшую у него на плечах. Сто метров. Восемь минут седьмого.
— Оттавия, ты должна превозмочь боль, — задыхаясь, пробормотал он; пот ручьём лился с его лица и шеи. — Пожалуйста, иди.
Капникареа вздымала перед нами каменные стены своей левой стороны. Мы были так близко! Я видела маленькие купола, покрытые красной черепицей и увенчанные крестиками. Но не могла ни дышать, ни бежать. Настоящая пытка!
— Оттавия, солнце! — воскликнул Фараг.
Я не стала даже искать его взглядом, достаточно было увидеть, что небо приобрело мягкий тёмно-синий оттенок. Эти два слова оказались как раз той плёткой, которой нужно было меня подстегнуть, чтобы я собрала силы, сама не знаю откуда. Я вся содрогнулась и одновременно настолько разозлилась на солнце за то, что оно так меня подводит, что глотнула воздух и бросилась к церкви. Наверное, в жизни есть моменты, когда нашими поступками повелевают умопомрачение, упрямство или гордыня, заставляющие нас со всех ног бросаться к той единственной цели, которая затмевает всё вокруг себя. Подозреваю, что зарождение этой непокорной реакции тесно связано с инстинктом самосохранения, потому что мы ведём себя так, будто от этого зависит вся наша жизнь.
Я, конечно, чувствовала боль, и моё тело было словно тряпка, но в мой мозг просочилась навязчивая идея о том, что восходит солнце, и я утратила способность действовать благоразумно. Сознание обязанности переступить через порог Капникареи довлело над всеми физическими ограничениями.
Так что я бросилась бежать так, как не бежала на протяжении всей ночи, а Фараг нагнал меня как раз, когда, спустившись по ступеням на уровень церкви, мы оказались перед красивым портиком, обрамлявшим дверь. Над ней тусклый свет фонарей искрами отсвечивал от потрясающей византийской мозаики Богородицы с Младенцем; над нашими головами на небе из блестящей золотистой смальты красовалась христограмма Константина.
— Стучим? — слабым голосом спросила я, упираясь руками в бока и сгибаясь вдвое, чтобы лучше дышать.
— А ты как думаешь? — крикнул Фараг, и я тут же услышала первый из семи ударов, которые он с яростью отвесил в крепкую деревянную дверь. С последним ударом петли тихо заскрипели, и дверь отворилась.
Перед нами появился молодой православный священник с длинной густой чёрной бородой и неприветливым лицом и сказал нам что-то на современном греческом языке, но мы ничего не поняли. Видя растерянность на наших лицах, он повторил то же самое по-английски:
— Церковь открывается в восемь.
— Мы знаем, батюшка, но нам нужно войти. Нам нужно очистить души, склонившись перед Богом, как смиренные просители.
Я с восхищением взглянула на Фарага. Как он додумался использовать слова из иерусалимской молитвы? Молодой священник окинул нас взглядом с головы до ног, и наш жалкий вид, похоже, тронул его.
— Ну, если так, проходите. Капникареа в вашем распоряжении.
Я не поддалась обману: этот одетый в рясу молодой человек был ставрофилахом. Если б я положила за это руку в огонь, то наверняка бы не обожглась. Фараг читал мои мысли.
— Кстати, батюшка… — спросила я, отирая пот с лица рукавом костюма. — Вы не видели тут нашего друга, такого же бегуна, как мы, очень высокого и светловолосого?
Священник, казалось, задумался. Если бы я не знала, что он ставрофилах, возможно, я поверила бы ему, но, несмотря на то, что он был хорошим актёром, провести меня ему не удалось.
— Нет, — после долгого раздумья ответил он. — Никого похожего я не припомню. Но, пожалуйста, проходите. Не стойте на улице.
С этого момента мы были в его власти.
Церковь оказалась очень красивой, одной из жемчужин, которые щадят и время, и ход цивилизации, потому что, покончив с их красотой, они тоже немного умерли бы. Внутри горели сотни, тысячи тонких свечей, позволяя рассмотреть справа в глубине прекрасный, блистающий, словно золото, иконостас.
— Оставляю вас молиться, — сказал он, рассеянно запирая дверь на замки; мы были пленниками. — Если вам что-то понадобится, можете меня позвать.
Но что нам могло понадобиться? Едва он произнёс эти любезные слова, я зашаталась и мешком упала от нанесённого со спины сильного удара по голове. Больше я ничего не помню. Жаль только, что не смогла получше рассмотреть Капникарею.
Я открыла глаза под ледяным сиянием нескольких белых неоновых трубок и попыталась повернуть голову, потому что почувствовала, что рядом кто-то есть, но не смогла сделать этого из-за острой боли. Приятный женский голос сказал мне какие-то непонятные слова, и я снова потеряла сознание. Какое-то время спустя я снова очнулась. Над моей кроватью склонились несколько человек в белой одежде и тщательно осматривали меня, приподнимая вялые веки, меряя пульс и аккуратно двигая моей шеей. В тумане я заметила, что из моей руки выходила тоненькая трубочка, идущая до подвешенного на металлической подставке полиэтиленового пакета, наполненного прозрачной жидкостью. Но я снова уснула, а время шло дальше. Наконец через несколько часов сознание вернулось ко мне вместе с более нормальным ощущением реальности. Мне, наверное, вкололи кучу лекарств, потому что чувствовала я себя хорошо, боли не было, хотя чуть-чуть кружилась голова и подташнивало.
У стены на пластмассовых зелёных стульях сидели двое странных мужчин, наблюдавших за мной с подозрительным видом. Увидев, что я заморгала, они встали и подошли к изголовью кровати.
— Сестра Салина? — по-итальянски спросил один из них, и, присмотревшись повнимательнее, я заметила, что на нём сутана и стоячий воротничок. — Я отец Кардини, Ферруччо Кардини, из ватиканского посольства, а сопровождает меня его преосвященство архимандрит Теологос Апостолидис, секретарь постоянного Синода Греческой церкви. Как вы себя чувствуете?
— Как будто меня стукнули кувалдой по голове, отче. А как мои товарищи, профессор Босвелл и капитан Глаузер-Рёйст?
— Не волнуйтесь, с ними всё в порядке. Они в соседних палатах. Мы только что были у них, они приходят в себя.
— Что это за место?
— Носокомио Георга Генниматаса.
— Что?
— Главная городская больница Афин, сестра. Вчера вечером моряки нашли вас на одной из пристаней Пирея[41] и отвезли вас в ближайшую больницу. Увидев вашу ватиканскую дипломатическую аккредитацию, персонал отделения «Скорой помощи» связался с нами.
Внезапно, отдёрнув пластиковую занавеску, заменявшую собой двери, появился высокий смуглый врач с огромными турецкими усами. Он подошёл к моей кровати и, измеряя мне пульс и осматривая глаза и язык, заговорил с его преосвященством архимандритом Теологосом Апостолидисом, который тут же обратился ко мне на правильном английском:
— Доктор Калогеропулос хочет знать, как вы себя чувствуете.
— Хорошо. Я себя чувствую хорошо, — ответила я, пытаясь сесть. Капельницу у меня с руки уже сняли.
Греческий врач сказал что-то ещё, и отец Кардини вместе с архимандритом Апостолидисом отвернулись лицом к стене. Тогда доктор откинул укрывавшую меня простыню, и я увидела, что всего-то одежды на мне — ужасная короткая сорочка светло-желтого цвета, из которой торчат мои ноги. Я не удивилась, что у меня забинтованы стопы, но вид бинтов на бёдрах меня озадачил.
— Что со мной случилось? — спросила я. Отец Кардини повторил мои слова по-гречески, и в ответ врач произнёс целую лекцию.
— Доктор Калогеропулос говорит, что и у вас, и у ваших товарищей очень странные раны и что в них нашли растительный состав с хлорофиллом, который они не смогли опознать. Он спрашивает, знаете ли вы, как появились у вас эти раны, потому что, похоже, у вас нашли другие подобные им, но более старые, на руках.
— Скажите ему, отец, что я ничего не знаю и что я хотела бы на них взглянуть.
По моей просьбе врач очень осторожно снял бинты, а потом оставил двух священников у стены, а меня в сорочке и без простыни на кровати и вышел из комнаты. Ситуация была настолько неловкой, что я не произнесла ни слова, но, к счастью, доктор Калогеропулос тут же вернулся с зеркалом, с помощью которого, согнув ноги, я смогла увидеть шрамы. Всё на своих местах: косой крест на задней части правого бедра и ещё один, греческий, на левом. Иерусалим и Афины были навсегда запечатлены на моём теле. Наверное, я должна была бы гордиться, но, удовлетворив своё любопытство, моим единственным желанием было увидеть Фарага. Плохо только, что, двигая зеркалом, я также увидела в нём своё лицо и с ужасом убедилась, что у меня запавшие глаза, бледная кожа, а на голове красуется роскошная повязка на манер мусульманского тюрбана. Увидев удивление на моём лице, доктор Калогеропулос выдал новую порцию словесного потока.
— Доктор говорит, — передал мне отец Кардини, — что и вас, и ваших друзей ударили каким-то тупым предметом и что у вас значительная контузия черепа. Судя по результатам анализов, он думает, что вы принимали какие-то алкалоиды, и хочет, чтобы вы сказали, что это были за вещества.
— Что, этот врач думает, что мы наркоманы, что ли?
Отец Кардини не решился даже пикнуть.
— Скажите врачу, отец, что мы ничего не принимали и ничего не знаем. Сколько бы он нас ни расспрашивал, мы ничего больше ему сказать не сможем. А сейчас, если вы не возражаете, я хотела бы повидать своих товарищей.
И, сказав это, я уселась на краю кровати и спустила ноги на пол. Бинты на ногах замечательно заменяли тапочки. Увидев, что я делаю, доктор Калогеропулос сердито воскликнул и, схватив меня за руки, попытался снова уложить в постель, но я сопротивлялась, как могла, и он ничего не добился.
— Пожалуйста, отец Кардини, будьте добры, скажите доктору, что мне нужна одежда и что я снимаю эту повязку с головы.
Католический священник перевёл мои слова, и последовал быстрый напряжённый диалог.
— Это невозможно, сестра. Доктор Калогеропулос говорит, что вы ещё не поправились и что вам может опять стать плохо.
— Скажите доктору Калогеропулосу, что я превосходно себя чувствую! Известна ли вам, отец, вся важность работы, которую делаем мы с капитаном и профессором?
— Приблизительно, сестра.
— Значит, скажите ему, чтобы он отдал мне одежду… Немедленно!
Снова последовала раздражённая словесная перепалка, и врач очень сердито вышел из палаты. Вскоре появилась молодая медсестра, которая без единого слова положила полиэтиленовый кулёк в ногах кровати, а потом подошла ко мне и стала разматывать тюрбан на моей голове. Когда она сняла его, я почувствовала огромное облегчение, словно эти бинты сжимали мне мозг. Я погрузила пальцы в волосы, чтобы растрепать их, и коснулась распухшей и болезненной шишки на макушке.
Я ещё до конца не оделась, как послышался стук в металлическую раму на входе в палату. Когда я закончила, я сама отдёрнула занавеску. Фараг с капитаном, одетые в короткие халаты того же линялого голубого цвета, что и натянутые на них видавшие виды больничные сорочки, удивлённо смотрели на меня из-под своих тюрбанов.
— Почему ты нормально одета, а мы в таком виде? — спросил Фараг.
— Потому что не умеете пользоваться авторитетом, — засмеялась я. Я была просто счастлива вновь увидеть его, сердце билось на полной скорости. — Как вы?
— Совершенно нормально, но они упорно обращаются с нами как с детьми.
— Доктор, хотите взглянуть? — спросил меня Глаузер-Рёйст, протягивая уже знакомую толстую бумагу ставрофилахов, свёрнутую вдвое. Я с улыбкой взяла её из его руки и развернула. На этот раз на ней было всего одно слово: «Αποστολειον» — Апостолейон.
— Снова в путь, да? — сказала я.
— Как только выберемся отсюда, — пробормотал Кремень, мрачно озираясь по сторонам.
— Значит, это будет уже завтра, — засовывая руки в карманы халата, предупредил Фараг, — потому что сейчас одиннадцать вечера, и не думаю, что нас могут выписать в это время.
— Одиннадцать вечера? — воскликнула я, широко раскрывая глаза. Мы пробыли без сознания целый день.
— Подпишем заявление о добровольной выписке или как оно здесь называется, — фыркнул капитан, направляясь к стойке, за которой находился медперсонал.
Я воспользовалась его отсутствием, чтобы свободно взглянуть на Фарага. У него были синяки под глазами, и, поскольку борода доходила ему уже до шеи, он выглядел как странный светловолосый пустынник. Воспоминание о том, что произошло накануне ночью, ещё заставляло моё сердце биться быстрее, если только это возможно, и я чувствовала себя хранительницей тайны, в которую были посвящены только мы вдвоём. Однако Фараг, похоже, ничего не помнил, на его лице было написано вежливое равнодушие, и вместо того, чтобы со мной поговорить, он сразу обратился к присутствовавшим здесь священникам, заставив меня проглотить уже собиравшиеся сорваться слова. Я была озадачена и взволнована: может быть, мне всё это приснилось?
За всю ночь мне не удалось завести с ним разговор, даже когда мы выбрались из больницы и сели в машину ватиканского посольства (его преосвященство Теологос Апостолидис любезно распрощался с нами в дверях больницы имени Георга Генниматаса и уехал на собственной машине). Так что Фараг обращался либо к капитану, либо к отцу Гардини, а когда его глаза натыкались на мой взгляд, они, не задерживаясь, скользили по мне, будто я прозрачная. Если он пытался сделать мне больно, у него получалось, но я не собиралась позволить ему сломить меня, так что я погрузилась в насупленное молчание до самого приезда в гостиницу, а попав в свой номер, лёжа в постели, так как из-за шрамов я не могла удобно сесть, я молилась, пока, уже около трёх утра, не выбилась из сил. Изнывая от тоски, я просила Бога помочь мне, вернуть мне уверенность в моём религиозном призвании, спокойную размеренность моей прежней жизни и укрыться в Его любви, найдя в ней так необходимый мне покой. Спала я хорошо, но последняя моя мысль была о Фараге, и на следующее утро первая мысль — о нём же.
Он же ни разу не взглянул на меня ни за завтраком, ни по дороге в аэропорт, ни поднимаясь в «Вествинд» и усаживаясь (крайне осторожно) в кресла в пассажирском салоне, который для нас становился единственным оплотом стабильности, как старый добрый дом. Мы вылетели из аэропорта Эллиникон около десяти утра, и к нам сразу зачастила наша любимая стюардесса, предлагавшая нам еду, напитки и развлечения. Напророчив жутчайшие беды бедной девушке, которую, как оказалось, звали Паолой, капитан Глаузер-Рёйст, довольный собой, рассказал нам, что пробежал дистанцию между Марафоном и Капникареей всего за четыре часа и что его пульсомер ни разу не запищал. Хоть Фараг засмеялся и поздравил его, пожав руку и дружески похлопав по плечу, я погрузилась в полнейшее отчаяние, вспоминая писк наших с Фарагом пульсомеров в те неповторимые минуты, которые нам довелось пережить на тихом марафонском шоссе.
Полёт из Афин в Стамбул был таким коротким, что мы едва успели подготовить пятый круг Чистилища. В Константинополе нам предстояло очиститься от греха алчности, и, по словам флорентийца, делать это нужно было, лёжа на земле:
Вступая в пятый круг, я увидал
Народ, который, двинуться не смея,
Лицом к земле поверженный, рыдал.
«Adhaesit pavimento anima mea!»[42] —
Услышал я повсюду скорбный звук,
Едва слова сквозь вздохи разумея.
— И это всё, что у нас есть для начала? — скептически спросил Фараг. — Негусто, а Стамбул — город большой.
— Плюс Апостолейон, — напомнил ему Глаузер-Рёйст, спокойно кладя ногу на ногу, словно его вовсе не беспокоила боль от скарификаций или ужасная крепатура, которую оставил марафонский забег на память всем остальным. — Со вчерашнего дня над ним работают нунциатура Ватикана в Анкаре и Константинопольский патриархат. Когда мы прибыли в гостиницу, я связался с монсеньором Льюисом и с секретарём Патриарха, отцом Каллистосом, который сообщил мне, что Апостолейон — это название знаменитой православной церкви Святых Апостолов, которая до XI века служила королевским пантеоном византийским императорам. После собора Святой Софии он был самым большим храмом. Сейчас, однако, от него ничего не осталось. В XV веке Мехмет II, турецкий завоеватель, уничтоживший Византийскую империю, приказал его разрушить.
— От него ничего не осталось? — удивилась я. — Чего же тогда от нас хотят? Перекопать город в поисках археологических останков?
— Не знаю, доктор. Придётся подумать. Похоже, что, соперничая с императорами, Мехмет II приказал возвести на том же месте свой собственный мавзолей, мечеть Фатих Джами, действующую по сегодняшний день. От Апостолейона ничего не осталось. Ни камня. Но нужно дождаться информации от нунциатуры и от патриархата, может быть, мы узнаем что-то ещё.
— Что вы просили их искать?
— Всё, абсолютно всё, доктор: полную историю церкви со всеми подробностями, историю Фатих Джами; планы, карты и рисунки реконструкций, имена архитекторов, предметов, произведений искусства, все книги, в которых о них пишут, ритуал захоронения императоров и т. д. Как видите, я ничего не оставил на самотёк и уверен, что и нунциатура, и патриархат серьёзно занимаются этим делом. Кроме того, апостольский нунций монсеньор Льюис сказал мне, что нам в помощь предоставят одного из атташе по культуре итальянского посольства, специалиста по византийской архитектуре, а патриархат просто горит желанием нам помочь, потому что тоже пострадал от происков ставрофилахов: меньше месяца назад из патриархального собора Святого Георгия пропало то немногое, что оставалось от фрагмента Честного Древа, который император Константин получил непосредственно от своей матери, святой Елены, при том, что их предупреждали. Но могущественный в прошлом Константинопольский патриархат сегодня настолько обеднел, что у него нет средств на то, чтобы защитить свои реликвии. Судя по всему, в Стамбуле почти не осталось православных прихожан. Процесс исламизации был столь интенсивен, и национализм принял такую агрессивную окраску, что в настоящее время почти сто процентов населения — турки мусульманского вероисповедания.
В этот момент командир экипажа «Вествинда» сообщил нам через динамики, что меньше чем через полчаса мы приземлимся в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
— Надо скорее закончить с Дантовым текстом, — поторопил нас Глаузер-Рёйст, снова открывая книгу. — Где мы остановились?
— В самом начале, — ответил Фараг, тоже листая свой собственный экземпляр «Божественной комедии». — Данте услышал, как души алчных декламируют стих из сто восемнадцатого псалма: «Душа моя повержена в прах».
— Ну что ж, затем Вергилий просит, чтобы им указали, где находится проход, ведущий к следующему уступу.
— Подождите, а Данте уже стёрли букву со лба? — перебила я его. Косой крест на моём правом бедре немного зудел.
— Данте не во всех кругах прямо говорит о том, что ангелы стирают ему отметины смертных грехов, но всегда в какой-то момент отмечает, что с каждым подъёмом он чувствует всё большую лёгкость, что идти ему легче, и иногда вспоминает, что ему стёрли ещё одну «Ρ». Хотите узнать что-нибудь ещё, доктор?
— Нет, большое спасибо. Вы можете продолжать.
— Продолжаю… Алчные отвечают поэтам:
«Когда вы здесь меж нами не лежите,
То, чтобы путь туда найти верней,
Кнаружи правое плечо держите».
— То есть, — снова перебила я его, — им нужно идти вправо, оставляя пропасть с этой стороны.
Капитан посмотрел на меня и кивнул.
Следуя своей привычке, далее флорентиец завязывает долгий разговор с одной из душ, в данном случае с Папой Адрианом V, известным истории как величайший скупец. Я вдруг обратила внимание, что поэт разместил в Чистилище огромное число душ святых понтификов. «Интересно, в Аду они в той же пропорции?» — подумала я. Как бы там ни было, нет ни малейшего сомнения в том, что «Божественная комедия» не была, как это обычно говорилось, произведением, возвеличивающим католическую церковь; скорее наоборот.
Когда я снова сосредоточилась на разговоре, капитан читал первые терцеты двадцатой песни, в которых Данте описывает, как сложно для них с учителем продвигаться по этому уступу из-за того, что земля покрыта прильнувшими к ней плачущими душами:
Я двинулся; и вождь мой, в тишине,
Свободными местами шёл под кручей,
Как вдоль бойниц проходят по стене;
Те, у кого из глаз слезой горючей
Сочится зло, заполнившее свет,
Лежат кнаружи слишком плотной кучей.
Мы полностью пропустили ту часть песни, где разные души перечисляют примеры наказанной алчности: царя Мидаса, богатого римлянина Красса и т. д. Внезапно землю пятого уступа сотрясает апокалиптический трепет. Данте пугается, но Вергилий успокаивает его: «Тебе твой спутник оборона». Двадцать первая песнь начинается с объяснения этого странного происшествия: одна из душ избыла наказание, очистилась и, значит, может закончить своё пребывание в Чистилище. В данном случае счастливцем оказывается дух неаполитанского поэта Стация[43], который, окончив покаяние, воспрянул от земли. Не зная, с кем он говорит, Стаций рассказывает чужакам, что он стал поэтом из-за глубокого восхищения Вергилием, и это признание, естественно, вызывает у Данте улыбку. Стаций обижается, не понимая, что веселье флорентийца вызвано тем, что перед ним стоит тот, кого он, по его словам, так почитал. Когда недоразумение проясняется, неаполитанец падает перед Вергилием на колени и заводит череду восхищённых стихов.
На этом месте наш самолёт так резко начал снижаться, что у меня полностью заложило уши. Юная Паола явилась попросить нас, чтобы мы пристегнули ремни, и в последний раз перед посадкой предложить нам свои изысканные сладости. Я с удовольствием согласилась на стакан жуткого апельсинового сока в пакетике, чтобы благодаря глотанию мои барабанные перепонки не лопнули от давления. Я была измучена, всё тело болело, и я не могла дождаться, когда же смогу перебросить его вес на какую-нибудь пружинистую поверхность. Но, разумеется, эта восточная роскошь была не для меня, ведь мы собирались перейти к пятому испытанию Чистилища. Может, другие соискатели звания ставрофилаха и проходили через инициацию совсем одни, без всякой помощи, но у них было сколько угодно времени на испытания, и, с моей точки зрения в тот момент, этому можно было только позавидовать.
Нам даже не пришлось входить в стамбульский аэропорт: у подножия лесенки «Вествинда» нас подобрала машина с маленьким ватиканским флагом над одной из фар, которая затем, эскортируемая двумя турецкими полицейскими на мотоциклах, выехала с громадного лётного поля через боковые ворота в защитном ограждении. Поглаживая ладонью элегантную кожу сидений машины, Фараг заметил, как изменился наш статус по сравнению с испытанием в Сиракузах.
Лет десять назад мне пришлось побывать в Стамбуле по работе, я проводила здесь исследование, за которое в 1992 году получила свою первую премию Гетти. В памяти у меня остался намного более красивый и приятный город, так что теперь жуткий вид огромных жилых многоэтажек, похожих на железобетонные соты, неприятно поразил меня. С городом, бывшим столицей турецкой империи на протяжении пятисот лет, случилось что-то ужасное. Пока автомобиль ехал по улочкам вблизи Золотого Рога по направлению к району Фанар, в котором располагался Константинопольский патриархат, я увидела, что там, где раньше были деревянные домики с красивыми разноцветными жалюзи, теперь толпились группы торговавших безделушками русских и поедавших горох и фисташки из бумажных фунтиков молодых турок, у которых вместо традиционных оттоманских усов были густые исламские бороды. Я также с крайним изумлением заметила, что здесь стало намного больше женщин, носящих своеобразный головной убор: традиционное чёрное покрывало, крепящееся булавкой под подбородком.
Константинополь, имперский Рим, сумевший выжить до XV века, был самой богатой и процветающей столицей древней истории. Из дворца Буколеон, расположенного на берегу Мраморного моря, византийские императоры правили территорией, раскинувшейся от Испании до Ближнего Востока и включавшей в себя Северную Африку и Балканы. Говорят, что в Константинополе можно было услышать все языки мира, а недавние раскопки доказали, что во времена Юстиниана и Феодоры в стенах города было больше ста шестидесяти бань. И всё же, проезжая по улицам в этот раз, я видела только обедневший город отсталого вида.
Если центром католического мира был великолепный по красоте, величию и богатствам город Ватикан, то основным центром православного мира был этот скромный Вселенский Константинопольский патриархат, расположенный в бедном и до краёв пропитанном национализмом районе на окраине Стамбула. Учащающиеся нападения интегристов вынудили патриархат возвести вокруг своей территории защитную ограду, которая едва выполняла своё назначение. Никому бы и в голову не пришло, что после тысячи пятисот лет славы и могущества столь высокий христианский престол ожидает такой конец.
Турецкие полицейские остановили мотоциклы у ворот Фанара и остались там, а посольская машина проехала через центральный двор и затормозила перед лестницей одного из неприметных зданий, в которых размещался древний патриархат. Пожилой священник, оказавшийся отцом Каллистосом, секретарём Патриарха, вышел нам навстречу и проводил до покоев Варфоломея I, где, по его словам, нас с самого утра ожидали несколько особ.
Кабинет Его Святейшества представлял собой нечто вроде зала для совещаний, наполненного солнечным светом, льющимся сквозь стёкла пары больших окон, выходящих на патриархальный собор Святого Георгия. Имперский орёл и корона, символы былой власти, виднелись повсюду: в рисунках ковров и гобеленов, покрывавших полы и стены, в прекрасной резьбе столов и стульев, на картинах и предметах искусства, красовавшихся на всех поверхностях… Его Святейшество оказался довольно высоким человеком лет шестидесяти, робко скрывавшимся за очень длинной и окладистой снежно-белой бородой. Он был одет, как обычный священник, в рясу и чёрную шапочку итальянских Медичи и носил огромные очки от дальнозоркости, которые, казалось, случайно упали ему на нос. Однако в его осанке было столько достоинства, что я почувствовала, будто нахожусь в присутствии одного из навсегда исчезнувших византийских императоров.
Рядом с Патриархом стоял нунций Ватикана, монсеньор Джон Лоренс Льюис, в священнической одежде, который тут же подошёл к нам поздороваться и начал представлять нас всем присутствовавшим. Монсеньор Льюис был поразительно похож на мужа английской королевы Елизаветы герцога Эдинбургского: он был так же высок и худ, столь же церемонен и сверх всего так же лыс и ушаст. Я как зачарованная смотрела на него, стараясь удержаться от смеха, когда меня вернул к действительности женский голос:
— Оттавия, дорогая, неужели ты меня не помнишь?
Подошедшая ко мне, пока монсеньор Льюис представлял нас Патриарху, незнакомка была одной из тех женщин, которые, переступив за черту среднего возраста, чрезмерно привлекают к себе внимание непомерным использованием косметики и украшений. У неё были спадающие каскадом на плечи светло-каштановые волосы и элегантный лёгкий костюм с синим пиджаком и мини-юбкой, и, весело глядя на меня, она удерживала равновесие на тонких шпильках.
— Нет, простите, — сказала я в полной уверенности, что вижу её первый раз в жизни. — Мы знакомы?
— Оттавия, я же Дория!
— Дория?.. — смущённо повторила я. Из глубин моей памяти стали всплывать смутные воспоминания, туманные очертания лиц сестёр Шьярра из Катании. — Дория Шьярра?.. Сестра Кончетты?..
— Оттавия! — радостно воскликнула она, видя, что я её узнала, и бросилась на меня, чтобы сжать в крепком объятии, одновременно стараясь не испортить макияж. — Оттавия, разве это не чудесно? Столько лет прошло! Сколько же?.. Десять, пятнадцать?..
— Двадцать, — презрительно отрубила я.
И какими короткими они мне теперь показались! Если во всём мире и был совершенно невыносимый для меня человек, это была Дория Шьярра, эта маленькая задавака, которая сеяла раздоры, где бы она ни появлялась, и причиняла другим боль, не придавая этому ни малейшего значения. Я ей тоже была не по душе, так что было неясно, к чему всё это сюсюканье и кривляние. Я поняла, что настроение у меня испорчено на весь день.
— Ах да! — мечтательно сказала она, фальшивая и тщеславная, словно кукла Барби. — Разве это не замечательно? Кто бы мог нам об этом сказать! Правда? — Она певуче засмеялась. — Как только не поворачивается судьба?
«Да уж!» — глядя на неё, подумала я: у толстой и смуглой, как головешка, девчонки теперь было анорексическое тело и золотистая копна волос. «У нас некоторые проблемы с семейством Шьярра из Катании», — прозвучал у меня в голове голос моего зятя, а сестра Джакома добавила: «Они суются на наши рынки и ведут грязную войну».
— Мои соболезнования по поводу смерти твоих отца и брата, Оттавия! Кончетта сообщила мне о ней несколько недель назад. Как твоя мать?
Я едва сдержалась, чтобы ей не нагрубить.
— Можешь себе представить…
— Да, это ужасно. Ты даже не знаешь, как я страдала, когда два года назад умер мой отец. Просто кошмар.
— Дория, а что ты делаешь здесь? — перебила её я, и, похоже, мой голос звучал довольно сухо, потому что она удивлённо взглянула на меня. Настоящая королева лицемерия.
— Монсеньор Льюис попросил меня вам помочь. Я работаю атташе по культуре в посольстве Италии в Турции. Я приехала с монсеньором из Анкары, чтобы вам помочь.
Только этого мне недоставало! Дория была тем самым «специалистом по византийской архитектуре», услуги которого предложил нам нунций, и она, несомненно, знала о нашей миссии. Лучше некуда.
— Что, встретились старые подруги? — сказал сам монсеньор, внезапно возникая рядом с нами. — Сестра Салина, нам очень повезло, что ваша подруга Дория сможет помочь вам в работе. Даже сами турки обращаются к ней за советами!
— Им не мешало бы делать это почаще, монсеньор, — слащаво сказала она с упрёком в голосе. — Византийская архитектура для них скорее досадная помеха, чем достойное сохранения сокровище.
Монсеньор Льюис пропустил неуместные слова Дории мимо ушей и, взяв меня под руку, подвёл к Его Святейшеству Варфоломею I, который при виде меня протянул мне для поцелуя руку с пастырским перстнем. Я слегка присела и приблизила губы к перстню, раздумывая, сколько же времени мне придётся выносить присутствие моей «старой подруги». Но ситуация стала гораздо хуже, когда, поприветствовав Патриарха, я обернулась к моим товарищам и наткнулась глазами на шепчущуюся с Фарагом и пожирающую его глазами Дорию. Глупец, похоже, не замечал плотоядного взгляда этой гарпии и с улыбкой отвечал на её намёки. Желудок и сердце у меня наполнились жёлтым и горьким, словно желчь, ядом.
Затем, усевшись вокруг большого прямоугольного стола, в центре которого красовалась инкрустация патриаршего герба (золотистого греческого креста, вписанного в пурпурный круг), мы провели рабочее совещание, затянувшееся до послеобеденного времени. Размеренным тоном, бессознательно отбиваемым правой рукой, Его Святейшество Варфоломей сначала рассказал нам, что храм Святых Апостолов был возведён в IV веке императором Константином с целью превратить его в семейную усыпальницу. Император скончался в Никомедии в 337 году, и много лет спустя его тело перевезли в Константинополь и захоронили в Апостолейоне. Его сын и наследник Констанц также перевёз в этот собор останки святого Луки Евангелиста, святого апостола Андрея и святого Тимофея. Дория перебила Патриарха, чтобы вставить, что два века спустя, во время правления Юстиниана и Феодоры, храм был полностью перестроен известными зодчими Исидором Милетским и Анфимием Траллесским. Поскольку после этого эрудированного замечания добавить ей было нечего, Патриарх продолжил свой рассказ, и мы узнали, что до XI века там погребали многих императоров, патриархов и епископов, и верующие приходили туда поклониться знаменитым останкам мучеников, святых и отцов церкви, которые находились в этом храме. После разрушения Апостолейона эти реликвии в течение веков странствовали по разным местам, пока не оказались в близлежащем патриархальном соборе.
— Конечно, за исключением тех из них, — неторопливо проговорил Его Святейшество, — которые в XIII веке похитили латинские крестоносцы, разграбившие реликварии и золотые и серебряные сосуды с драгоценными камнями, иконы, имперские кресты, шитые драгоценными камнями уборы и так далее. Большая их часть сейчас находится в Риме и в соборе Святого Марка в Венеции. Историк Никетий Хрониат утверждает, что латиняне также осквернили гробницы императоров.
— Естественно, — добавила Дория так, будто оскорбили лично её, — после подобных бесчинств и землетрясения 1328 года Апостолейон пришлось отстраивать заново. В конце XIII века император Андроник II Палеолог приказал начать его реставрацию, но былое величие к храму уже не вернулось. Лишённый реликвий и ценных предметов, он был заброшен и забыт до падения Константинополя в середине XV века. В 1461 году Мехмет II приказал его снести и возвёл на его месте свой собственный мавзолей, так называемую Мечеть Завоевателя или Фатих Джами.
Я обратила внимание, что в то время, как на противоположном от меня конце стола капитан на какие-то мгновения утрачивал терпение и выходил из себя, сидевший посередине стола Фараг был в восхищении от объяснений Дории, когда она говорила, кивал головой, а когда она смотрела на него, по-идиотски улыбался.
— Не могли бы вы описать, какой была церковь Апостолов? — спросил Кремень, чтобы направить разговор в нужное русло.
Дория открыла лежавшую перед ней папку и раздала направо и налево несколько больших листов.
— В основу планировки храма был заложен греческий крест, сверху он был украшен пятью большими голубыми куполами: по одному на конце каждой ветви креста, плюс ещё один громадный купол в центре. Точно под ним находился алтарь, сделанный из чистого серебра и покрытый мраморным балдахином в форме пирамиды. Вдоль внутренних стен ряды колонн образовывали на верхнем этаже галерею, подняться на которую можно было только по винтовой лестнице.
— Если от храма ничего не осталось, откуда у вас все эти данные? — Иногда Кремень демонстрировал чудесную недоверчивость. Я почувствовала себя в долгу перед ним за то, что он поставил под сомнение познания Дории. В эту минуту до меня дошёл первый из листов с чёрно-белым изображением виртуальной реконструкции Апостолейона с его пятью куполами и множеством окон, вдоль и поперёк испещрявших стены.
— Но, капитан!.. — возразила Дория очаровательно милым голоском. — Не хотите же вы, чтобы я перечислила вам все источники!
— Да, хочу, — проворчал капитан.
— Ну, для начала следует отметить, что на сегодняшний день сохранились две церкви, построенные по образцу Апостолейона: венецианский собор Святого Марка и церковь Сен-Фрон в Перигё, во Франции. Кроме того, сохранились описания Евсевия, Филосторгия, Прокопия и Феодора Анагноста. К тому же имеется длинная поэма X века под названием «Описание храма Двенадцати Апостолов», написанная неким Константином Родосским в честь императора Константина VII Багрянородного.
— Кстати… — резко перебила её я, — этот император написал замечательный трактат о нормах поведения при дворе, который использовался в средние века в качестве учебника при дворах европейских королей. Дория, ты об этом читала?
— Нет, — мягко ответила она, — возможности не было.
— Как только сможешь, обязательно почитай. Очень познавательно.
Как я и подозревала, её блестящие познания о Византии ограничивались архитектурой. Её эрудиция была вовсе не такой широкой, как она старалась нам показать.
— Конечно, Оттавия. Но возвращаясь к интересующей нас теме, — с этого момента она меня полностью игнорировала, — должна заметить, капитан, что в моём распоряжении было множество других источников, хотя перечислять их было бы пустой тратой времени. В любом случае, если хотите, я с удовольствием передам вам мои записи.
Кремень односложно отказался от этого предложения и врос в кресло.
— Дория, пожалуйста, расскажите нам о месте расположения, — с улыбкой попросил Фараг, склонившийся над столом, сложив руки, словно льстивый школьник.
— Моём? — с улыбочкой сказала эта идиотка, не сводя с него глаз.
Фараг с удовольствием рассмеялся в ответ.
— Нет, конечно, нет! О месте расположения Апостолейона.
— А! То-то я удивилась! — Меня охватило желание встать и прибить её, но я сдержалась. — Насколько нам известно, Константин Великий приказал построить свою усыпальницу на самом высоком холме Константинополя. Вокруг этого круглого сооружения была возведена первоначальная церковь Святых Апостолов. Потом с течением веков храм расширялся, пока не сравнялся по размеру со Святой Софией, и с этого момента начался его упадок. После строительства мечети Мехмет II ничего не оставил от старого храма.
— Мы можем посетить Фатих Джами? — поинтересовался Кремень.
— Конечно, — ответил ему Патриарх. — Но не беспокойте мусульманских верующих, потому что вас выгонят без всяких разговоров.
— Женщинам тоже можно туда войти? — полюбопытствовала я. Я была не очень сведуща в вопросах ислама.
— Да, — быстро ответила мне Дория с очаровательной улыбкой, — но только в разрешённые для этого места. Я пойду с тобой, Оттавия.
Краем глаза я взглянула на капитана, и он ответил мне лёгким пожатием плеч, означавшим, что ничего с этим не поделаешь. Если она захочет пойти с нами, она пойдёт.
Второй лист попал в мои руки только сейчас, и я увидела прекрасный византийский рисунок, на котором можно было ясно различить цвета куполов и стен — золотистый и красный, — какими они были в момент наибольшего расцвета. Внутри храма Мария и двенадцать апостолов ростом с колонны и стены созерцали вознесение Иисуса на небеса. Я не смогла удержаться от восторженного восклицания:
— Прекрасная миниатюра!
— Так ведь она твоя, Оттавия, — иронично ответила Дория. — Она находится в византийском кодексе 1162 года, хранящемся в ватиканской библиотеке.
Отвечать ей не стоило; если она думала, что я буду чувствовать себя виноватой за имевшие в истории место грабежи католической церкви, это её проблемы.
— Подведём итоги, — произнёс Глаузер-Рёйст, наклоняясь в кресле вперёд и поправляя свой помятый, но элегантный пиджак. — У нас есть город, славившийся в древнем мире богатством и роскошью и бывший хранилищем бесчисленных сокровищ и ценностей; в этом городе нам предстоит искупить, пока не знаем как, грех алчности, и сделать это нужно в церкви, которой уже нет и которая была посвящена двенадцати апостолам. Верно?
— Совершенно верно, Каспар, — подтвердил Фараг, поглаживая бороду.
— Когда вы хотите посетить Фатих Джами? — спросил монсеньор Льюис.
— Немедленно, — ответил Кремень, — разве что у Фарага и у доктора остались какие-то вопросы.
Мы оба покачали головой.
— Чудесно. Тогда в путь.
— Но, капитан!.. — Почему Дория упрямо говорила этим высоким нелепым голоском? — Ведь пора обедать! Профессор Босвелл, вы же согласитесь со мной, что перед выходом нам нужно что-нибудь поесть?
Я её точно убью.
— Дория, пожалуйста, зовите меня Фарагом.
Внутри меня взорвалось целое море огромных волн, разметав меня на микроскопические ядовитые кусочки. Что тут происходит?
С тяжёлым сердцем я последовала за отцом Каллистосом в столовую патриархата, где пара старушек-гречанок в головных уборах на турецкий манер подали нам великолепный обед, который я едва смогла пригубить. Дория уселась справа от меня, между мной и Фарагом, так что мне пришлось вынести много больше её глупой болтовни, чем мне бы хотелось. Но, думаю, аппетит у меня пропал не из-за этого, хоть, чтобы не привлекать к себе внимание, я съела немного рыбы и чуть-чуть смеси фаршированных овощей и острого печенья, которая напомнила мне вкусную сицилийскую капонатину. Это совпадение навело меня на мысль о том, что кухню можно считать чем-то вроде общей культуры средиземноморских стран, потому что везде нам подавали одни и те же продукты, приготовленные схожим образом. На десерт Вселенский Патриарх проглотил три-четыре маленьких молочных пудинга, соперничавших по белизне с его волосами, и все присутствующие, кроме меня, последовали его примеру. Я же выбрала нежную ряженку из овечьего молока в надежде, что она облегчит наверняка ожидавшее меня расстройство желудка.
За кофе, чёрным, сладким, с большим количеством гущи, Дория решила, что пора дать Фарагу немного передохнуть и завести беседу со мной. Пока мужчины обсуждали особенности ставрофилахов и их невероятную историю и организацию, моя «подруга» решительно взялась за наши старые детские воспоминания и удивила меня своим жадным любопытством по отношению к членам моей семьи. Она довольно много знала обо всех них, но ей всегда не хватало какой-то детали, чтобы закончить головоломку. Наконец, устав от неё самой и её утомительных вопросов, я грубо прервала разговор:
— Дория, каким образом, живя в Турции, ты так хорошо осведомлена о том, что делают Салина в Палермо?
— Кончетта часто рассказывает мне о вас по телефону.
— Всё равно непонятно, потому что отношения между нашими семьями сейчас очень напряжённые.
— Да ну, Оттавия, — сладким голосом возразила она, — мы же не держим на вас зла. Мы очень переживали из-за смерти отца, но уже всё вам простили.
О чём говорит эта идиотка?
— Прости, Дория, но ты говоришь глупости. Почему это вам нужно прощать смерть вашего отца нам?
— Кончетта всегда говорит, что твоя мать очень неправа, скрывая деятельность семьи от вас с Пьерантонио и Лючией. Ты что, правда ничего не знаешь, Оттавия?
Её простодушный взгляд и таинственная улыбка на губах дали мне знать, что, если я чего-то не знаю, она готова мне всё рассказать. Раздражение закипело во мне с такой силой, что я решила выпить большой глоток кофе, и, не знаю уж, что за бессознательные ассоциации родились в моей голове, но, проглотив кофе, я выпалила одну из любимых фраз моей матери:
— Шире шаг и уже рот, Дория[44].
— Да ну! — удивилась она. — Ты, оказывается, прекрасно знаешь, о чём мы говорим!
Я непонимающе взглянула на неё.
— Если я прошу тебя замолчать, значит, знаю, о чём мы говорим?
— Ну что ты, Оттавия! Что за детские отговорки! Как ты можешь не знать, что твой отец был кампиери?
Как я её поняла? Не знаю.
— Мой отец не был кампиери[45]! Ты оскорбляешь его память и доброе имя семьи Салина!
— Ладно, — покорно вздохнула она. — Нет ничего глупее слепца, не желающего видеть. В любом случае Пьерантонио знает правду.
— Слушай, Дория, ты всегда была странным человеком и, кажется, теперь окончательно сошла с ума, но я не позволю тебе оскорблять мою семью.
— Семью Салина из Палермо? — широко улыбаясь, спросила она. — Владельцев «Чинизи», самой крупной сицилийской строительной компании? Единоличных акционеров «Кьементина», который является монополистом на рынке цемента с миллионными оборотами? Хозяев месторождений в Бильеми, камень из которых идёт на строительство общественных сооружений? Владельцев полного комплекта акций Финансового объединения Сицилии, которое отмывает чёрные деньги, поступающие от наркоторговли и проституции? Которым принадлежат почти все земледельческие угодья на острове, которые держат под контролем автомобильные грузоперевозки, сети розничной продажи и «безопасность» коммерсантов и продавцов?.. Этих Салина из Палермо? Эту семью?
— Мы предприниматели!
— Конечно, милочка! И мы, Шьярра из Катании, тоже! Проблема в том, что на Сицилии сто восемьдесят четыре мафиозных клана, сгруппированных вокруг всего двух семейств: Шьярра и Салина, «двойного S»[46], как называют нас борющиеся с мафией власти. Мой отец, Бернардо Шьярра, в течение двадцати лет был доном[47] острова, пока твой отец, преданный кампиери, с которым никогда не возникало проблем, потихоньку не завладел основными предприятиями и не прибрал к рукам самых влиятельных капо[48].
— Дория, ты с ума сошла! Христом Богом молю тебя: замолчи!
— Что, не хочешь узнать, как твой отец убил великого Бернардо Шьярру и подчинил себе преданных моему семейству капо и кампиери?
— Дория, замолчи!
— Так вот, он воспользовался тем же способом, какой выбрали и мы для того, чтобы покончить с твоим отцом и братом Джузеппе: инсценировкой автомобильной аварии.
— У моего брата было четверо детей! Как вы могли такое сделать?
— Ты что, ещё не поняла, дорогуша Оттавия? Мы — мафия, «Коза Ностра»! Весь мир принадлежит нам! Уже наши прадеды были мафиози. Мы убиваем, держим под контролем правительства, закладываем бомбы, стреляем из лупар[49] и следуем омерте. Никому не дано пренебречь правилами и не выполнить вендетту. Твой отец, Джузеппе Салина, не принял её во внимание и ошибся. И знаешь, что самое смешное?
Я слушала её, до боли стискивая челюсти и пытаясь дышать и сдерживать слёзы, при этом мои лицевые мышцы сжимались в гримасу боли, которая, похоже, была ей очень по душе, потому что она улыбалась так радостно, как получающие подарок дети. Вся моя жизнь рушилась. Я закрыла глаза, потому что их жгло слезами и потому что я задыхалась от стоявшего в горле кома. Дория была ужасно злым человеком, просто воплощением извращения, но, возможно, я всего этого заслуживала за то, что закрылась в мире грёз, чтобы не видеть действительность. Я выстроила воздушный замок и спряталась там, чтобы никто не мог меня ранить. И в конце концов все усилия оказались напрасны.
— Так вот самое смешное, что у твоего отца никогда не хватало силы характера на то, чтобы быть доном. Он был кампиери, и ему нравилось быть всего лишь кампиери, но за ним стоял некто, у кого были необходимые для войны за власть силы и амбиции. Знаешь, о ком я, дорогуша? Нет?.. О твоей мамочке, подружка дорогая, о твоей маме, Филиппе Цафферано, женщине, которая в данный момент является… доном Сицилии!
И она весело рассмеялась, размахивая в воздухе руками, чтобы было ясно, насколько смешным ей это кажется. Я глядела на неё не мигая, не пытаясь скрыть боль в выражении лица, просто глотая слёзы и сжимая губы. «Когда-то в жизни, — думала я, — я, должно быть, сделала что-то ужасное, чтобы собрать теперь такой урожай ненависти».
— Филиппа, твоя мать, чувствует себя на вилле «Салина» в безопасности и при власти, так что скажи ей, чтобы там она и оставалась, никуда не выходила, потому что снаружи её подстерегают бесчисленные опасности.
И сказав мне это, она отвернулась к Фарагу, разговаривавшему с Его Святейшеством. Всё мое тело было безжизненно и парализовано. В голове же, напротив, бушевали мысли: теперь я понимала, почему, когда я была маленькой, меня отправили в интернат (как и Пьерантонио с Лючией); теперь понимала, почему моя мать никогда не позволяла нам троим участвовать в некоторых семейных делах; теперь понимала, почему она всегда держала нас подальше от дома и заставляла карабкаться вверх по иерархической лестнице в церкви. Всё складывалось одно к одному. Отдельные кусочки головоломки моей жизни теперь нашли своё место и дополняли общую картину: амбициозная мать выбрала нас в качестве противовеса самой себе, в качестве своей духовной и земной гарантии. Мы с Пьерантонио и Лючией были её сокровищами, её творением, её оправданием. Эта идея компенсирования одного другим прекрасно укладывалась в устаревшее мировоззрение моей матери. До тех пор, пока трое из нас находятся рядом с Богом, молятся за всех остальных и занимают важные должности в структуре церкви для отбеливания фамилии, не важно, что остальные члены семейства Салина являются убийцами. Да, это очень хорошо подходило к её образу мыслей и сущности. Внезапно величайшее почтение и восхищение, которые я испытывала по отношению к ней, сменились глубокой болью из-за неизмеримой бездны её грехов. Мне хотелось позвонить ей и поговорить с нею, попросить, чтобы она объяснила, почему делала именно так, почему она всю жизнь лгала Пьерантонио, Лючии и мне, почему использовала отца как инструмент своей алчности, почему шестеро других её детей — теперь, после смерти Джузеппе, только пятеро — убивали, вымогали и грабили, почему она соглашалась, чтобы её внуки, которых она, по её словам, так любила, росли в этой атмосфере, почему до такой степени стремилась возглавить организацию, которая нарушала и божеские, и человеческие законы. Но я не могла просить у неё объяснений, потому что, если я сделаю это, она быстро разузнает, каким образом дошла до меня правда, и война между Салина и Шьярра оставит в кюветах Сицилии слишком много жертв. Время обмана кончилось, и в глубине души мне следовало признать, что я была не такой уж несведущей, как мне того хотелось бы, да и Пьерантонио, ведущий грязные делишки в лоне церкви, всего лишь следовал семейной традиции, и уж конечно, верх добродетели, Лючия, всегда стоящая в стороне от всего, такая далёкая и простодушная, тоже о чём-то знала. Все мы трое жили во лжи, в которой наша семья, как в сказке, представлялась идеальным семейством со спрятанными в шкафах скелетами.
Я была настолько поглощена этими мыслями, что не помню, слышала ли, как меня позвал капитан Глаузер-Рёйст, но как автомат встала с места. Мне было абсолютно безразлично, что у Фарага была любовь с первого взгляда с Дорией. Ничто не могло причинить мне больше боли, чем я уже ощущала, так что могут хоть провести вместе остаток своих дней. Мне всё равно. Мои мысли курсировали от прошлого к настоящему и от настоящего к прошлому, увязывая нестыкующиеся факты и восстанавливая утраченные ниточки. Всё приобретало новую окраску, всему теперь находилось объяснение.
Я вдруг почувствовала себя очень одинокой, словно весь мир обезлюдел или связывающие меня с жизнью нити размылись. Мои братья и сёстры тоже обманывали меня. Все они хранили молчание и вели навязанную матерью игру. На самом деле они оказались не теми братьями и сёстрами, которым я слепо доверяла, и мы не были неразделимым целым, которым все мы так гордились. На самом деле настоящими детьми Джузеппе и Филиппы были те пятеро, живущие на Сицилии и занимающиеся семейным бизнесом; мы, живущие далеко, обманутые, были отдалены от повседневной реальной жизни семьи. Джузеппе, земля ему пухом, Джакома, Чезаре, Пьерлуиджи, Сальваторе и Агеда, наверное, всегда чувствовали себя обделёнными или, наоборот, счастливчиками по отношению к нам. Доверие между всеми девятью братьями и сёстрами всегда было с двойным дном: трёх предназначили церкви; остальные шестеро разделили везение и неудачу семьи, правду и вымысел и лгали по приказу матери. А отец?.. Какова была во всей этой истории роль отца? — подумала я. И в этот момент поняла, что отец мой был как раз кампиери, простым кампиери, которому была по нраву его отвратительная работа и который действовал по указке своей жены, великой Филиппы Цафферано. Всё складывалось. Элементарно.
— Доктор? Доктор Салина, вы хорошо себя чувствуете?
Лица родных, проплывавшие у меня в голове, стёрлись, и в тумане возник Кремень. Мы стояли в вестибюле патриархата, и я не помнила, как туда попала. Капитан, которого я последние три месяца видела каждый день, тем не менее казался мне совершенно чужим, таким же чужим, как Дория до того, как она назвала мне своё имя. Я знала, что знакома с ним, но ничто в его лице не подсказывало мне, кто это. В каких-то участках моего мозга произошло короткое замыкание, и они не работали, так что я была беспомощной, как новорожденный младенец.
— Доктор Салина, очнитесь, — не унимался он, тряся меня за плечи, — вы скажете наконец, что, чёрт возьми, с вами происходит?
— Мне нужно позвонить домой.
— Что вам нужно? — всполошился он. — Все уже в машине, ждут вас.
— Мне нужно позвонить домой, — автоматически повторила я, чувствуя, как мои глаза наполняют слёзы. — Пожалуйста, пожалуйста…
Глаузер-Рёйст напряжённо смотрел на меня пару секунд и, должно быть, решил, что будет быстрее дать мне позвонить, чем ждать, пока у меня улучшится настроение, или со мной спорить. Он резко отпустил меня, подошёл к отцу Каллистосу и Патриарху, остававшимся по ту сторону стеклянных дверей, и сказал им, что нам нужно позвонить в Италию. Я видела, как они что-то говорили, а потом капитан вернулся ко мне с недружелюбным видом.
— Можете позвонить с телефона, находящегося в кабинете вон там, но будьте осторожны в словах, потому что линии прослушиваются турецким правительством.
Мне было всё равно. Только бы услышать голос матери, чтобы раз и навсегда покончить с этим ужасным ощущением беззащитности и одиночества, которое возникло у меня в душе. Что-то нашёптывало мне, что, если я с ней поговорю хоть полминутки, ко мне вернётся рассудок, и я снова обрету почву под ногами. Так что, закрыв двери, я завладела телефоном, набрала международный код и девять цифр домашнего телефона и стала ждать сигнала подключения.
Трубку снял Маттео, самый серьёзный и немногословный из моих племянников, один из сыновей Джузеппе и Розалии. Как обычно, узнав меня, он не проявил ни малейшей радости, так было всегда. Я попросила, чтобы он передал трубку бабушке, и он сказал мне подождать, потому что она занята. Именно тогда я поняла, что дети тоже задействованы в этой игре. Без всякого сомнения, им тысячи раз говорили, что, когда позвонят дядя Пьерантонио, тётя Лючия или тётя Оттавия, они не должны говорить, кто чем занимается в доме, и что, когда мы дома, нельзя спрашивать или говорить о таких-то вещах. Голова у меня снова закружилась от лицемерия, одиночества и странного ощущения беззащитности, глодавшего меня изнутри.
— Оттавия, это ты? — В голосе матери слышалась радость, она была счастлива, что я позвонила. — Как ты, солнышко? Где ты сейчас?
— Привет, мама. — Я едва могла говорить.
— Твой брат Пьерантонио сказал мне, что ты несколько дней была с ним в Иерусалиме!
— Да.
— Как он? Хорошо?
— Да, мама, — сказала я, пытаясь придать весёлость своему голосу.
Мать засмеялась.
— Ну, ну а ты? Ты ещё не сказала, где ты!
— Да, мама. Я в Стамбуле, в Турции. Послушай, мама, я подумала… я хотела тебе сказать… Знаешь, мама, когда всё это кончится, я, наверное, уйду с работы в Ватикане.
Не знаю, почему я это сказала. Раньше я об этом даже не думала. Может, для того, чтобы сделать ей что-то неприятное, вернуть ей часть боли? На другом конце линии воцарилась тишина.
— Почему это? — в конце концов проговорила она ледяным тоном.
Как ей это объяснить? Эта идея была столь нелепой, столь абсурдной, что казалась совершенным безумием. Однако в данный момент уход из Ватикана представлялся мне освобождением.
— Мама, я устала. Думаю, мне пошло бы на пользу уединение в одной из общин моего ордена в сельской местности. В провинции Коннот в Ирландии есть одна такая община, я могла бы заниматься там архивами и библиотеками ближайших монастырей. Мне нужен покой, мама, покой, тишина и долгие молитвы.
Она не сразу отреагировала, а сделав это, заговорила самым презрительным своим тоном:
— Да ну, Оттавия, не говори глупости! Ты не можешь бросить должность в Ватикане! Хочешь меня расстроить? У меня и так забот по горло! Только-только умерли отец с Джузеппе. Почему ты говоришь мне такие вещи, дочка? Ну всё, больше мы об этом не говорим. Ты не уйдёшь из Ватикана.
— А что будет, если уйду, мама? По-моему, решение принимать мне.
Решение принимать мне, несомненно, но оно касалось и моей матери.
— Разговор окончен! Ты что, решила меня расстроить? Что с тобой, Оттавия?
— Вообще-то ничего, мама.
— Ну, значит, давай берись за работу и выбрось глупости из головы. Позвони мне как-нибудь в другой раз, хорошо, солнышко? Ты же знаешь, я всегда рада тебя слышать.
— Да, мама.
Когда я садилась в машину, я уже обрела твёрдую почву под ногами и внутренний покой. Я знала, что ни на секунду не забуду обо всём этом, потому что мой мозг работал под действием навязчивых импульсов, но по крайней мере я уже смогу пережить настоящую ситуацию, не теряя головы. Однако знала я и кое-что ещё, что, как бы мне ни было больно и как бы я ни отрицала это, было неизбежным: я уже никогда не буду прежней. В моей жизни произошёл болезненный разлом, её расколола трещина, разделившая меня на две неузнаваемые части и навсегда отдалившая меня от моих корней.
* * *
Чтобы доехать до Фатих Джами, мы не стали пользоваться автомобилем нунциатуры Ватикана. Исходя из соображений благоразумия, и монсеньор Льюис, и капитан решили, что гораздо лучше будет воспользоваться машиной патриархата, не имевшей внешних знаков отличия. С нами поехала только Дория, и именно она вела машину до Мечети Завоевателя, быстро прокатив нас вдоль Золотого Рога и бульвара Ататюрк. Внезапно возникшая перед нашими глазами за Боздоган Кемери (акведуком Валента) мечеть была огромной, мощной и мрачной, с высокими, испещрёнными балконами минаретами, громадным центральным куполом, вокруг которого множились полукупола, и мириадами верующих, снующих взад-вперёд на площади перед зданием, окаймлённой медресе и религиозными сооружениями.
Дория, на которую по дороге я ни разу не взглянула и с которой ни разу не заговорила, как, впрочем, и она со мной, остановила машину на парковке, расположенной на одном из концов площади, и, смешавшись с полчищами шатающихся здесь туристов, мы направились ко входу. Я заметила, что Фараг чуть замешкался, чтобы идти рядом со мной, оставив Дорию с капитаном, но поскольку сил на то, чтобы вынести его близость, у меня не было, я ускорила шаг и укрылась в присутствии Кремня, единственного, кто в силу своей холодности был готов оставить меня в покое. Мне ни с кем не хотелось говорить.
Мы переступили через порог и очутились в окаймлённом портиками большом дворе, где росли деревья и в центре высилась беседка, похожая на газетный киоск, но на самом деле бывшая фонтаном для омовений. Колонны галереи тоже были настоящими колоссами, и я не могла не обратить внимание на то, что, несмотря на то, что это мусульманские здания, на всём комплексе лежал заметный отпечаток неоклассики. Но это впечатление полностью исчезло, когда после того, как все разулись и мы с Дорией покрыли головы большими чёрными покрывалами, которые нам выдал старый привратник, следящий за моралью рассеянных туристов, мы вошли внутрь мечети. От красоты и великолепия у меня захватило дух. Мехмет II действительно соорудил для себя мавзолей, достойный завоевателя Константинополя: восхитительные красные ковры полностью покрывали пол, по площади легко сравнимый с размером ватиканской базилики Святого Петра; разноцветные витражи украшали окна, хитро расположенные под сводами куполов и в местах соединения трёх уровней постройки и пропускающие внутрь заполнявшие всё пространство яркие горизонтальные лучи. Арки и своды привлекали внимание ярко окрашенными в красный и белый цвет камнями, и в каждом большом и малом парусе свода в нарядном голубом медальоне красовались светлые каллиграфические надписи из Корана. В довершение всего на уровне половины высоты здания сеть проводов удерживала массу золотых и серебряных ламп.
Галереи для женщин располагались на втором этаже, и в какой-то момент я побоялась, что привратник прикажет нам сидеть там, пока Фараг с капитаном будут осматривать мечеть. Но, к счастью, это было не так. Мы с Дорией смогли передвигаться в этой огромной мечети где угодно, но молча, потому что, похоже, у иностранных туристок были определённые привилегии, недоступные мусульманским женщинам.
Больше часа мы бродили туда-сюда, разглядывая всё, что попадалось нам под руку, чтобы в конце концов совсем ничего не найти. Мы начали с киблы, храмовой стены, сориентированной на Мекку, в центре которой находится самое священное место храма, вытесанный в камне михраб, нечто вроде ниши, точно указывающей направление. Осмотреть максуру было гораздо сложнее, так как это отгороженный участок мечети перед киблой, на котором находится кафедра имама. Потом мы разделились, и Фараг проявил бесконечное терпение и ловкость, чтобы, не привлекая к себе внимание, осмотреть висячие лампы, а я взялась за все до единой колонны всех трёх этажей, включая женскую галерею. В свою очередь, капитан, вцепившийся в свой спасительный рюкзак, как будто нас вот-вот поджидает какая-то неприятность, просмотрел все рисунки на коврах, осмотрел скамьи, деревянную резьбу и скромный саркофаг, где хранились останки Мехмета II, а Дория взялась за витражи и двери. В конце концов нам оставалось только поднять каменные напольные плиты, но это было невозможно.
К концу нашего осмотра Мечеть Завоевателя почти полностью опустела, за исключением нескольких стариков, дремавших у пилястров. Но эта тишина была всего лишь затишьем перед бурей. Мы вздрогнули от зазвучавшего в громкоговорителях крика муэдзина, призывающего к молитве с высоты минарета, и переглянулись между собой. Капитан сделал нам знак собраться у входной двери и поскорее выйти, потому что нахлынувшими неизвестно откуда волнами в храм стали сходиться сотни верующих, которые затем рассаживались в идеально ровные, параллельные ряды, чтобы начать вечернюю молитву.
— Это «адхан», — сказала Дория, которую людской поток, похоже, неумолимо толкал на Фарага, — призыв к молитве.
«Ла илаха илла Аллах ва Мухаммад расул Аллах, — продолжал напевно выкрикивать усиленный громкоговорителями голос муэдзина. — Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк его».
— Пойдёмте отсюда, — проговорил Кремень, тараня толпу, чтобы расчистить нам проход.
С величайшим трудом нам удалось выйти в открытый двор, «сахн», и сделали мы это в последний момент, потому что ещё до того, как мы смогли заполучить назад свою обувь, мечеть наполнилась до предела.
— Утро вечера мудренее, — ободряюще заявил Фараг, с улыбкой оглядываясь по сторонам.
— Пойдём, — сказал Дория. — Я отвезу вас в гостиницу, и вы сможете отдохнуть. Я позвоню монсеньору Льюису, чтобы из аэропорта привезли ваш багаж.
— Он ещё в самолёте? — удивлённо спросила я и тут же пожалела о том, что обратилась к ней даже с этим простым вопросом.
— Я приказал не выгружать вещи, — пояснил Глаузер-Рёйст, — на случай, если нам удастся пройти испытание в течение дня.
— Боюсь, что не получится, Каспар.
— Если хотите, — не унималась Дория, демонстрируя лучшую свою улыбку и снимая с головы покрывало, — сегодня вечером я свожу вас на ужин в один из лучших в Стамбуле ресторанов. Интереснейшее место, где можно увидеть настоящий танец живота.
— Перед уходом нам не мешало бы осмотреть этот двор, — сердито заметила я.
Какой странной компанией мы были… Единственным возможным связующим между всеми нами был Кремень, который понятия не имел, что происходило в его войсках.
— Но сейчас они молятся! — возразила Дория. — Они будут оскорблены. Лучше вернуться завтра.
Глаузер-Рёйст взглянул на меня.
— Нет, доктор права. Осмотрим это место. Если сделать это незаметно, мы никому не помешаем.
— Кому-то придётся тем временем присматривать за привратником, — вставил Фараг. — Он глаз с нас не сводит.
— Наверное, это ставрофилах, наблюдающий за испытанием, — пошутила я.
Эта дура Дория молниеносно обернулась к нему.
— Серьёзно? — чуть ли не крикнула она. — Ставрофилах?
— Дория, Господи! — оборвала я её. — Это же не игрушки! Прекрати на него пялиться!
Привратник, старик с редкой бородкой и белой шапочкой, похожей на яичную скорлупу, на макушке, нахмурился, не сводя с нас глаз со своего поста у ворот.
— Дория, идите вы, — распорядился Кремень. — Поговорите с ним, верните ему покрывала и отвлеките, как только сможете.
Злорадно усмехаясь, я вручила Дории своё покрывало и осталась с Фарагом и капитаном. Как часто мы играли вместе в детстве и, слава Богу, как по-разному в конце концов сложились наши жизни!
— Давайте разделимся, — сказал Глаузер-Рёйст, как только Дория отошла. — Пусть каждый осмотрит треть двора. Вы, доктор, не подходите к фонтану омовений. Может начаться целая революция. Им займёмся мы.
Так что они оставили меня одну и направились прямо к «шадирвану», фонтану для омовений в виде газетного киоска. Доставшийся мне участок на левом краю ограниченного свободного пространства не представлял собой ничего интересного. Мощённый камнем пол, деревья и отделяющие двор от улицы стены ничем не привлекали внимание. Лениво бродя под портиком, я остановилась понаблюдать за Дорией, ведущей глупый спор с привратником мечети. Старик смотрел на неё как на идиотку, каковой она и была, или на дьявола во плоти, каковым она тоже являлась, и, казалось, был готов выгнать её отсюда взашей. Интересно, что за глупости она говорила этому бедолаге, что он так завёлся.
Однако времени на то, чтобы разузнать это, у меня не осталось, потому что на плечо мне легла рука Фарага, заставившая меня развернуться к нему, а он, очаровательно улыбаясь, глазами указал мне на капитана.
— Нашли, — прошептал он, всё так же улыбаясь. — Надо торопиться.
Спокойным шагом мы прошли к той стороне «шадирвана», где находился Глаузер-Рёйст.
— Что вы нашли? — спросила я, подходя к нему и тоже улыбаясь.
— Христограмму Константина.
— В мусульманском фонтане для омовений? — изумилась я. — Это невозможно.
Перед тем, как приступить к пяти ежедневным молитвам, предписываемым Кораном, мусульмане производят сложный ритуал омовения, заключающийся в омовении лица, ушей, головы, ладоней, рук до локтей, щиколоток и ступней ног. Для этого во всех мечетях на входе установлены фонтанчики, через которые проходят верующие перед тем, как зайти в «харам» или молитвенный зал.
— Она очень хорошо замаскирована, — пояснил Фараг. — Как будто мозаика, кусочки которой перемешали и разместили на дне фонтана.
— На дне фонтана?
— Тут двенадцать кранов, и вода льётся в каменный водосток, дно которого вымощено кусочками нашей христограммы. Это значит, что ключ в «шадирване». Капитан ищет дальше. Нам нужно поторопиться, потому что Дория не сможет отвлекать привратника вечно, так что быстренько смотри и скорее отходи подальше.
Я в точности последовала указаниям Фарага, обменявшись с капитаном понимающим взглядом, как только подошла к нему достаточно близко. Они были правы в своих заключениях. Центр фонтана представлял собой каменный цилиндр, из которого выходило двенадцать медных кранов, а под ними находился водосток шириной чуть меньше метра, окружённый небольшим ограждением. Там на дне, почти скрытые под грязной водой, оставшейся после недавних массовых омовений, виднелись каменные блоки со стёртым рельефом, в которых, зная, что ищешь, легко можно было угадать отдельные части христограммы Константина. «Хорошо, — подумала я, поджимая губы, — в чём же тут дело? Что нам теперь нужно сделать?» Несмотря на то что меня предупредили об опасности, которой было чревато моё пребывание рядом с «шадирваном», я сама не заметила, как машинально открыла кран, и, хоть никакой вселенской катастрофы не последовало, это движение навело меня на одну мысль, которую я, естественно, немедленно воплотила в жизнь: сняв туфли на глазах у шокированных капитана и Фарага, я влезла в водосток, чтобы проверить, не кроется ли секрет в том, чтобы встать на камни. Разумеется, это ни к чему не привело, но так как дно было очень скользким, отступив на шаг, чтобы выбраться назад, я покачнулась и сбоку задела торчащий передо мной кран. Интересно, что при этом кран, не ломаясь, загнулся кверху, обнаружив под собой пружину, которая свидетельствовала о том, что мы что-то нашли. Увидев её, Фараг с капитаном решили последовать моему примеру, прямо в ботинках залезли в жёлоб и, словно обезумев, начали колотить по всем кранам. Как бы странно это ни показалось, с того момента, как я влезла в воду, до тех пор, пока все двенадцать кранов были подняты и пол разверзся у нас под ногами, не могло пройти больше, чем максимум полминуты, но, вспоминая об этой сцене, я вижу её словно в замедленной съёмке.
Двенадцать камней, составлявших дно водостока, подались под нашим весом, будто получившая удар челюсть, швыряя нас в пустоту и снова становясь на место, пока, летя вниз, мы видели, как отдаляется и исчезает свет над нами. В другой момент я бы завизжала как сумасшедшая (как это и было, когда мы падали из крипты церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Великую клоаку) и замахала руками в воздухе, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, но теперь, уже на пятом круге Чистилища, я знала, что возможно всё, что угодно, и даже не испугалась. Когда я сильно, с плеском и шумом плюхнулась в мягко принявшую меня воду, меня удивил только её ледяной холод. Я задержала дыхание и, когда погружение кончилось, дёрнула ногами, чтобы всплыть на поверхность и высунуть голову. Кроме того, что вокруг стояла вонь, тут ещё было темно, как у негра в желудке. Рядом со мной послышался плеск.
— Фараг?.. Капитан?.. — Эхо на множество ладов повторило мой голос.
— Оттавия! — крикнул Босвелл справа от меня. — Оттавия! Где ты?
Снова всплеск, и кто-то рядом со мной начал отплёвываться от воды.
— Капитан?..
— Чёрт побери! Чёрт побери всех проклятых ставрофилахов! — загремел мощный голос Глаузер-Рёйста. — Я вымочил одежду!
Перебирая ногами, чтобы оставаться на плаву, я не смогла удержаться от смеха.
— Вот это да! — воскликнула я. — Что же нам теперь делать, капитан? У вас же вымокла одежда! Просто ужас!
— Кошмар, кошмар! — фыркнул Фараг.
— Смейтесь сколько хотите, но я сыт по горло этими типами!
— Да? А я — нет, — заметила я.
В этот момент Кремень зажёг фонарь.
— Где мы? — спросил Фараг, как только появился свет, и мы увидели, что находимся в каменной цистерне с мутной жидкостью. Преимущество таких приключений, когда тебе приходится с головой погрузиться в воду, которой мыли сотни потных ног, заключается в том, что все проблемы реальной жизни, которые причиняют тебе настоящую боль, забываются и исчезают. Непосредственно окружающая тебя действительность поглощает все физические и духовные силы, и в этом случае насущной необходимостью было удержаться от рвоты или ощущения чесотки по всему телу, не говоря уже о том, чтобы не думать об инфекциях, которые вся эта грязь могла вызвать на израненных ногах, памятном подарке афинского марафона, и на многочисленных шрамах от скарификации.
— Это что-то вроде Саргассова моря, только вместо водорослей здесь грибки.
Господи, как я изменилась! Фараг засмеялся.
— Доктор, прошу вас! Перестаньте говорить гадости! — загремел голос Кремня. — Быстро ищем, как отсюда выйти!
— Так наведите фонарь на стены, может, мы что-то и увидим!
Каменные стены подземной цистерны были покрыты большими пятнами чёрной плесени, разделёнными толстыми полосами грязи, отмечавшими разные уровни воды на протяжении последних пятисот или тысячи лет. Но, за исключением сырости и слоя растительности, там не было видно ничего такого, что могло бы помочь нам взобраться на стены. С другой стороны, расстояние до водостока «шадирвана» было настолько большим, что добраться туда, не свалившись несколько раз в этот ароматный пруд, было бы невозможно. Если какой-то выход есть, заключили мы, он находится под нами.
— Этой ванной смирения, — пробормотал Фараг, — мы скорее очищаемся от греха гордыни, чем алчности.
— Мы ещё не закончили, профессор, — отчеканил Кремень.
— Фонарь у нас один, — сказала я, начиная ощущать усталость в ногах, — так что, если нужно нырять, нам придётся это делать вместе.
— Ошибаетесь, доктор, у нас три фонаря. Сейчас выдам вам ваши.
Он покопался в мокром рюкзаке и с большим трудом вытащил фонарик для меня, а потом дал другой Фарагу. С таким освещением это место утратило зловещий и гадкий вид и осталось просто гадким. Я решила не очень об этом задумываться, потому что почувствовала слабый позыв к рвоте и не собиралась добавлять в воду грязи.
— Готовы? — спросил Кремень и без дальнейших предисловий набрал воздух, раздул щёки и погрузился в бульон.
— Давай, Оттавия, — подбодрил меня Фараг, глядя на меня улыбающимися глазами, теми самыми, которыми весь день глупо пялился на Дорию. Если он собирался сократить дистанцию между нами, он наткнулся на каменное упрямство. Не ответив ему и не подав виду, что слышу, я набрала в лёгкие грязный воздух и нырнула вслед за капитаном. Вода была настолько мутной, что фонарик Глаузер-Рёйста был едва заметной световой точкой в нескольких метрах подо мной. Фараг находился за моей спиной и освещал стены колодца, но там виднелись только пряди белых водорослей, колыхавшихся от нашего движения.
Конечно, раньше всех воздух кончился у меня, так что мне пришлось быстро всплыть на поверхность. Из-за того, что я вдыхала воздух большими глотками, словно попавшая на сушу рыба, я в итоге перестала чувствовать запах стоячей воды. Через определённые промежутки времени мы по очереди разворачивались и всплывали, но с каждым разом спуск становился всё быстрее, потому что мы плавали в уже знакомом месте. Хотя вода казалась всё ледянее, ощущение от мягкого скольжения головой вниз в полной тишине было замечательным. В какой-то момент Фараг случайно столкнулся со мной, и я вдруг почувствовала прикосновение его ног к моим. Когда он осветил нас фонарём, на его лице было написано весёлое извинение, но я сохранила серьёзный вид и отплыла подальше, однако против воли оставшееся у меня ощущение этого лёгкого прикосновения заставило меня забыть о ледяном холоде воды.
Наконец на глубине около пятнадцати метров на грани изнеможения и с чувством ужасного давления в ушах мы нашли огромное круглое отверстие выходного канала. Мы всплыли, чтобы передохнуть несколько минут и надышаться, и, когда были готовы, быстро нырнули к отверстию и заплыли вовнутрь. На минуту мне стало дурно от мысли о том, что у меня может не хватить воздуха, чтобы проплыть до конца этого канала. К тому же я плыла между капитаном спереди и Фарагом сзади, так что деваться мне было некуда. Я взмолилась о помощи и сосредоточилась на словах «Отче наш», чтобы из-за волнения не истратить тот немногий кислород, который у меня ещё оставался. Но когда я уже думала, что настал мой час, и представляла, как будет безутешен после моей смерти Фараг, канал кончился, и над нашими головами вдалеке показалась жидкая прозрачная поверхность, пропускавшая отблески света. С разрывающимся сердцем я бросилась вверх, стараясь сдержать инстинктивное желание вдохнуть, которое моё тело упрямо старалось осуществить. Наконец я на полкорпуса выскочила из воды, как выпрыгивающий из воды буёк, и глотнула воздух.
Я дышала, как паровоз, и с трудом могла контролировать сведённое от холода тело, но в конце концов опомнилась и разглядела место, куда мы попали. По закону соединяющихся сосудов мы неминуемо должны были находиться на том же уровне, что и раньше, в колодце, но перед нами открывался совершенно иной вид: половину громадной пещеры, освещённой десятками закреплённых на стене факелов, занимало широкое открытое пространство, спускающееся к воде, как каменный пляж. Но, несомненно, поразительнее всего была видневшаяся в глубине гигантская христограмма, высеченная в скале и обрамлённая смоляными факелами.
— Боже мой! — услышала я голос поражённого Фарага.
— Похоже на собор, посвящённый божеству Монограммы, — заметил капитан.
— И очевидно, что нас ждали, — прошептала я. — Посмотрите на факелы.
От царившей здесь тишины, нарушаемой только далёким потрескиванием огня, ощущение того, что мы находимся в священном месте, становилось, если это только возможно, ещё более тягостным. Мы медленно поплыли к берегу. Снова почувствовать под ногами, хоть и босыми, землю и выйти из воды было очень приятно. Я настолько окоченела, что воздух в пещере показался мне тёплым, и, пытаясь отжать юбку (нечего сказать, в подходящий день я её надела), я рассеянно огляделась. Когда я вдруг заметила, что меня внимательно разглядывает стоящий невдалеке Фараг, моё сердце замерло. В его глазах горел особый, иной свет. Я занервничала и отвернулась к нему спиной, но его образ запечатлелся на моих зрачках.
— Смотрите-ка! — воскликнул Кремень, показывая пальцем. — Под христограммой вход в пещеру! Вперёд, доктор!
— Да что же это!.. Почему я всегда должна идти первой? — возмутилась я, испытывая определённые опасения.
— Вы храбрая женщина, — с улыбкой добавил он, подбадривая меня.
— Что-то я в этом не уверена, капитан.
Но я послушалась и зашагала вперёд, зная, что за этим входом нас ждёт настоящее испытание ставрофилахов. Осторожно ступая (я шла босиком), я начала обдумывать, как решил бы задачку с колодцем Данте Алигьери. Такой серьёзный, такой строгий человек, как он, такой благопристойный, после десятого погружения в эту отвратительнейшую воду, наверное, вышел бы из себя. Кто-нибудь когда-нибудь представлял себе плавающего Данте? Такие действия, кажется, совсем не увязываются с его имиджем, и тем не менее в том, что он это сделал, не было ни малейшего сомнения.
Нам пришлось пройти совсем небольшую часть пещеры, не больше двухсот — трёхсот метров, но все пять моих чувств в это время были максимально обострены, так как нельзя доверять тем, кто зажигает десятки факелов и уходит, не попрощавшись. По хранителям предыдущих испытаний я уже с лихвой поняла, что ни одному из них нельзя доверять.
Наконец в конце туннеля мы заметили свет. Когда мы подошли к нему, то увидели огромное круглое пространство, нечто вроде римского цирка, покрытого каменным куполом, вздымавшимся над нашими головами на большую высоту. В точном центре этого круга на четырёх красивых белых львах в натуральную величину, которые, несмотря на свой грозный вид, казалось, просто умоляли нас подойти и осмотреть их груз, возвышался одинокий порфировый саркофаг, красный, как кровь, и способный вместить целую семью.
— Ну и местечко! — пробормотал Фараг, и за его словами последовал оглушающий грохот, от которого мы в ужасе резко повернулись на сто восемьдесят градусов. С высоты, загородив проход в пещеру, рухнула железная решётка.
— Вот так пришли! — возмущённо воскликнула я. — Что за дикие люди!
— Хватит причитать, доктор, лучше сосредоточьтесь на том, что нам нужно сделать.
Я бессознательно взглянула на Фарага в поисках его поддержки, и вдруг скрывавшее мои чувства покрывало спало, и нахлынувший поток эмоций ударил меня словно током. Волосы у профессора Босвелла прилипли к лицу, борода намокла, а глаза запали, и вокруг них залегли обеспокоившие меня чёрные круги. И всё-таки мне он показался очень красивым и настолько родным, будто я любила его всю жизнь, будто всегда была рядом с ним, держась за его руку, прижимаясь к его телу, сливаясь с ним. Я с головы до ног содрогнулась от необъяснимого потрясения. Почему некоторые умозрительные образы обладают могуществом сотрясать землю? Я никогда не испытывала ничего подобного, и больше всего меня удивляли постоянные колебания температуры, которую, в зависимости от мыслей, ощущало моё тело. «Так это продолжаться не может», — мелькнуло у меня в голове, и я с беспокойством подумала, не дошла ли я до такой крайности, что спутала амбиции с призванием, что называла отдачей и любовью то, что было всего лишь работой и образом жизни. В глубине души я знала, что это было бы лучшим вариантом, потому что лишь эта ошибка сможет оправдать в моём сознании то, что я чувствовала по отношению к этому красивому и умному мужчине, и в то же время послужить оправданием моему уходу из религиозной жизни… Да что же это! О чём это я думаю? Разве я не видела, как он целый день заигрывал с Дорией Шьярра? Я последний раз презрительно взглянула на него и повернулась к нему спиной как раз тогда, когда он начал мне улыбаться, так что он или подумал, что я сошла с ума, или решил, что ему всё привиделось. С острой болью в сердце, сгорая на медленном огне, я подошла к саркофагу, и Кремень последовал за мной. Как будто мне не хватает моей семьи и наших приключений, я ищу новые проблемы на свою голову. Неужели я не могу подарить себе немного покоя?
Вокруг выложенного на полу залы мраморного круга на уровне с ним находилось двенадцать странных полукруглых удлинённых отверстий. Если бы мы не имели дело с христианской сектой ставрофилахов, я готова была бы поклясться, что это зловещие ботросы, жертвенные ямы, в которые лились возлияния в честь умерших и где обезглавливали приносимые подземным богам жертвы. Они были не очень большими и скорее походили на норы мелких тварей, равномерно и аккуратно расположенные по кругу, а над их сводом находились странные рельефы, которым я в первый момент не придала особого значения. Между ними горели закреплённые в железных кольцах факелы.
Великолепные львы, поддерживавшие гигантский саркофаг, были высечены из белого мрамора. По мере того как я подходила к гробнице, моё изумление нарастало, так как на её боковых сторонах красовались прекрасные горельефы с невероятными сценами, а все украшения и инкрустации на ней были из чистого золота, включая два кольца толщиной с мой кулак, которые, по меньшей мере теоретически, должны были служить для переноски этой громадины. Из этого драгоценного металла были также когти львов, их глаза и зубы, карнизы на крышке и орнамент в форме лавровых листьев, обрамлявший резьбу по порфиру. Вне всякого сомнения, этот саркофаг был достоен короля, и когда я подошла поближе (крышка или плита оказалась выше уровня моей головы), рассмотрев изображённую на одной из стенок сцену, я убедилась в своих предположениях: рельеф был разделён на две части, в нижней из них виднелась толпа, в мольбе вздымающая руки к выделенной центральной фигуре в византийских императорских одеждах. Эта фигура раздавала пригоршни монет и находилась в окружении важных придворных и высокопоставленных сановников.
Я обошла саркофаг кругом, чтобы оказаться в его ногах, и увидела рельефный медальон с той же фигурой императора на коне, в сопровождении двух намного меньших фигур, несущих короны, пальмы и щиты. Всё ещё не веря своим глазам, заметила, что вокруг головы этого императора был нимб святого и что на щитах была вырезана монограмма Константина. Не в силах поверить в появившуюся у меня в голове абсурдную идею, я продолжила обход и очутилась перед другим боковым рельефом. Высеченная на нём картина изображала восседающего на троне Христа Пантократора, перед которым этот монарх склонялся в проскинесисе, то есть в традиционной для поклонения византийским императорам позе, когда проситель становится на колени и касается лбом пола, вытягивая руки в жесте мольбы. Вокруг головы фигуры снова был нимб, и черты лица были такие же, как в двух предыдущих сценах, так что было ясно, что речь идёт об одном и том же императоре и что именно его останки находятся в этой каменной гробнице.
— Чёрт возьми, невероятно! — послышался в этот момент у меня за спиной голос Фарага, потом он присвистнул. — Оттавия, спорим, ты не знаешь, кто этот старый крылатый Геркулес с сердитым лицом?
— О чём ты, Фараг? — недовольно ответила я, поворачиваясь к нему. Над отверстием одного из ботросов старательно раздувал щёки и дул упомянутый Фарагом Геркулес, державший в руках молодую девушку.
— Это Борей! Не узнаёшь? Воплощение холодного северного ветра. Смотри, как он дует в раковину, а волосы ему покрывает снег.
— Почему ты так в этом уверен? — упрекнула я его, подходя поближе, но получила ответ, прочтя находящуюся под фигурой надпись: «Βορεας». — Ладно, не отвечай, уже знаю.
— А там, напротив, Нот, сто процентов, — сказал Фараг, торопясь туда, чтобы проверить свою догадку. — Точно, Нот, тёплый южный ветер, приносящий дожди.
— То есть над каждым из этих двенадцати полукруглых отверстий расположен ветер, — подытожил Кремень, не двигаясь с места.
Да, это были двенадцать сыновей наводящего ужас Эола, почитавшиеся в древности как боги, ибо они являли собой всё могущество сил природы. Для греков, да и не только для них, ветры были божествами, от которых зависела жизненно важная смена времён года, которые собирали облака и вызывали бури, волновали моря и приносили дожди, и, кроме того, именно от них зависело, нагреют солнечные лучи землю или сожгут её. Но вдобавок, как если бы всего этого было недостаточно, они осознавали, что человек умирает, если ветер не проникает в его тело посредством дыхания, так что от этих богов полностью зависела жизнь.
Следуя по часовой стрелке, здесь были старый Борей во всей своей грубой мощи, как его и описал Фараг; затем шёл Геллеспонтий, символизируемый бурей; потом Апелиот — полная фруктами и зерном земля; благотворный Эвр, «добрый ветер» с востока, «легкотекущий» Эвр, изображённый в виде зрелого мужчины с зарождающейся лысиной; Эвронот; Нот, южный ветер, представленный в виде юноши, с крыльев которого стекала роса; Либанот; Липс — безбородый юнец с раздутыми щеками, несущий «афластон»[50]; юный Зефир, западный ветер, который вместе со своей возлюбленной нимфой Хлоридой рассыпал цветы на свой чёрный ботрос; Аргест, запечатлённый в виде звезды; Фраский, увенчанный облаками; и, наконец, ужасный Апарктий с бородатым лицом и хмурым лбом. Между двумя последними из них находился вход в пещеру, через который мы вошли.
Фигуры четырёх важнейших ветров: Борея, Эвра, Нота и Зефира, были более крупными и законченными; остальные были меньше и не так хорошо проработанными. По красоте эти изображения византийского типа можно было сравнить с напольными рельефами, запечатляющими гордыню в Великой клоаке. Их, несомненно, выполнил один и тот же художник, и очень жаль, что его имя не сохранилось в истории, так как его работы были на высоте лучших произведений скульптуры. Возможно даже, хотя нужно всё проанализировать, что он работал только на братство, что придало бы его творениям исключительную дополнительную ценность.
— А что с саркофагом? — вдруг спросил Глаузер-Рёйст, отрываясь от ветров.
— Правда, впечатляет? — проговорила я, подходя ближе. — Размеры колоссальные. Обратите внимание, капитан, что надгробная доска на уровне вашей головы.
— Но кто в нём похоронен?
— Не уверена. Мне нужно осмотреть горельеф верхней крышки.
Фараг тоже подошёл к порфировой громадине, с любопытством оглядывая её. Я направилась к изголовью, чтобы посмотреть последний из боковых рельефов прежде, чем дерзнуть сформулировать сумасшедшую гипотезу, крутившуюся у меня в голове. Но все мои сомнения развеялись при виде классического профиля, тонко прорезанного на лавратоне пурпурного камня: в окружении лаврового венка здесь виднелось то же лицо с выпуклыми глазами и бычьей шеей, которое изображено на солидусе, кусочке золота, известном среди историков как «средневековый доллар», могущественной монете, созданной в IV веке императором Константином Великим.
— Это невозможно! — закричал Фараг так, что я подпрыгнула. — Оттавия, ты не поверишь, тут такое написано!
Я безуспешно поискала Фарага глазами, пытаясь определить, откуда идёт его голос, но это не удалось мне до тех пор, пока его второй возглас, раздавшийся прямо надо мной, не заставил меня поднять голову. Там, наверху, на четвереньках на надгробии, широко открыв глаза, с остолбеневшим видом стоял профессор Босвелл собственной персоной.
— Оттавия, клянусь, ты не поверишь! — не унимался он. — Клянусь, ты не поверишь, Оттавия, но это правда!
— Профессор, хватит нести чепуху! — загремел справа от меня голос капитана. — Будьте добры объясниться!
Но Фараг не обратил на него никакого внимания и продолжал смотреть на меня с безумным видом.
— Басилея, клянусь, это невероятно! Знаешь, что тут написано? Знаешь что?
Услышав, что он снова называет меня Басилеей, сердце моё заколотилось.
— Если ты не скажешь, — осторожно начала я, сглатывая слюну, — вряд ли я смогу догадаться, хотя некоторые подозрения у меня есть.
— Нет, нет, ты даже не догадываешься! Это невозможно! Даже за миллион лет тебе не отгадать имени того, кто лежит здесь внутри!
— На что спорим? — шутливо спросила я.
— На что хочешь! — с уверенностью воскликнул он. — Но не очень поднимай ставки, потому что ты всё равно проиграешь!
— Император Константин Великий, — заявила я, — сын императрицы Елены, нашедшей Святой Крест.
На его лице изобразилось ещё большее недоумение. На несколько мгновений он онемел, а потом пробормотал:
— Как ты догадалась?
— По вырезанным на порфире сценам. На одной из них изображено лицо императора.
— Хорошо хоть мы ни на что не поспорили!
По словам Фарага, на надгробии, кроме христограммы императора, была простая надпись, гласившая «Константинов энести», то есть «здесь Константин». Это было величайшим историческим открытием, важнейшей за последние века находкой. На каком-то этапе, между 1000-м и 1400 годом, гробница Константина навсегда затерялась в пыли сандалий крестоносцев, персов и арабов. Но мы сейчас находились у саркофага первого христианского императора, основателя Константинополя, и это ещё раз доказывало, что ставрофилахи всегда были готовы спасти всё, что имело отношение к Честному Кресту. Как только мы разрешим проклятую аллегорию Чистилища и я покончу со своей многолетней работой в тайном архиве, как я это планирую, я закроюсь от всех в ирландской общине в Конноте и подготовлю ряд статей о Животворящем Кресте, ставрофилахах, Данте Алигьери, святой Елене и Константине Великом и сообщу всему миру о местонахождении важнейших останков императора. У меня не было ни малейшего сомнения по поводу того, что я получу все известные академические награды, и это очень поможет мне залечить моё тщеславие, уязвлённое уходом из могущественного Ватикана.
— Не думаю, что император Константин здесь, — ни с того ни с сего заявил Кремень. Мы с Фарагом удивлённо уставились на него. — Вы что, не понимаете, что это невозможно? Такая значительная особа не могла окончить свои дни в качестве части испытаний, связанных с инициацией в секте грабителей.
— Да ну, Каспар, не нужно скептицизма! — ответил Фараг, слезая с плиты. — Такое случается. В Египте, к примеру, каждый день обнаруживают самые невероятные археологические наход… Эй! Что это? — вдруг воскликнул он. Надгробная крышка саркофага начала медленно сдвигаться и упёрлась ему в шею, чуть не столкнув на пол.
— Прыгай, Фараг! — крикнула ему я. — Падай вниз!
— Профессор, что вы сделали? — загремел бас Кремня.
— Ничего, Каспар, уверяю вас, — заявил Босвелл, делая смелый пируэт, чтобы спрыгнуть на мраморные плиты. — Только упёрся ногой в золотое кольцо, чтобы лучше спуститься.
— Ну, ясно, именно так открывается саркофаг, — прошептала я, когда порфировое надгробие с резким щелчком откинулось до упора.
Опершись на голову одного из львов и ухватившись за край гробницы, Глаузер-Рёйст подтянулся кверху, чтобы заглянуть внутрь.
— Что вы видите, капитан? — сгорая от любопытства, спросила я. Готова поклясться, что жужжание лопастей началось именно в этот момент, но полной уверенности у меня нет.
— Мертвеца.
Фараг смиренно поднял глаза к небу и последовал за Кремнем вверх, воспользовавшись для подъёма соседним львом.
— Оттавия, иди посмотри, — сказал он мне с улыбкой.
Недолго думая я без всяких церемоний потянула капитана за пиджак, чтобы он спустился вниз и освободил мне место, и после чрезвычайных спортивных подвигов оказалась на нужной высоте, чтобы разглядеть открывшуюся моим глазам невероятную картину: как в матрёшках, где в больших куклах находятся куколки поменьше, а в них — ещё меньше, в гигантском саркофаге лежало несколько гробов, последний из которых служил настоящим пристанищем останкам императора. Все они были покрыты стеклом, так что останки Константина можно было увидеть довольно легко. Конечно, утверждать, что это было Константином Великим, было бы очень опрометчиво, потому что о его высоком происхождении свидетельствовали только имперские украшения, череп был самым обыкновенным. Однако на этом обыкновенном черепе красовалась золотая стемма[51], усыпанная драгоценными камнями, от которой прямо дух захватывало, и, к ещё большему нашему изумлению, она была увешана прекраснейшими катафеистами[52], ниспадавшими из-под туфы[53]. Остальная часть скелета была покрыта великолепным скарамангием[54], закреплённым на правом плече фибулой и полностью затканным золотом и серебром с каймой с нашитыми аметистами, рубинами и изумрудами и кромкой из жемчужин одна другой лучше. На шее у него был лорос[55], а на поясе — потрёпанная акакия[56], без которой не обходился ни один уважающий себя византийский император.
— Это Константин, — слабым голосом вынес вердикт Фараг.
— Похоже, да…
— Басилея, когда мы всё это опубликуем, мы прославимся.
Я быстро повернулась к нему.
— Как это «когда мы всё это опубликуем»? — Я ужасно возмутилась и внезапно поняла, что у нас были одинаковые права на научную проработку этого открытия и что мне придётся разделить славу с Фарагом и Глаузер-Рёйстом. — Капитан, вы тоже собираетесь делать научные публикации? — спросила я его, глядя сверху вниз.
— Разумеется, доктор. Вы что, думали, что всё это — ваша личная собственность?
Фараг засмеялся и спрыгнул на пол.
— Не обижайтесь, Каспар. У доктора Салины упрямая голова, но золотое сердце.
Я собиралась ответить ему по заслугам, когда вдруг слабый шум, начавшийся всего несколько минут назад, превратился в гудение, как от множества мельничных лопастей, яростно вращаемых ветром. Этот образ в конце концов оказался не таким уж нелепым, потому что неожиданный порыв ветра, вырвавшийся из ботросов, закружил мне юбку и толкнул меня на саркофаг.
— Да что же это? — возмутилась я.
— Боюсь, доктор, начинается веселье.
— Оттавия, держись покрепче.
Не успел Фараг договорить, как порыв ветра превратился в шквал и тут же в ураган. Факелы сразу погасли, и мы оказались в темноте.
— Ветры! — прокричал Фараг, с силой хватаясь за край саркофага.
Капитан Глаузер-Рёйст, которого ветер застиг на открытом месте, зажёг фонарь и, прикрыв глаза рукавом, попытался пройти два-три метра расстояния, отделявшего его от нас. Но ветер дул так сильно, что продвинуться вперёд он не мог.
Так же, как Фараг, я изо всех сил вцепилась в край саркофага, чтобы не дать этому сумасшедшему циклону сбросить меня на землю, но скоро поняла, что долго не продержусь, потому что пальцы у меня болели, так сильно я сжимала камень и сил уже не оставалось.
Скорость ветров непрестанно нарастала, и от них у меня слезились глаза, и по щекам текли целые ручьи слёз, но хуже всего было не это; худшее началось, когда каждый из сыновей Эола добавил в своё дуновение особенности, которыми был известен: Борей, Апарктий и Геллеспонтий постепенно становились холоднее и достигли невыносимой ледяной температуры. Фраский и Аргест до этого не дошли, но в их порывы добавились капли, которые от холода схватывались и превращались в град, так что казалось, что в нас откуда-то стреляют ружейной дробью. Наступил момент, когда боль стала настолько невыносимой, что мои руки разжались, и я была повержена на землю, как писал Данте — теперь его слова стали предельно ясными, а мои глаза и дальше слезились от яростных сухих и резких порывов Апелиота и Эвра. Но если Фраский и Аргест плевались градом, Эвронот, Нот и Либанот стали испускать жестокие раскалённые клубы воздуха, которые плавили лёд и обжигали кожу. Помню, что в этот момент я пожалела, что не надела брюки, потому что заряды града ужасно ранили мне ноги, а жаркое дыхание Нота палило их огнём. Я пыталась прикрыть лицо руками, но ветер проникая во все дырочки и затруднял мне дыхание. Я подумала, что самое главное — дойти до Фарага, но я понятия не имела, как это сделать, и не могла посмотреть, где нахожусь, потому что оторваться от пола и даже пошевелить рукой или ногой было невозможно, поэтому я стала звать его изо всех сил. Но гудение было настолько оглушительным, что я не услышала даже собственного голоса. Это был конец. Как, интересно, мы должны были отсюда выбираться? Это абсолютно нереально.
Сначала я почувствовала только лёгкое прикосновение к щиколотке и не обратила на него внимания. Потом прикосновение превратилось в руку, которая с силой схватила меня и, пользуясь моей ногой, как опорой, начала карабкаться вверх к моему лицу. У меня не возникло никаких сомнений в том, что это Фараг, потому что капитан никогда не решился бы так ко мне прикоснуться и, кроме того, когда я его видела в последний раз, он был передо мной, а не за моей спиной. Так что, хоть ситуация была и плачевной, в ней было и что-то, что поддержало во мне надежду и помогло не потерять головы… хотя, пожалуй, что-то всё-таки потерялось, потому что, когда закончились ноги, вместо ладони появилась вся рука, обнявшая меня за талию, а потом и тело, прижавшееся к моему и продолжающее подниматься вдоль моего бока. Должна признаться, что, хотя я чуть не обезумела от порывов ледяного и раскалённого воздуха и ужасных уколов крупного града, то долгое мгновение, которое потребовалось Фарагу, чтобы добраться до моего лица, было одним из самых волнующих в моей жизни. И самое удивительное то, что все эти новые ощущения, из-за которых я должна была бы чувствовать себя не просто виноватой, а жутко виноватой, делали меня свободным и счастливым человеком, словно я наконец отправилась в долго откладываемое путешествие. Меня не волновало даже то, что за эти чувства придётся отвечать перед Богом, как будто я была уверена, что Он всё одобряет.
Когда Фараг приблизился к моему лицу, он прижал губы к моему уху и произнес какие-то бессвязные звуки, которые я не смогла разобрать. Он повторил их ещё и ещё раз, пока, с изрядной долей воображения соединив в целое фрагменты его слов, я смогла разобрать слова «Зефир» и «Данте». Я принялась думать о Зефире, восточном ветре, разбрасывающем цветы в сопровождении своей возлюбленной, юной Хлориды; Зефире, восхваляемом в великих поэмах древности за то, что он дует, будто лёгкий, нежный ветерок, прилетающий весной, — звучит пошловато, но я это где-то вычитала, по-моему, у Плиния; Зефире, закатном ветре, ветре заходящего солнца, подходящего к концу дня, кончающейся зимы… Конец. Может быть, именно это пытался сказать мне Фараг. Конец этого кошмара, выход. Зефир — это выход. Но как к нему добраться? Если я и пальцем не могу пошевелить! А кроме того, где находится ботрос Зефира? Я совершенно потеряла ориентацию. И тут я вспомнила:
«Когда вы здесь меж нами не лежите,
То, чтобы путь туда найти верней,
Кнаружи правое плечо держите».
Дантов терцет! Вот что хотел сказать мне Фараг: чтобы я вспомнила слова Данте! Я напрягла память, чтобы припомнить то, что сегодня утром мы читали в самолёте:
Я двинулся; и вождь мой, в тишине,
Свободными местами шёл под кручей,
Как вдоль бойниц проходят по стене.
Нужно добраться до стены! А потом, прижавшись к скале, всё время продвигаться вправо, пока не дойдём до Зефира, мягкого тёплого ветра, который спасёт нас от урагана и ледяных пуль и который, возможно, откроет нам выход.
С величайшим усилием я схватилась за руку Фарага и сжала её, чтобы он знал, что я поняла, и, сама не знаю как, помогая друг дружке, мы медленно поползли вперёд, словно придавленные башмаком змеи, всё ещё плача и судорожно открывая рты, пытаясь захватить воздух, которым было так трудно дышать. У нас ушло много времени, чтобы добраться до стены, и нам пришлось уклоняться от вырывавшихся из ботросов яростных тифонов и ползти зигзагом в поисках участков относительного затишья, где двигаться было чуть проще. Не раз мне казалось, что у нас ничего не выйдет, что все наши усилия напрасны, но наконец мы привалились к скале, и я поняла, что шанс у нас есть. Теперь меня беспокоил только Глаузер-Рёйст. Если нам удастся встать и, как писал Данте, пристать к скале, как к крепостной стене, возможно, мы сможем его разглядеть по включенному фонарю.
Но подняться с земли было не так-то просто. Как начинающим ходить детям, хватающимся за мебель, чтобы встать на ноги, нам пришлось впиваться пальцами в самые невероятные щёлочки, чтобы из пресмыкающихся стать двуногими, и то с большими проблемами. Однако флорентийский поэт умело оставил нужные подсказки, потому что, как только нам удалось прилепиться к стене, сила ветров перестала вжимать нас в землю, и дышать стало легче. Не то чтобы здесь было затишье, вовсе нет, но ботросы были расположены таким образом, что потоки воздуха друг друга нейтрализовывали, оставляя крохотные уголки, отмеченные кольцами для факелов, где ветра было чуть поменьше.
Но если двигаться и дышать было просто тяжело, открыть глаза было мучением, потому что за считанные секунды они пересыхали и кололи, словно были набиты булавками. И хотя слёзы лились литрами, даже веки отказывались скользить по пересохшей роговице. Но нам нужно было во что бы то ни стало найти Глаузер-Рёйста, так что я набралась храбрости и, не обращая внимания на боль, открыла глаза и не успокоилась до тех пор, пока не увидела его на другом конце пещеры, между Фраскием и Апарктием, где он прижался к стене, словно тень, повернув голову в сторону и закрыв глаза. Звать его было бесполезно, потому что он бы нас не услышал, так что нам оставалось только дойти до него. Так как мы стояли между Эвронотом и Нотом, мы пошли к северу, к Борею, следуя указаниям Данте идти всё время вправо. К сожалению, капитан, который, наверное, забыл подсказки из «Божественной комедии» и вместо того, чтобы идти к Зефиру в том же направлении, что и мы, он приближался к нам, ложась на пол каждый раз перед тем, как пройти перед одним из ветров, чтобы потоком воздуха его не швырнуло прямо на саркофаг.
Я была обессилена. Если бы не рука Фарага, я, наверное, никогда бы оттуда не выбралась; и эта усталость, из-за которой меня тянуло остаться на земле каждый раз после того, как нам приходилось ложиться, чтобы проползти перед ботросом, всё более и более давила на меня с каждым метром, на который мы продвигались.
Наконец мы сошлись с капитаном на уровне Геллеспонтия и вместо приветствия все втроём сжали руки в крепком взволнованном пожатии, более красноречивом, чем любые слова. Проблема возникла, когда Фараг захотел идти дальше в сторону Зефира. Как невероятно это ни звучит, Глаузер-Рёйст наотрез отказался возвращаться назад, упрямо преграждая нам путь своим телом. Я видела, как Фараг придвинулся к уху капитана и изо всех сил что-то ему закричал, но тот всё равно отрицательно качал головой и показывал пальцем в обратном направлении. Фараг снова и снова старался его убедить, но Кремень, как истинный Кремень, всё равно не соглашался и толкал Фарага ко мне, а я была последней, и Апелиот гудел меньше чем в полуметре от моих ног.
Переубедить его не удалось. Как мы ни кричали, ни жестикулировали и ни пытались идти вправо, капитан упрямо противился, в конце концов вынудив нас подчиниться. Мне даже в голову не приходило, какие ужасы могли случиться с нами, если мы не последуем словам Данте, но, начиная обратный путь в сторону Эвронота, я решила не думать об этом. Когда мы с Фарагом переглядывались, на наших лицах было написано отчаяние. Капитан ошибался, но как сделать так, чтобы он сам это понял?
На то, чтобы пройти пять ветров, отделявших нас от Зефира, у нас ушло приблизительно полчаса, и я устала до такой крайности, что уже мечтала о том, чтобы в конце испытания, если, конечно, мы угадали с решением, ставрофилахи усыпили нас сладким сном с помощью того облака беловатого дыма, который они использовали в равеннском лабиринте. Меня бесило, что я так устаю, и я с завистью думала о физической мощи капитана и выносливости Фарага. Когда всё это закончится, мне нужно будет сделать ещё одну вещь: немножко заняться спортом. Нечего было прикрываться особенностями пола и говорить, что женщины слабее мужчин (русская крестьянка никогда не будет слабее китайского канцеляриста); в этой усталости была виновата только я и та сидячая жизнь, которую я вела.
Наконец мы достигли уголка затишья между Липсом и Зефиром. Я с облегчением вздохнула, изобразила на лице улыбку, и, поскольку я шла первой, мне пришлось подойти к логову ветра, который теоретически должен был быть мягким и тёплым, как весенний день. Я очень медленно поднесла к отверстию правую руку, боясь, что она тут же отлетит в сторону, и моё сердце запрыгало от радости, когда я увидела, что, хотя Зефир и был посильнее, чем пишут поэты, его напор был ничем по сравнению с яростью его одиннадцати братьев. Он не обжигал и не холодил, не плевался инеем и градом, и моя протянутая рука плавала в его струях, словно я высунула её из окошка едущей машины. Мы нашли выход!
Зефир затянул меня в середину и спас мне жизнь. Я пролезла в узкий ботрос и, когда смогла спокойно вдохнуть тихий чистый воздух, наполнивший мои лёгкие, как благовония, мешком упала на пол. По правде говоря, я бы тут и осталась, чтобы больше не двигаться, но мне нужно было ползти дальше, чтобы Фараг с капитаном могли пролезть вслед за мной. Я поняла, что они уже здесь, когда услышала сердитые крики Фарага, обращённые к Глаузер-Рёйсту.
— Объясните, какого чёрта вы заставили нас пройти три четверти пещеры! — кипел он от возмущения. — Мы были почти рядом с Зефиром, когда с вами встретились! Вы разве не помните, что Данте писал, что идти надо вправо!
— Замолчите! — командным тоном ответил Глаузер-Рёйст. — Так я и сделал!
— Вы с ума сошли? Что, не видите, что мы шли по часовой стрелке? Не различаете, где право, где лево?
— Да ну же! — воскликнула я, видя, что они совершенно вышли из себя. — Мы выбрались, и всё хорошо! Хватит!
— Слушайте, профессор Босвелл! — загудел Кремень. — Что говорил Данте? Он говорил, что надо держать кнаружи правое плечо.
— Правое, Каспар! Правое, а не левое! Разве не понимаете?
— Правое кнаружи, профессор! Это вы не понимаете!
Я нахмурилась. Правое кнаружи? В таком случае прав Кремень. Данте с Вергилием шли по горному уступу, и их правое плечо было обращено, конечно же, к пропасти, к пустоте. Но мы шли, прижавшись к стене, так что справа от нас был центр пещеры, нашей внешней стороной было внутреннее, а не наружное пространство, как в случае Данте. Так или иначе, до Зефира мы добрались, хоть с другой стороны мы дошли бы быстрее.
— С другой стороны мы вообще бы не дошли, доктор!
— Да что за глупости вы говорите! — возмутилась я.
— Вижу, вы оба забыли о Фраскии и Аргесте, которые были как раз последними двумя ветрами, мимо которых нужно было пройти, чтобы добраться до Зефира по другой стороне!
В сводчатом коридоре воцарилась тишина, потому что ни я, ни Фараг не смогли на это ничего возразить. Капитан спас нас от ужасной участи или в лучшем случае от бессмысленного хождения туда-обратно по изнурительному пути. Мы никогда не смогли бы пробраться мимо Фраския и Аргеста, ветров, несущих тучи града.
— Теперь понимаете или снова вам объяснить?
Он был прав. Он был абсолютно прав, и так я ему и сказала. Фараг не постеснялся попросить у него прощения на всех известных ему языках и тут же начал на коптском и продолжил на греческом, на латыни, на иврите, на арабском, турецком, французском, английском и итальянском. В конце концов мы все рассмеялись, и напряжение спало. Кремень был героем, и так мы ему и сказали.
— Хватит глупостей, полезли дальше по этой дыре.
— Почему мне всегда приходится идти впереди? — снова заворчала я, мне было уже тошно от такой чести.
— Доктор, пожалуйста…
— Оттавия…
И, конечно, возразить на это я ничего не могла.
На коленках, засунув фонарик между пуговиц блузки, я поползла вперёд, опять жалея, что надела сегодня юбку. Мне показалось, что я снова вернулась к тому неприятному эпизоду в туннеле катакомб Святой Лючии, когда, как и сейчас, за мной полз Фараг, и я дала себе слово, что, если мы отсюда выберемся, я без колебаний выброшу все свои юбки.
Честно говоря, ползти мне было сложно, сил не было никаких, и поэтому я бесконечно обрадовалась, почуяв слабый запах смолы.
— Похоже, нам повезло, — сказала я. — В этот раз бить нас не будут.
— О чём ты, Басилея?
— О том, что нас усыпляют. Ты не чувствуешь запах смолы?
— Нет.
— Ну, в общем, не важно. Я с вами прощаюсь. Увидимся, когда проснёмся.
— Басилея…
Мной уже начала овладевать лёгкая полудрема, и я была на седьмом небе.
— Что?
— То, что я сказал тебе на марафоне, — неправда.
— То, что ты сказал на марафоне?
Вот он, белый дым, благословенный белый дым, который, как хорошее снотворное, принесёт мне несколько чудесных часов укрепляющего сна. Я остановилась и улеглась на пол. Пусть ставрофилахи делают с моим телом что хотят, мне абсолютно всё равно; я хочу только спать.
— Да, когда я сказал, что, если ты встанешь и побежишь со мной до Афин, я больше никогда не буду настаивать.
Я улыбнулась. Это самый романтичный в мире мужчина. Мне хотелось повернуться. Но нет, лучше спать. Кроме того, Кремень всё слышал.
— Это неправда? — Теперь улыбнулись и мои глаза, почти слеплённые сном.
— Совершенная неправда. Я хотел предупредить. Ты сердишься?
— Вовсе нет! Даже наоборот. Я с тобой согласна.
— Хорошо, тогда до встречи, — пробормотал он. — Каспар, вы тоже засыпаете?
— Нет, — проворчал он сонным голосом. — Слушаю ваш интересный разговор.
«Боже мой!» — подумала я. И уснула.
Меня разбудили крики играющих детей. Полуденное солнце лило на меня поток света. Я заморгала, кашлянула и со стоном поднялась. Я лежала лицом вниз на ковре сорной травы. Вонь стояла невыносимая — запах годами накапливавшегося мусора, гниющего на восточной жаре. Дети продолжали кричать и говорить что-то по-турецки, но звук становился глуше, словно или я, или они удалялись.
Мне удалось сесть на траве, и я открыла глаза. Я была во дворе, где виднелись остатки византийской кладки вперемешку с кучами мусора, над которыми кружились синие мухи размером со слона. Слева от меня из автомобильной мастерской довольно зловещего вида доносились звуки механической пилы и сварки. Я чувствовала себя грязной. Грязной и босой.
Передо мной, зарывшись лицом в траву, лежали Фараг и капитан. Увидев Фарага, я улыбнулась, и в желудке у меня что-то глупо перевернулось.
— Значит, это неправда? — прошептала я, приблизившись к нему и не сводя с него глаз, не в силах перестать улыбаться. Я отвела у него со лба пряди волос и стала разглядывать мелкие морщинки, отпечатавшиеся на его коже. Это были следы времени, которое он провёл не со мной, этих тридцати с лишком долгих лет, когда, непонятно почему, у него была своя жизнь вдалеке от меня. Он жил, мечтал, работал, дышал, смеялся и даже любил, не подозревая о том, что в конце пути его жду я. Я, конечно, тоже об этом не знала. Но вот мы здесь, и я не перестаю принимать за чудо то, что такой человек, как Фараг Босвелл, обратил внимание на такого человека, как я, у которого даже и близко не было той внешней привлекательности, которой был с лихвой наделён он. Разумеется, физическая красота — это не всё, но, как ни крути, она на многое влияет, и, хотя это никогда меня не беспокоило, в тот момент мне захотелось быть красивой и привлекательной, чтобы, проснувшись, он был просто ослеплён.
Я вздохнула, а потом тихонько засмеялась. О больших чудесах просить уже было излишне. Надо довольствоваться тем, что есть. Я оглянулась вокруг и не увидела ни души. Никто меня не видел, так что я медленно наклонилась, чтобы до того, как он проснётся, легонько поцеловать его в эти линии на лбу.
— Доктор… Вам плохо, доктор Салина? Что с профессором Босвеллом?
Никогда в жизни я так не пугалась. С бешено колотящимся сердцем и горящим лицом я выпрямилась, словно в спине у меня была какая-то пружина.
— Капитан? Как вы себя чувствуете? — спросила я, отстраняясь от продолжавшего спать Фарага.
— Где мы?
— Очень хотелось бы знать.
— Надо разбудить профессора. Он говорит по-турецки.
Он опёрся на руки и начал отжиматься, чтобы поднять тело, но на полпути с гримасой боли остановился.
— Где, чёрт возьми, нас пометили в этот раз?
Скарификация! Я бессознательно отвела руку назад, чуть выше плеч, к шейным позвонкам, и только тогда почувствовала уже знакомую колющую боль.
— Кажется, мы получили первый из трёх крестов на позвоночник.
— Этот болючий!
Как я раньше не заметила? Боль от шрамирования вдруг стала очень резкой.
— Да, очень болючий, — согласилась я. — По-моему, болит больше, чем раньше.
— Пройдёт… Надо будить профессора.
Недолго думая он принялся нещадно его трясти. Фараг застонал.
— Оттавия? — спросил он, не открывая глаз.
— Простите, профессор, — пробурчал Кремень. — Я не доктор Салина. Я капитан Глаузер-Рёйст.
Фараг улыбнулся.
— Да, это не одно и то же. А где Оттавия?
— Я тут, — сказала я, беря его за руку. Он открыл глаза и посмотрел на меня.
— Простите за беспокойство, — грубовато сказал ему капитан, — но нам нужно вернуться в патриархат.
— Вы уже посмотрели в одежде, капитан? — спросила я его, не сводя глаз с Фарага и без конца ему улыбаясь. — Подсказка для испытания в Александрии — это очень важно.
Глаузер-Рёйст быстро вывернул наизнанку все карманы брюк и пиджака.
— Вот! — радостно воскликнул он, вытаскивая уже привычно сложенную бумагу.
— Давайте посмотрим, — предложил Фараг, привстав, но не выпуская моей руки. — Нас пометили на спине? — вдруг удивлённо спросил он.
— На шейных позвонках, — подтвердила я.
— Ой, в этот раз болит!
Капитан, уже просмотревший бумагу, протянул её Фарагу.
— Если вы не отпустите руку доктора, вам будет трудно посмотреть.
Фараг засмеялся и перед тем, как отпустить меня, быстро погладил мне пальцы.
— Надеюсь, вы не возражаете, Каспар.
— Я ни против чего не возражаю, профессор, — очень серьёзно заявил Кремень. — Доктор Салина — взрослый человек и знает, что делает. Полагаю, она как можно скорее уладит свои отношения с церковью.
— Не беспокойтесь, капитан, — вмешалась я. — Я ни на миг не забываю, что я ещё монахиня. Это моё личное дело, но, поскольку я вас знаю, думаю, вам будет спокойнее, если я скажу, что осознаю все проблемы.
В некоторых вопросах бедняга был настолько привержен установленным схемам, что лучше было его успокоить.
Рассматривавший бумагу Фараг от удивления раскрыл рот.
— Я знаю, что это! — волнуясь, воскликнул он.
— Вы должны знать, профессор. Следующее испытание в Александрии.
— Нет, нет! — быстро закачал он головой. — Я никогда в жизни этого не видел! Но, когда мы будем там, я смогу это найти.
— О чём вы? — поинтересовалась я, вырывая бумагу из рук Фарага. На этот раз на её шершавой поверхности был не текст, а довольно грубый рисунок, сделанный углем. На нём можно было легко различить фигуру бородатой змеи, увенчанной коронами фараонов Верхнего и Нижнего Египта, над которыми находился медальон с головой Медузы. Из колец змеи, закрученных морским узлом, поднимался тирс Диониса, греческого бога растительности и вина, и кадуцей Гермеса, посланника богов. — Что это?
— Не знаю, — ответил мне Фараг, — но узнать будет нетрудно. В музее у нас есть компьютерный каталог имеющихся в городе археологических памятников. — Он подвинулся ко мне и, заглядывая мне через плечо, указал пальцем на рисунок. — Я готов поклясться, что узнал бы любую александрийскую древность с закрытыми глазами, но, хоть этот рисунок мне знаком, я не могу припомнить всю фигуру. Видишь, какое смешение стилей? Видишь кадуцей Гермеса и короны фараонов? Бородатый змей — это римский символ. Такое нелепое сочетание как раз характерно для Александрии.
— Профессор, если вас не затруднит, не могли бы вы сходить в мастерскую и спросить, где мы, чёрт возьми, находимся? — снова прервал нас Кремень. — И спросите, есть ли у них телефон. Мой сотовый испортился от воды в цистерне.
Фараг улыбнулся.
— Не беспокойтесь, Каспар. Я обо всём позабочусь.
— Вот номер патриархата, — добавил Глаузер-Рёйст, давая ему раскрытую записную книжку. — Скажите отцу Каллистосу, где мы, и попросите, чтобы за нами заехали.
Мне вовсе не понравилось, что Фараг с такой решимостью направился в этот забитый металлоломом притон и исчез внутри, но он вернулся меньше, чем через пять минут, и на лице его играла широкая улыбка.
— Капитан, я поговорил с патриархатом, — выкрикнул он на ходу. — Они сейчас приедут. Мы находимся на развалинах того, что было Великим дворцом Юстиниана.
— Великий дворец Юстиниана… вот это? — брезгливо сказала я, оглядываясь по сторонам.
— Да, Басилея. Мы находимся в районе Зейрек, в старой части города, и этот двор — всё, что осталось от императорского дворца Юстиниана и Феодоры.
Он подошёл ко мне и взял меня за руку.
— Фараг, я не понимаю, — расстроенно пробормотала я. — Как они позволяют, чтобы до такого доходило?
— Для турок византийское наследие не имеет такого значения, как для нас, Басилея. Они не понимают других религий, кроме своей, со всеми вытекающими из этого культурными и социальными последствиями. Они берегут свои мечети, но к чему сохранять церкви чужой религии? Это бедная страна, которая не может заботиться о прошлом, которое она не знает и которое её не интересует.
— Но это культура, история! — разозлилась я. — Это будущее!
— Здесь люди выживают, как могут, — не согласился он. — Старые церкви превращаются в дома, а старые дворцы — в мастерские, а когда они рассыпаются, люди ищут другие церкви и другие дворцы, в которых можно разместиться, жить и работать. Их менталитет не такой, как у нас. Просто зачем сохранять то, что можно использовать? Мы должны благодарить их за то, что они сохранили хотя бы Святую Софию.
— Как только приедет из патриархата машина, сразу едем в аэропорт, — лаконично предупредил Глаузер-Рёйст.
Я всполошилась.
— Вот так? Отсюда? Не переодевшись и не помывшись?
— Сделаем это в Александрии. Тут только три часа пути, и мы можем привести себя в порядок в «Вествинде». Или хотите, чтобы пришлось всем рассказывать, что мы обнаружили под землёй?
Было ясно, что нет, так что я больше не возражала.
— Надеюсь, моё возвращение в Египет не вызовет особых проблем… — с беспокойством проговорил Фараг.
В последний раз он выехал из своей страны под подозрением в похищении манускрипта из монастыря Святой Екатерины на Синае, и ему пришлось удирать с дипломатическим паспортом Святого Престола через израильскую границу.
— Не волнуйтесь, профессор, — успокоил его Кремень, — кодекс Иясуса уже официально вернули монастырю, откуда мы его на время позаимствовали.
— На время позаимствовали? — презрительно фыркнула я. — Ну и эвфемизм!
— Доктор, называйте это как хотите, но важно то, что кодекс вернулся в библиотеку Святой Екатерины, и католическая и православная церковь принесли настоятелю соответствующие извинения и объяснения. Архиепископ Дамиан снял с вас обвинение, а значит, вы, профессор, можете абсолютно свободно вернуться домой и к своей работе.
Какое-то время на свалке слышалось только жужжание мух и визг механической пилы. Фараг не мог поверить своим ушам. Он медленно, но верно закипал, как разжигаемый и набирающий давление котёл. Капитан сохранял спокойствие, но у меня задрожали коленки, потому что я знала, что, хотя у Фарага приятный характер, такие люди, как он, терпят до какого-то предела, но потом могут прийти в настоящее бешенство. Наконец, как я и опасалась, Босвелл с яростью кинулся к Глаузер-Рёйсту и остановился в нескольких сантиметрах от его лица.
— Как давно находится кодекс в монастыре Святой Екатерины? — процедил он сквозь сжатые зубы.
— С прошлой недели. Нужно было снять с манускрипта копию и вернуть ему первоначальный облик. Не забывайте, в каком виде мы его оставили: без переплёта и с разобранными страницами. Потом при посредничестве Копто-Католического Патриарха вашей церкви и Патриарха Иерусалимского Его Святейшества Мишеля Саббаха начались переговоры с архиепископом Дамианом. Ваш Патриарх, Стефан II Гаттас, также поговорил с директором Греко-Римского музея Александрии, и со вчерашнего дня вы находитесь в особом бессрочном отпуске. Я решил, что вам будет интересно об этом узнать.
Фараг сдулся, как шарик. Он недоверчиво переводил глаза с меня на Глаузер-Рёйста и обратно и не сразу смог что-то произнести.
— Я могу вернуться домой?.. — заикаясь, выговорил он. — Могу вернуться в музей?..
— Нет, в музей пока нет. Но домой вы вернётесь сегодня же вечером. Вы довольны?
Почему он так обрадовался возможности вернуться в Александрию и получить назад свою работу в Греко-Римском музее? Разве он не говорил мне, что быть коптом в Египте значило быть парией? Разве исламские террористы не убили в прошлом году его младшего брата, невестку и пятимесячного племянника на выходе из церкви? Обо всём этом он рассказывал мне, когда мы впервые ужинали вместе.
— О Боже мой! — воскликнул он, вытягиваясь вверх и поднимая к небу руки, как бегуны, успешно достигнувшие цели. — Сегодня вечером я буду дома!
Пока он распространялся о том, как мне понравится Александрия и как будет рад его отец, когда меня увидит и узнает, автомобиль патриархата подъехал со стороны проходящей рядом улицы и наконец забрал нас с другой стороны свалки. На то, чтобы добраться до него, у меня ушла целая вечность, потому что земля была усеяна опасными острыми осколками, которые могли порезать мне ноги, но, когда я уселась в машину со вздохом облегчения, я поняла, что это была прекрасная прогулка по усыпанной розами дороге: рядом со мной на заднем сиденье машины, за рулём которой сидел водитель Патриарха, находилась специалистка по византийской архитектуре Дория Шьярра.
Капитан уселся рядом с водителем, а я нарочно сделала так, чтобы Фарагу пришлось сесть с другой стороны, чтобы он тоже оказался рядом с Дорией, и она была зажата между нами. Я была с ней крайне любезна, словно накануне не произошло ничего важного. Но порадовалась, увидев, как она сморщила нос из-за исходящего от нас запаха. Она сердилась, потому что, пока она отвлекала привратника Фатих Джами, мы исчезли и бросили её одну. Когда она вернулась во двор и нигде не смогла нас отыскать, она пошла назад к машине и ждала нас, пока не стемнело. Только тогда она вернулась в патриархат одна, в сильном волнении. Она хотела, чтобы мы рассказали ей всё, что с нами произошло, но мы уклонялись от её вопросов поверхностными ответами, говоря в общих чертах о том, насколько трудным было это испытание и какие ужасные страдания и мучения мы перенесли, тем самым добившись, что её интерес постепенно угас. Как мы могли рассказать ей, что сделали величайшее в истории открытие?
Фараг вёл себя с ней так же обходительно, как накануне, но на её заигрывания уже не реагировал. Он ни разу не ответил на её глупые уловки и намёки, и я почувствовала себя совершенно уверенной, убедившись, что во мне царит покой: покой по отношению к чувству к Фарагу и покой по отношению к Дории, которая хотела меня ранить, но смогла добиться этого лишь на короткий промежуток времени. Если я не позволю ей добиться своего, её желание останется нелепой попыткой. Так что я улыбалась, болтала и шутила, словно вчера был самый обыкновенный день, и мой мир не рухнул, чтобы снова восстать в последний момент благодаря Фарагу. Теперь значение для меня имел только он, а Дория была никем.
Когда машина патриархата высадила нам перед огромным ангаром, где находился «Вествинд», я распрощалась со старой подругой, расцеловав её в обе щёки, несмотря на то, что она попыталась незаметно уклониться от такого трогательного жеста; мне никогда не узнать, потому ли, что она смутилась и чувствовала свою вину, или потому, что от нас исходил такой запах, но в итоге я против её воли расцеловала её самым милым образом и многократно поблагодарила её «за всё». Фараг с капитаном ограничились пожатием руки, и она бежала на патриаршем автомобиле, чтобы больше никогда не появляться.
— Что тебе вчера сказала Дория, что после обеда ты была сама не своя? — спросил меня Фараг, поднимаясь по лесенке.
— Как-нибудь расскажу, — ответила я. — А почему ты не подошёл ко мне, если видел, как мне было плохо?
— Я не мог, — объяснил он, здороваясь с Паолой и другими членами экипажа. — Я попался в собственную ловушку.
— В какую ловушку? — удивилась я.
Глаузер-Рёйст беседовал с пилотом, а мы усаживались на свои привычные места. Я подумала, что неплохо было бы немного привести себя в порядок перед тем, как плюхаться на эту белую обивку, но мне было ужасно любопытно услышать то, что говорил Фараг, и я не хотела, чтобы Глаузер-Рёйст вернулся до того, как он закончит.
— Ну… С Дорией, понимаешь.
В его глазах светилась насмешливая улыбка, причину которой я не понимала.
— Нет, не понимаю. О какой ловушке с Дорией ты говоришь?
— Ну же, Оттавия, не говори так серьёзно! — пошутил он. — В итоге всё сработало!
— Надеюсь, это не то, что я думаю, Фараг, — очень серьёзно заметила я.
— Боюсь, что да, Басилея. Я должен был что-то сделать, чтобы заставить тебя отреагировать. Ты разве недовольна?
— Довольна! Да как я могу быть довольной? Я из-за тебя столько намучилась!
Фараг рассмеялся, как довольный ребёнок.
— В этом-то и была задумка, Басилея! Господи, я ведь думал в Афинах, что всё потеряно! Ты даже не представляешь, как плохо мне было, когда ты встала с шоссе и сказала: «Побежали?» В ту минуту, глядя на тебя, я понял, что, чтобы убедить такую упрямицу, как ты, мне понадобится атомная бомба. И Дория отлично сработала, разве не так? Хуже всего то, что после этого обстрела ты даже не смотрела на меня, а если и смотрела, то с таким… — Появился Кремень. — Я потом тебе объясню.
— Не нужно, — с величайшим достоинством ответила я, вставая и вытаскивая из сумки косметичку. — Ты жулик.
— Конечно! — весело воскликнул он. — И не только жулик!
Кремень плюхнулся в кресло и фыркнул.
— Пойду приведу себя в порядок, — объявила я, не оборачиваясь.
— Не забудьте, что во время взлёта вам нужно сидеть здесь.
— Не волнуйтесь.
До александрийского аэропорта мы долетели приблизительно за три часа. Во время пути мы обедали, говорили, смеялись, и мы с Фарагом чуть не устроили бунт, когда капитан достал из рюкзака «Божественную комедию» и предложил нам проработать следующий уступ Чистилища. Несмотря на то что, проспав двенадцать часов, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей, мной овладело ментальное истощение. Если бы это было возможно, я попросила бы отпуск и уехала с Фарагом в какой-нибудь уголок, где никто не напоминал бы мне о жизни, которую я оставила позади. Потом, вероятно, уже став другим человеком, я была бы более готовой к окончанию оставшихся испытаний, которые приведут нас к Раю Земному. У меня было странное ощущение, будто я отвязала лодочный трос, но не знаю ещё, к какому причалу плыву. Моим домом в этот момент был этот самолёт; моей семьёй — Фараг и капитан Глаузер-Рёйст; моей работой — охота за этими удивительными похитителями реликвий, которые проходили через века, как через улицы… Воспоминания о Сицилии были для меня болезненными и навевали грусть, и я знала, что никогда не вернусь в квартирку на площади Васкетте. Что я буду делать, когда всё это кончится? Хорошо хоть, что у меня был этот бессовестный жулик, Фараг Босвелл, подумала я, глядя на него. Я была уверена, что он любит меня и что он будет рядом со мной, пока я заново не построю всю свою жизнь. Он был сейчас единственным, кого я любила.
Около пяти вечера капитан корабля объявил по динамикам, что мы собираемся приземлиться в аэропорту «Эль-Нуза». Погода солнечная, температура на взлётной полосе тридцать градусов.
— Мы уже дома! — радостно воскликнул Фараг.
Пока мы садились, его было не удержать в кресле, хоть бедная Паола и тысячу раз просила его об этом. Но он хотел видеть свой город, хотел обогнать самолёт и ни за что на свете не дал бы себе помешать.
Даже в самых странных моих мечтах я никогда не могла вообразить, что Александрия станет для меня особым городом, потому что я влюблюсь в мужчину родом оттуда. Конечно, я читала Лоуренса Даррелла и Константиноса Кавафиса и, как и все, знала некоторые любопытные факты о городе, основанном Александром Великим в 332 году до нашей эры: я слышала о его знаменитой библиотеке, где хранилось более полумиллиона томов, посвящённых всем отраслям знаний, доступных человечеству; и о маяке, бывшим одним из семи чудес света и служившим ориентиром для сотен купеческих судов, заходивших в этот самый большой в классической древности порт; знала, что на протяжении веков этот город был не только столицей Египта и Средиземноморья, но и важнейшим мировым центром литературы и науки, и что его дворцы, особняки и храмы поражали своим изяществом и богатством. Именно в Александрии Эратосфен измерил окружность Земли, Эвклид систематизировал геометрию, а Гален написал свои медицинские труды, и именно в Александрии расцвела любовь Марка Антония и Клеопатры. Сам Фараг Босвелл являл собой яркий пример того, чем до недавнего времени была Александрия: потомок англичан, евреев, коптов и итальянцев, он воплощал смесь культур и черт, которые, по крайней мере в моих глазах, делали его таким замечательным и неповторимым.
— Капитан, нас встречают? — спросила я Кремня, который довольно долго проговорил по телефону из кабины.
— Разумеется, доктор. Нас встретит автомобиль Александрийского православного патриархата и отвезёт в резиденцию, где мы встретимся с Патриархом Петром VII, с Его Святейшеством Стефаном II Гаттасом и с Его Святейшеством Папой Шенужей III, главой Коптской православной церкви. Мне также подтвердили присутствие нашего старого друга архиепископа Дамиана, настоятеля монастыря Святой Екатерины на Синае.
— Как вечеринка какая-то… — проворчала я. — Знаете что, капитан? Я в жизни бы не поверила, что на свете столько Пап, святейшеств и высокопреосвященств. Сейчас у меня в голове куча мала из святых понтификов.
— А скольких вы ещё не встречали, доктор! — иронично ответил он, кладя ногу на ногу. — Православные считают, что все апостолы были равны между собой и имели одинаковую власть над своей паствой.
— Знаю, но мне трудно приравнять их к Папе Римскому, потому что я католичка, и нас всегда учили, что у Петра есть только один законный наследник.
— Я уже давно понял, что всё относительно, — сказал он в редком для него приступе доверительности. — Всё относительно, всё временно и всё меняется. Наверное, поэтому я ищу стабильности.
— Вы? — поразилась я.
— Что с вами, доктор? Вы не можете поверить, что я тоже человек? Я не такой злодей, как рассказал вам ваш брат Пьерантонио.
Я онемела, потому что он поймал меня на горячем.
— Всегда есть какое-то объяснение нашим действиям и нашей сущности, — продолжил он. — А если это не так, посмотрите на себя.
— О моей семье вы тоже знаете? — пробормотала я, опуская голову, и тут же поняла, что не хочу говорить об этом ни с кем и, уж конечно, не с Глаузер-Рёйстом.
— Естественно! — сказал он, издав свой странный смешок. — Знакомясь с вами в кабинете монсеньора Турнье, я уже обо всём знал. А также знал, что вы сестра Пьерантонио Салины, кустода Святой Земли. Это моя работа, не забыли? Я обо всём знаю и за всем слежу. Кому-то нужно делать грязную работу, и она досталась мне. Мне это не нравится, абсолютно не нравится, но я уже привык. Вы не единственный человек, собирающийся в корне изменить свою жизнь. Однажды я тоже уйду и буду спокойно жить в маленьком деревянном домике рядом с Леманским озером и заниматься тем, что мне по-настоящему нравится: ухаживать за землёй, пробовать новые сорта растений и способы их выращивания. Вы знали, что до того, как стать военным и швейцарским гвардейцем, я изучал агрономию в Цюрихском университете? Вот моё настоящее призвание, но у моей семьи были на меня другие планы, и не всегда легко улизнуть от того, что навязывают тебе с детства.
Несколько минут я молчала, глядя в окошко и обдумывая слова капитана.
— Почему мы думаем, что живём свои жизни, — наконец произнесла я, — когда это наши жизни проживают нас?
— Так оно и есть, — ответил он, поправляя грязный край штанины. — Но у нас всегда есть возможность измениться. Вы уже делаете это, и я тоже сделаю, уверяю вас. Это сделать никогда не поздно. Расскажу вам один секрет, доктор, и надеюсь, вы сумеете его сохранить: это будет моим последним заданием на службе у Ватикана.
Я взглянула на него и улыбнулась. Мы только что заключили дружеский пакт.
По улицам Александрии мы проехали в машине Патриарха Петра VII, чёрном лимузине итальянского производства, и Фараг абсолютно молча сидел на переднем сиденье и беспрестанно смотрел по сторонам. Мне было немного грустно, потому что казалось, что пребывание здесь, в Александрии, как-то отдаляет его от меня, так что я начала недолюбливать этот город.
Наш автомобиль проезжал по большим, запруженным машинами, современным проспектам, тянувшимся рядом с бесконечными пляжами с золотистым песком. В сущности, открывавшаяся передо мной Александрия имела мало общего со сложившимся у меня в голове образом. Где же дворцы и храмы? Где Марк Антоний и Клеопатра? Где старенький поэт Кавафис, проходящий по Александрии на закате, опираясь на палку? Если бы не арабские одеяния людей на тротуарах, я могла бы находиться в Нью-Йорке.
Когда мы отъехали от пляжа и углубились в сердце города, хаос автомобильной массы стал просто невероятным. На узкой улочке с односторонним движением наша машина застряла между следовавшими за нами автомобилями и непонятным рядом, двигавшимся нам навстречу. Фараг обменялся с водителем несколькими фразами на арабском, и тот открыл дверцу, вышел из машины и принялся кричать. Я думаю, идея заключалась в том, чтобы ехавшие нам навстречу дали задний ход, чтобы освободить дорогу, но вместо этого началась яростная перебранка между водителями. Естественно, в радиусе нескольких километров не было ни одного регулировщика или полицейского.
Спустя какое-то время Фараг тоже вышел из машины, поговорил с нашим водителем и вернулся. Но вместо того, чтобы сесть на место, он пошёл к багажнику, открыл его и вытащил свой и мой чемодан.
— Пошли, Оттавия, — сказал он, заглядывая в окошко. — Мой отец живёт в двух улицах отсюда.
— Погодите! — Лицо капитана насупилось. — Профессор, сядьте в машину! Нас ждут!
— Это вас ждут, Каспар, — сказал Фараг, открывая мою дверцу. — Все эти встречи с патриархами — глупости! Когда закончите, позвоните мне на сотовый. Здесь, в Египте, он снова работает, и у викария Его Святейшества Стефана монсеньора Кольты есть мой номер и номер телефона моего отца. Идём, Басилея!
— Профессор Босвелл! — рассерженно закричал Кремень. — Вы не можете увести с собой доктора Салину!
— Не могу? Ладно, напомните мне об этом сегодня вечером. Мы ждём вас к ужину ровно в девять. Не опаздывайте.
И после этих слов мы вдвоём бросились вперёд, словно беглецы, удаляясь от машины и от капитана Глаузер-Рёйста, которому, похоже, пришлось многословно извиняться за наше отсутствие перед столь важными церковными властями. Больше всех о Фараге расспрашивал восьмидесятилетний Патриарх Стефан II Гаттас, который с детства знал его и, конечно, совершенно не поверил натянутым извинениям капитана.
Покинув машину, мы побежали с чемоданами по улочке, выведшей нас на проспект Тарика Эль-Гвейша. Фараг тащил оба чемодана, а я — обе наши сумки. Убегая со всех ног, я не могла удержаться от смеха. Я чувствовала себя счастливой, свободной, как пятнадцатилетняя девчонка, которая начинает нарушать все правила. Как бы там ни было и поскольку мне было уже не пятнадцать, я очень порадовалась тому, что надела удобные туфли, потому что иначе легко грохнулась бы на землю. Завернув за первый угол, мы снизили скорость и спокойно зашагали, восстанавливая дыхание. По словам Фарага, мы находились в районе Саба Факна, на одной из улиц которого стоял трёхэтажный дом его отца.
— Он живёт на нижнем этаже, а я на верхнем.
— Значит, мы идём к тебе домой? — всполошилась я.
— Конечно, Басилея! Я сказал про отца, чтобы не шокировать Глаузер-Рёйста.
— Но я тоже шокирована! — Я задыхалась, потому что мне всё ещё не хватало воздуха.
— Не бойся, Басилея. Мы сначала пойдём к моему отцу, а потом поднимемся ко мне, примем душ, замажем шрамы, переоденемся в чистую одежду и приготовим ужин.
— Ты специально это делаешь, правда, Фараг? — остановившись посреди улицы, упрекнула его я. — Хочешь меня напугать?
— Напугать?.. — удивился он. — Чего ты боишься? — Он склонился к моему лицу, и я испугалась, что он поцелует меня прямо здесь, но, к счастью, мы были в арабской стране. — Не волнуйся, Басилея. — Услышав его, я улыбнулась; он заикался. — Я всё понимаю. Уверяю тебя, сколько бы мне это ни стоило, тебе не нужно бояться, что что-то… произойдёт. Стопроцентной гарантии я, конечно, дать не могу, но приложу все усилия. Хорошо?
Он был такой красивый сейчас, когда стоял посреди улицы и в упор смотрел на меня своими синими глазами, что я побоялась, что противлюсь моим настоящим желаниям. Но… каким желаниям? О Господи, всё это для меня так ново! Я должна была пережить всё это двадцать лет назад! Я так безнадёжно отстала, что побоялась, что выгляжу преглупо или буду так выглядеть потом, когда… Боже мой!
— Сейчас же идём к твоему отцу! — в смятении воскликнула я.
— Надеюсь, ты скоро уладишь свои дела с церковью, как выразился Глаузер-Рёйст. Мне будет очень трудно быть рядом с тобой, зная, что ты неприкосновенна.
Я чуть не сказала ему, что я настолько неприкосновенна, насколько мне это диктует моя совесть, но смолчала. Даже если бы по мановению волшебной палочки я в этот же миг освободилась от своего монашеского сана, это не значило, что я готова нарушить второй из своих обетов, не доведя до конца сначала все свои обязательства перед Богом и перед моим орденом.
— Идём, Фараг, — с улыбкой сказала я и подумала, что всё на свете отдала бы за то, чтобы его поцеловать.
— И с чего мне взбрело в голову влюбиться в монашку? — во весь голос сказал он прямо на улице, но, слава Богу, на классическом греческом языке. — В Александрии столько красивых женщин!
Возвращение домой преобразило его. Это был не тот человек, которого я знала.
— Идём же, Фараг, — терпеливо повторила я, всё ещё улыбаясь. Я знала, что мне предстоят жуткие недели.
Улица, где находился дом семьи Босвелл, была застроена старыми зданиями с элегантными фасадами в английском стиле. Здесь царили полумрак и прохлада и было запрещено проезжать машинам, однако это не мешало свободному движению телег и велосипедов, объезжавших спокойных прохожих. Несмотря на этот европейский вид, на дверях и окнах домов были красивые орнаменты из цветов и листьев. Улица была симпатичной, а люди казались приятными.
Явно волнуясь, Фараг достал из кармана ключик и открыл калитку. Из неё потянуло слабым запахом мяты. Подъезд был широким и тёмным, как раз в пору для такой жаркой страны, как Египет, и лифта нигде не было видно.
— Не шуми, Басилея, — шёпотом сказал мне Фараг. — Я хочу сделать отцу сюрприз.
Мы тихонько поднялись по короткой лестнице и остановились перед большой деревянной дверью со шлифованными стёклами в филенчатых створках. Звонок был на раме, на высоте наших голов.
— У меня есть ключ, — сказал Фараг, нажимая кнопку звонка, — но я хочу посмотреть на его лицо.
Звонок разнёсся на несколько километров вокруг, и пока его отзвук затихал у меня в ушах, изнутри квартиры к двери приблизился яростный лай.
— Это Тара, — широко улыбаясь, прошептал Фараг. — Собака моей матери… Ей очень нравились «Унесённые ветром», — словно извиняясь, сказал он, читая мои мысли. А я подумала, что имя у собаки было безнадёжно пошлым. Естественно, я ничего не сказала; в конце концов, в жизни я слыхала клички и похлеще. В таких вещах люди всегда повторяются.
Когда деревянная створка медленно открылась, я увидела высокого худого мужчину лет семидесяти с белыми волосами и глазами ярко-синего цвета, просеянного сквозь бифокальные стёкла элегантных очков. Он был так же красив, как сын, и даже казался фотографией Фарага в будущем: те же еврейские черты лица, та же смуглая кожа, то же выражение лица… Я поняла, почему мать Фарага всё бросила ради такого мужчины, и почувствовала своё далёкое сродство с нею оттого, что переживала нечто очень похожее.
Фараг приветствовал отца долгим трогательным объятием. Собака, неудачная помесь йоркшира и шотландского терьера, отчаянно лаяла, семеня вокруг них и подпрыгивая в воздух, точно заяц. Бутрос Босвелл снова и снова целовал сына в светлые волосы, словно каждый божий день, проведённый Фарагом вдалеке от дома, был для него настоящей пыткой. Он бормотал радостные восклицания на арабском языке, и мне даже показалось, что его глаза наполнились слезами. Когда они наконец разошлись, оба повернулись ко мне:
— Папа, познакомься: это доктор Оттавия Салина.
— Доктор, Фараг много рассказывал мне о вас за последние месяцы, — произнёс он на чистом итальянском, пожимая мне руку. — Пожалуйста, проходите.
Преследуемые по пятам Тарой, которая лихорадочно виляла хвостом, вне себя от счастья от ласк Фарага, мы вошли в прихожую просторной квартиры. Повсюду были книги, они громоздились даже на столике у входа, а стены в коридоре и в комнатах были увешаны старыми семейными фотографиями. Обстановка была составлена из разношёрстной смеси вещей и мебели английского, венского, итальянского, арабского и французского происхождения: ваза Лалика с одной стороны, чеканный серебряный чайник — с другой, английское трюмо начала века, деревянная коробочка с инкрустацией жемчугом, набор арабских стаканов, выгнутые волютами деревянные стулья вокруг старинного круглого столика, на котором стояла шахматная доска с фигурками слоновой кости… Но больше всего моё внимание привлекли развешанные по стенам гостиной картины. Заметив мой интерес, Бутрос Босвелл подошёл ко мне и не без примеси гордости рассказал обо всех этих людях:
— Это мой дед, Кеннет Босвелл, открыватель Оксиринха. Вот снова он на этой чёрно-белой фотографии, вместе со своими коллегами: Бернардом Гренфеллом и Артуром Хантом в 1895 году, во время первых раскопок. А вот здесь… — добавил он, показывая на следующую картину, с которой на нас смотрела прекрасная женщина, одетая в элегантное платье для коктейлей и в длиннющие чёрные перчатки, доходившие ей чуть ли не до плеч. — Это его жена Эстер Хопаша, моя бабушка, одна из самых красивых евреек Александрии.
Ариэль Босвелл, их сын, и его жена Мириам, египтянка коптского происхождения, со смуглой кожей и крашенными хной волосами, тоже были на стене гостиной, но главное место было отведено портрету не блиставшей особой красотой девушки с искристыми привлекательными глазами, в которых светилась бесконечная жажда жизни.
— Это моя жена, доктор Салина, мать Фарага, Рита Лукезе. — Его лицо помрачнело. — Она умерла пять лет назад.
— Папа, — отдуваясь, сказал Фараг, державший на руках Тару. — Мы поднимемся ко мне, чтобы оставить вещи.
— Вы будете ужинать здесь? — поинтересовался Бутрос.
— Да, наверху, с капитаном Глаузер-Рёйстом. Я собирался что-нибудь купить в «Меркурии».
— Чудесно, — ответил Бутрос. — Значит, ещё увидимся, сынок. Не уезжай из Александрии, не попрощавшись.
— Ты тоже приглашён, — воскликнул Фараг, подбрасывая Тару в воздух. Несмотря на свой немалый вес, собака безукоризненно приземлилась и, ни секунды не раздумывая, направилась прямо ко мне. У неё были большие глаза и умный взгляд, а вся шерсть, кроме шеи и груди, где находилось белое пятно, была тёплого коричного цвета. Я с некоторой опаской погладила её по голове, и она, подпрыгнув, встала на задние лапы, а передними упёрлась мне в живот.
— Надеюсь, доктор, вы не возражаете, — улыбаясь, заметил Бутрос. — Это она показывает, что вы ей понравились.
— У тебя замечательный отец, — сказала я Фарагу, когда мы уже подходили к лестничной площадке перед его квартирой на третьем этаже. Мы распрощались с ним до ужина.
— Я знаю, — ответил он, открывая дверь и толкая створку вперёд.
— Кто живёт на среднем этаже?
— Сейчас никто, — ответил Фараг, углубляясь в тёмный коридор и опуская чемоданы на пол. — Раньше там жил мой брат Юханна с женой Зоэ и сыном.
— Я всё никак не могу поверить в то, что ты рассказал. То, что с ними случилось, просто ужасно.
— Лучше об этом не вспоминать, — сказал он, забирая у меня из рук сумки и закрывая за мной дверь. — Нас ждут другие дела.
Да уж, дела. Это правда. Но среди них не было ни включения света, ни открывания жалюзи, ни осмотра дома. Никогда бы не подумала, что для меня будет так сложно, так невыразимо сложно хранить мой второй обет. Я знала, что существует грань, но я… я даже не представляла, как легко через неё переступить. Однако я не сделала этого. Но не сделала потому, что в последний момент, жестоко борясь с моими собственными инстинктами и чувствами, я вспомнила, что должна выполнить своё обещание. Это была глупость, безумие, самая большая в мире нелепица, я это знала. Но по какой-то причине я должна была быть верна своему слову, данному Богу, моему ордену и церкви. Оторваться от губ Фарага, от тела Фарага, от нежной страсти Фарага было ужасно. Я словно разломилась на тысячи кусочков.
— Ты обещал… Ты обещал мне помочь, — сказала я, отталкивая его руками.
— Не могу, Оттавия.
— Фараг, пожалуйста, — взмолилась я. — Помоги мне! Я так тебя люблю!
Он помедлил, на несколько секунд застыв, точно статуя. Потом нагнулся ко мне и поцеловал.
— Я люблю тебя, Басилея, — сказал он, отстраняясь от меня. — Я подожду.
— Обещаю, что сегодня же вечером позвоню в Рим, — сказала я, проводя рукой по его бородатой щеке. — Я поговорю с сестрой Саролли, заместительницей настоятельницы моего ордена, и объясню ей всю ситуацию.
— Пожалуйста, сделай это, — прошептал он, снова целуя меня. — Пожалуйста.
— Обещаю, — повторила я. — Сегодня вечером.
Пока я приняла душ, сменила повязку на шраме на шейных позвонках (на этот раз там был пнистый крест) и переоделась в чистую одежду, Фараг, послушный моим приказаниям, открыл окна и двери, вытер с мебели пыль и приготовил дом к приёму гостей. Потом мы поменялись местами, и, уже заказав по телефону ужин в ресторане находившейся неподалёку гостиницы «Меркурий», Фараг ушёл в ванную, разумеется, не преминув пригласить меня с собой, и оставил меня в этом незнакомом месте, чтобы я смогла вдоволь удовлетворить своё любопытство. Я лицемерно спросила его, есть ли тут какое-то место, куда мне лучше не заглядывать.
— Чувствуй себя как дома, Басилея. Смотри что хочешь, — сказал он перед тем, как исчезнуть.
Так я и сделала. Если он думал, что у меня нет способностей к шпионажу, он глубоко ошибался, потому что за те полчаса, пока он был в душе, я перевернула весь дом. В квартире Фарага с гладкими белыми стенами и выложенным светлой плиткой полом, кроме гостиной, было только две комнаты, но, как во всех старых домах, огромных размеров. Одна из них, очень строгая, с большой кроватью посередине, была его спальней; в другой, на противоположном конце квартиры, стояли две кровати поменьше, и казалось, служит она только для того, чтобы складывать там книги: дюжины книг, сотни книг и журналов по истории, археологии и палеографии. Гостиная с большим диваном и несколькими креслами с обивкой кремового цвета по размеру была такой же, как вся остальная квартира целиком, включая кухню и кабинет, так что в одном из её концов был поставлен большой обеденный стол тёмного дерева. Вся остальная мебель была из того же материала того же оттенка: кровати, шкафы, книжные полки, столы, комоды, витрины… Ему, похоже, очень нравились диванные подушки, потому что они были повсюду и всех оттенков цветовой гаммы от медного до белого. И ещё фотографии, их было так же много, как и в нижней квартире: Фараг с отцом, с матерью, с братом, с невесткой, с племянником, снова с отцом, и начали сначала. Я нашла несколько снимков, на которых он был маленьким и был с одноклассниками, на других он был с университетскими однокурсниками, на третьих — с двумя друзьями, которые повторялись на нескольких фотографиях. Но на снимках из его поездок по разным странам однозначно прослеживались постоянно меняющиеся, но неизменно очень симпатичные девушки. То есть на фотографиях, снятых в Риме, к примеру, был запечатлен довольно молодой Фараг с носатой светловолосой девушкой; на парижских снимках он был со смуглянкой с приятной улыбкой; на лондонских — с восточного типа женщиной с короткой стрижкой; на амстердамских — с пышногрудой моделью с идеальными зубами; на… В общем, к чему продолжать? В итоге я поняла, что влюбилась в Казанову или, что ещё хуже, в первосортного бесстыдника, с виду и не скажешь.
В отчаянии я рухнула на диван и вцепилась в одну из подушек, уставившись в закатное небо за окнами. Я серьёзно задумалась, звонить ли сестре Саролли. Ещё не поздно было пойти на попятную и сбежать в общину в Конноте. В этот момент заиграла мелодия на сотовом Фарага, лежавшем на одном из низких книжных шкафов в коридоре рядом с дверью в ванную.
— Оттавия! — крикнул Казанова. — Возьми трубку! Это, наверное, капитан!
Я не ответила. Просто нажала на зелёную кнопку телефона и поздоровалась с Кремнем, который казался недовольным.
— Капитан, вы уже закончили со встречей? Как всё прошло?
— Как обычно.
— Тогда выбирайтесь оттуда и приезжайте сюда. Ужин почти готов. — Очень надеюсь, что ресторан поторопится.
— Доктор, где вы сегодня будете ночевать? — выпалил он.
— Ну… — замялась я. — Я об этом не думала. А где будете ночевать вы?
— У профессора есть комнаты для троих?
— Да. У него две спальни и три кровати.
— Здесь в патриархате тоже есть место. Они спрашивают, что мы собираемся делать.
— Для подготовки к испытанию нам нужны компьютеры или что-нибудь ещё?
— А что, у профессора нет? — сильно удивился Глаузер-Рёйст, неправильно истолковав мой вопрос.
— Есть, в кабинете есть компьютер, только не знаю, подключён ли он к интернету.
— Подключён! — крикнул Казанова, который, оказывается, внимательно следил за нашим разговором. — У меня есть выход в интернет и доступ к базе данных музея!
— Говорит, что подключён, капитан, — повторила я.
— Тогда решайте вы, доктор. — И мне показалось, что в голосе его прозвучали нотки недоверия. Наверное, он чувствовал себя неуверенно.
— Приезжайте сюда, капитан. Здесь нам будет удобнее. Фараг, какой у тебя адрес? — спросила я через дверь своего некоронованного принца.
— Мохаррем-бей, дом 33, последний этаж!
— Вы слышали, капитан?
— Да. Через полчаса я буду у вас, — сказал он и, не попрощавшись, повесил трубку.
На наше счастье, служба доставки ресторана «Меркурий» прибыла раньше, чем Кремень, так что мы быстро накрыли на стол, чтобы капитан продолжал думать, что ужин приготовили мы.
— Может быть, позвонишь сестре Саролли до приезда Каспара? — спросил Фараг, пока мы носили стаканы и рюмки из кухни в гостиную. Я не придумала, что на это ответить, так что просто промолчала. Но он не унимался: — Оттавия, ты что, не будешь звонить сестре Саролли?
— Ну, не знаю, Фараг! Я не уверена! — не сдержалась я.
— Да что ты говоришь? — удивился он. — Я что-то пропустил?
Если я объясню ему причину, он наверняка будет надо мной смеяться. Всё-таки было глупо испытывать эту нелепую ревность, но я даже не была уверена, ревность ли это. Скорее это было оскорбительным с точки зрения сравнения: в то время, как у меня в прошлом никого не было и я была словно новенькая квартира, у него была разнообразная коллекция бывших возлюбленных, и сравнить его можно было с гостиничным номером. Как бы я ни обдумывала это положение и как бы ни подводила итоги, я оказывалась в проигрыше.
Похоже, он что-то заметил в моём лице, потому что, оставив на столе то, что он нёс, он подошёл ко мне и обнял меня за плечи.
— Что случилось, Басилея? У нас уже начинаются тайны?
— Об этом-то и речь! — загорелась я, обвиняющим жестом указывая на фотографии из его путешествий. — Ты был женат? Потому что если это так… — Угроза повисла в воздухе.
— Я никогда не был женат, — пробормотал он. — К чему всё это?
Я всё так же обвиняюще указывала на фотографии, но, к моему отчаянию и недоумению, он ничего не понимал.
— Господи, Фараг! Разве ты не понимаешь? В твоей жизни было слишком много женщин!
— Ах, это! — вздохнул он. — Я не знал, что ты об этом! — И тут он отреагировал: — Но послушай, Оттавия! Ты же не могла серьёзно ожидать, что я прожил девственником до тридцати девяти лет. — Он был так любезен, что набавил себе год, чтобы сравняться со мной.
— А почему бы нет? Я же так сделала!
Если я ожидала оправданий или хотела, чтобы он парировал мои слова доводом, что я монахиня, я осталась ни с чем, потому что он просто бросился на диван во весь свой рост, хохоча как сумасшедший. Когда я увидела, что приступ смеха не проходит и что его перекошенное от хохота лицо заливается слезами, я подхватила свою израненную гордость и пошла с ней в комнату за своими вещами. Но я не дошла, потому что профессор Босвелл большими прыжками догнал меня в коридоре и прижал меня к стене.
— Басилея, не дури, — сказал он сквозь икоту, всё ещё пытаясь сдержать смех. — Я скажу тебе это один только раз и надеюсь, всё станет ясно: звони в Италию, прощайся с сестрой Саролли и с Блаженной Девой Марией и выброси из головы всех женщин, которые могли быть в моей жизни. Ни к одной из них я не испытывал то, что испытываю к тебе. В первый раз я уверен в том, что чувствую, и я чувствую, что люблю тебя так, как никогда никого не любил. — Он медленно наклонился и поцеловал меня. — Пока ты поговоришь с Саролли, я сниму все эти фотографии и спрячу их подальше, договорились?
— Договорились.
— Тогда ладно, — кивнул он, касаясь своим носом моего. — Даю тебе пять секунд. Бери этот проклятый телефон, в конце-то концов!
— Ты уже говоришь, как Глаузер-Рёйст.
— Кажется, я начинаю его понимать.
Я дошла до комнаты, провожаемая вопросительным взглядом Фарага. Мне было удобнее сделать звонок оттуда, спокойно, в одиночестве, чем чувствовать, что он стоит за мной, как тень, и вслушивается в мои слова. Когда раздался сигнал соединения с центральным офисом моего ордена в Риме, послышался и звонок в дверь. Пришёл капитан, а чуть позже поднялся и Бутрос.
Разговор с сестрой Джулией Саролли оказался непростым. Она использовала тот же презрительный тон, которым сообщила мне о моём изгнании в Ирландию, подальше от моей общины и моей семьи. Сколько я ни настаивала, мне не удавалось добиться от неё, чтобы она сказала, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы покинуть орден. Она упрямо снова и снова повторяла мне, что юридическая сторона этого вопроса не важна, что важен только духовный аспект, тот дар, в качестве которого я принесла свою жизнь.
— Этот дар, сестра Салина, — говорила мне она, — есть дар любви, любви, которая старается преодолеть собственные эгоистичные порывы, открываясь другим. В этом цель жизни общины, и идеал, к которому стремятся все сестры, это слова святого Павла: я свободен делать то или это, но свободен и не делать то, что хочу я, но делать то, что ожидают от меня другие. Понимаете, сестра?
— Понимаю, сестра Саролли, но я всё обдумала и уверена, что, продолжив религиозную жизнь, не смогла бы дальше быть счастлива.
— Но эта жизнь заключается в следовании за Христом! — Джулия Саролли не могла понять, как я могу добровольно отказаться от такой высокой цели, и говорила так, будто любую другую цель даже не стоит принимать во внимание. — Вы были призваны Богом, как вы можете не прислушаться к гласу нашего Господа?
— Дело не в этом, сестра. Я знаю, что вам это трудно понять, но не всегда всё так просто.
— Неужели вы влюбились в мужчину? — спросила она исполненным трагизма голосом после секундной паузы.
— Боюсь, что да.
Молчание затянулось ещё на несколько секунд.
— Вы принесли обеты, — с укором подчеркнула она.
— Я не нарушила их, сестра. Поэтому я хочу, чтобы вы объяснили мне, что именно мне нужно сделать, чтобы вернуться к мирской жизни.
Но и на этот раз не вышло. Саролли не понимала или не хотела понять, что, когда некоторые вещи подходят к концу, нельзя повернуть назад. Так что она и дальше пыталась убедить меня в том, что я должна ещё немного подумать перед тем, как принимать такое серьёзное решение. Я знала, что этот разговор будет долгим, но не знала, что настолько.
— Вы должны верить, что Бог всё ещё взывает к вам, — повторяла она.
— Послушайте, сестра, — сказала я с раздражением. — Бог наверняка взывает ко мне, но я взываю к вам из Египта, а вы мне не отвечаете, так что мы с ним в одинаковом положении. Пожалуйста, скажите мне наконец, что я должна сделать, чтобы выйти из ордена!
Заместительница настоятельницы онемела, но скорее всего поняла, что, раз уж сделать ничего нельзя, пора от меня отделаться.
— В следующем декабре, когда вы будете беседовать со старейшиной вашей общины о ежегодном продлении обетов, скажите ей, что не хотите возобновлять их в четвёртое воскресенье Пасхи на следующий год, и всё.
— Что вы говорите? — испугалась я. — Ждать до следующего ежегодного продления? Сестра Саролли, об этом выходе я уже знала. Я спрашиваю, что мне сделать, чтобы выйти из ордена сейчас.
В телефонной трубке послышался вздох. Издалека до меня донёсся приглушённый звук сирены «скорой помощи», которая, наверное, проезжала под окнами кабинета сестры Саролли там, в Риме.
— Вам нужно разрешение от епископа, — проворчала она. — Не забывайте, что ещё и месяца не прошло с тех пор, как вы возобновили свой обет.
В конце туннеля зажёгся огонёк.
— Нет, сестра Саролли, я не возобновила обет.
— Как это? — возмутилась она.
— Четвёртое воскресенье Пасхи было 14 мая, и в этот день мне пришлось уехать на Сицилию на похороны моих отца и брата, которые погибли… в автокатастрофе.
— И на следующее воскресенье вы их тоже не возобновили? Вы не подписали бумаги?
— Мне не позволило сделать это задание Ватикана, которое я выполняю. Я возобновила обеты в душе.
Я услышала, как она задвигала ящиками и зашуршала бумагами. Потом она закрыла трубку рукой и сказала что-то кому-то в кабинете. Я начинала волноваться из-за того, как дорого обойдётся Фарагу этот длинный международный звонок. В конце концов, похоже, убедившись в правоте моих слов, она сдалась и выдала мне новость:
— По закону, сестра, вам ничего не нужно делать. Другой вопрос — ваше покаяние перед Богом. Это личное дело, и вы сами должны будете его принести. В любом случае будет правильнее, если вы пошлёте письмо с сообщением о вашем решении настоятельнице и старейшине вашей общины сестре Маргерите. Эти письма приложат к вашему делу, и с этого же момента мы будем считать ваше пребывание в нашем ордене завершённым.
— И всё? Я не связана? Так просто? — Я не могла поверить своим ушам.
— Вы будете свободны, как только мы получим ваши письма. Если вам больше ничего не нужно, сестра… — На последнем слове она заколебалась.
— А моя зарплата? Я начну получать её в полном объёме прямо от Ватикана?
— Об этом не беспокойтесь. Мы всё уладим, как только получим ваши письма. Как бы то ни было, не забывайте, что ваш контракт с Ватиканом основан на вашем статусе монахини. Боюсь, вам придётся решать этот вопрос с префектом тайного архива преподобным отцом Гульельмо Рамондино. И думаю, весьма вероятно, что вам придётся искать другую работу.
— Я так и думала. Спасибо вам за всё, сестра Саролли. Я как можно скорее вышлю письма.
Я повесила трубку, и у меня закружилась голова. Передо мной разверзлась пропасть, и противоположная сторона была слишком далеко, чтобы до неё допрыгнуть. Однако отступать назад было нельзя, и, конечно, я этого не хотела. Я вздохнула и обвела взглядом комнату Фарага. Когда мать узнает, у неё будет не сердечный приступ, нет, у неё будет по крайней мере два или три приступа сразу, а реакцию моих братьев я не могу и вообразить. Пожалуй, Пьерантонио — единственный, кто способен меня понять. Я хотела только быть с Фарагом до конца моих дней, но практичный дух семейства Салина заставлял меня взвесить все возможности: несмотря ни на что, возвращение в Палермо было реальным вариантом. Там у меня всегда будет дом, где можно жить. Ещё мне нужно будет найти работу, хотя это меня не беспокоило, потому что с моим опытом работы, моими премиями и публикациями это будет не очень трудно. И от этой работы, естественно, будет зависеть, где я буду жить. Я снова вздохнула. Страху не было места в этой игре, он был запрещён. Так или иначе, я не пропаду и найду способ перебраться через эту пропасть.
Дверь комнаты медленно приоткрылась, и в просвете появилась борода Фарага.
— Ну как? — спросил он. — На втором аппарате было слышно, что ты повесила трубку.
— Ты не поверишь, — ответила я, подняв брови. — Я свободна.
Фараг раскрыл рот от удивления и забыл его закрыть, застыв в этом положении, как соляной столп. Я встала и подошла к нему.
— Идём ужинать. Потом я тебе всё подробно расскажу.
— Но, но… ты уже не монахиня? — пробормотал он.
— Юридически — нет, — объяснила я, подталкивая его к коридору. — Морально — да. По крайней мере до того, как не пошлю письменный отказ от сана. Но, пожалуйста, давай ужинать, а то всё остынет, и мне неудобно перед капитаном и твоим отцом.
— Она уже не монахиня! — крикнул он, когда мы вошли в гостиную. Бутрос, опустив голову, улыбнулся, выражая так глубокую радость, наверняка тесно связанную с радостью своего сына, а Кремень, прищурив глаза, долго не отводил от меня взгляда.
Ужин прошёл в очень приятной атмосфере. Моя новая жизнь просто не могла начаться лучше, и я, вне всякого сомнения, поняла, почему ставрофилахи избрали Александрию для искупления греха чревоугодия. Сложно найти более аппетитные и лучше приправленные блюда, чем типично александрийские кушанья. Перед тем, как взяться за баба ганнуг, пюре из баклажанов с тхиной[57] и лимонным соком и за хумус с тхиной, пюре из турецкого гороха с такой же приправой, мы опробовали разные салаты, один другого вкуснее и интереснее, в сопровождении большого количества сыра и фуль (огромной фасоли коричневого цвета). Как рассказал нам Бутрос, александрийцы являются прямыми наследниками римской и византийской кухни, но, кроме того, они сумели привнести в неё лучшее из арабских кулинарных традиций. Здесь не было ни одного кушанья без специй, и блюда всегда обильно приправлялись оливковым маслом, мёдом, лавровым листом, йогуртом, чесноком, тимьяном, чёрным перцем, кунжутом и корицей.
Мне посчастливилось убедиться в этом самой. Всё, что мы съели в тот вечер, начиная с хлеба, вкусных аиш (лепёшек, приготовленных из разных видов муки, которые подавались вместе с пюре), до гамбари, вкуснейших огромных креветок с чесночным соусом, от которых у меня осталось неудовлетворённое желание облизать пальцы, всё было просто объедением. Даже Глаузер-Рёйст, казалось, был более чем доволен заданным Фарагом ужином и ни на минутку не поверил в то, что мы сами приготовили эти кулинарные шедевры. Бутрос рассказал нам, что, по его мнению, вкуснее всего мясные блюда, хотя на столе были только изысканные хамам — фаршированные зелёной пшеницей и зажаренные на медленном огне голуби. Однако он сказал, что сами египтяне, да и иностранцы, больше всего ценят блюда из баранины, хотя всегда свежая и обильно приправленная рыба от них тоже не отстаёт.
Глаузер-Рёйст выпил пару средних бутылок пива египетской марки «Стелла», а отец Фарага осилил на одну больше.
— Вы знали, что пиво изобрели в Древнем Египте? — спросил он. — Нет ничего лучше стаканчика пива перед сном. Помогает заснуть и расслабиться.
Несмотря на это, мы с Фарагом пили только минеральную воду и холодный каркаде, напиток ярко-красного цвета с кисловатым вкусом, приготовляемый из цветов гибискуса, который египтяне целыми днями пьют наряду с крепким чёрным чаем с листьями мяты.
Но хуже всего нам пришлось во время десерта. Я говорю «хуже всего», потому что остановиться нельзя было никакими силами. Верные византийским традициям александрийцы, так же, как и греки, были большими любителями сладкого, и Фараг, александриец до мозга костей, заказал столько пирожных, слоек и сладостей, что ими скорее можно было накормить голодную армию, чем уже изрядно наевшихся четырех человек. Тут были ом-али[58], кунафа[59], пахлава[60] и ашура[61], типичные сладости, которые мусульмане едят в основном в десятый день месяца Мохаррам, а Фараг с отцом жадно поглощали при первом удобном случае. Мы с Глаузер-Рёйстом незаметно обменялись удивлёнными взглядами при виде неслыханных способностей семьи Босвелл к бессчётному, беспорядочному и безмерному поглощению сладостей.
— Похоже, диабет тебя не волнует, Фараг, — пошутила я.
— Ни диабет, ни избыток веса, ни повышенное давление, — с трудом проговорил он, заглатывая большущий кусок кунафы. — Как мне не хватало вкусной еды!
— Александрия обладает ужасной славой… — замогильным голосом завёл Кремень, и отец Фарага, слушая его, застыл с раскрытыми глазами и непроглоченным куском, — и известна тем, что в извращении предаётся греху чревоугодия.
— Как вы сказали, капитан Глаузер-Рёйст? — недоверчиво произнёс он, проглотив свою пахлаву и запив её глотком пива.
— Не бойся, папа, — усмехнулся Фараг. — Каспар не сошёл с ума. Это просто одна из его шуточек.
Но нет, это была не шутка. Мне тоже, непонятно почему, пришли в голову слова из послания Катонов об этом городе и его вине.
— Насколько я понял, — вдруг заявил Кремень, сменив тему, — в арабских странах доступ к интернету ограничен. В Египте это тоже так?
Прежде чем ответить, Бутрос аккуратно сложил салфетку и положил на край стола (Фараг продолжал поглощать кунафу).
— Это очень серьёзный вопрос, капитан, — провозгласил он, напряжённо сморщив лоб. — Насколько мы знаем, здесь, в Египте, нет таких ограничений, как в Саудовской Аравии и Иране, странах, где доступ граждан к тысячам веб-страниц фильтруется и ограничивается. В Саудовской Аравии, например, в пригороде Риада есть оборудованный по последнему слову техники центр, который отслеживает все веб-страницы, посещаемые гражданами страны[62], и ежедневно блокирует сотни новых адресов, которые, по мнению правительства, направлены против религии, морали и саудовской королевской семьи. Хотя ещё хуже обстоят дела в Ираке и Сирии, где интернет вообще полностью запрещён.
— Но тебя это почему волнует, папа? Ты же едва умеешь обращаться с компьютером, и в Египте таких проблем нет.
Бутрос посмотрел на сына так, будто видит его в первый раз.
— Правительство не может шпионить за собственным народом, сынок, или ограничивать его свободу, быть его тюремщиком и цензором мнений людей. И ещё меньше прав на это есть у религии, какой бы она ни была. Ад, о котором пишут книги, не в загробной жизни, Фараг, он здесь, в нашей жизни, и его создают и те, кто называют себя толкователями слова Божьего, и правительства, которые ограничивают свободы своих граждан. Подумай, каким был наш город, и подумай, каким он стал теперь, и вспомни о своём брате Юханне, о Зоэ и маленьком Симоне.
— Я о них не забываю, папа.
— Найди страну, где ты сможешь быть свободным, сынок, — продолжал Бутрос, обращаясь к Фарагу так, словно нас с капитаном здесь не было. — Найди такую страну и уезжай из Александрии.
— Да что ты говоришь, папа! — Фараг упёрся в стол обеими руками так сильно, что костяшки на них побелели.
— Уезжай из Александрии, Фараг! Если ты останешься здесь, я не смогу жить спокойно. Уезжай! Оставь работу в музее и запри этот дом. И обо мне не беспокойся, — поспешно прибавил он, глядя на меня и улыбаясь с весёлым коварством. — Как только вы найдёте это место, я продам дом и куплю другой там, где будете вы.
— Бутрос, вы готовы уехать из Александрии? — улыбаясь ему в ответ, спросила я.
— Я окончательно порвал с этим городом после смерти моего сына Юханны и моего внука. — За его приятным выражением лица крылась глубокая боль. — Тысячи лет Александрия была славным городом. Сегодня для немусульман она просто опасна. Тут уже нет ни евреев, ни греков, ни европейцев… Все бежали и приезжают только как туристы. Зачем нам здесь оставаться? — Он снова с горечью взглянул на сына. — Фараг, обещай мне, что уедешь.
— Я думал об этом, папа, — признался Фараг, взглянув на меня краем глаза. — Но с тех пор, как я вернулся, я так счастлив, что мне трудно дать тебе это обещание.
Бутрос повернулся ко мне.
— Оттавия, вы знаете, что, если Фараг останется в Александрии, он может погибнуть от рук «Аль-Гамаа аль-Исламийя»?
Я промолчала. Возможно, Бутрос и преувеличивает, но его слова проникли ко мне в душу, и по моему взгляду Фараг это понял.
— Хорошо, папа, — наконец покорно сказал он. — Я даю тебе слово. Я не вернусь в Александрию.
— Найди себе хорошую страну, сынок, и хорошую работу. Я позабочусь о твоих вещах.
После этих слов мы все замолчали. Я никогда не подумала бы, что можно жить в таком страхе, и с грустью вспомнила о жителях Сицилии, которым угрожают моя семья и семья Дории. Почему мир — такое ужасное место? Почему Бог допускает такое? Я жила под стеклянным колпаком, и пора было встать лицом к лицу с действительностью.
— Как насчёт немного поработать? — предложил Кремень, откладывая салфетку.
Я тряхнула головой, словно очнувшись от сна, и удивлённо посмотрела на него.
— Поработать?
— Да, доктор, поработать. Сейчас… — он посмотрел на наручные часы, — одиннадцать вечера. Мы можем ещё пару часов потрудиться. Что скажете, профессор?
Фараг отреагировал так же неуклюже, как и я.
— Ладно, ладно, Каспар! — неуверенно согласился он. — Думаю, мы без проблем сможем войти в базу данных музея. Надеюсь, они не аннулировали моё имя пользователя и пароль.
Все вчетвером мы убрали со стола и быстро привели в порядок кухню. Потом, принимая во внимание, что мы вряд ли сможем увидеться перед отъездом, Бутрос распрощался со мной и со своим сыном парой крепких нежных объятий и с удовольствием пожал протянутую капитаном руку.
— Будьте очень осторожны, — попросил он нас, спускаясь по лестнице.
— Не волнуйся, папа.
Фараг уселся в своё рабочее кресло в кабинете и включил компьютер, а Кремень убрал со стула кипу журналов и пододвинул его к столу. Поскольку никакого желания вспоминать о ставрофилахах у меня не было, я принялась рассматривать книги на полках.
— Что ж, начинаем, — услышала я голос Фарага. — «Введите имя пользователя». Кеннет, — вслух сказал он. — «Введите пароль». Оксиринх. Чудесно, доступ есть. Мы внутри, — объявил он.
— Вы можете вести поиск по изображениям?
— Нет, не могу. Но могу искать конкретный текст и связанные с ним рисунки и фотографии. Я поищу «бородатую змею».
— На каком языке ты ищешь? — не оборачиваясь, спросила я.
— На арабском и английском, — ответил он, — но чаще на английском, потому что с этой латинской клавиатурой так удобнее. Там у меня стоит арабская, — указал он на один из шкафов, — но я ею почти не пользуюсь.
— Можно я посмотрю?
— Конечно.
Пока они ринулись на поиски бородатых змей, я вытащила из шкафа арабскую клавиатуру. Никогда не видела такой странной вещи, и мне она очень понравилась.
Она, естественно, была такой же, как обычные, но вместо букв латинского алфавита на клавишах были арабские значки.
— Ты правда умеешь на ней писать?
— Да. Это не так уж сложно. Труднее всего менять конфигурацию компьютера и программ, поэтому я всегда работаю с английским.
— Что здесь написано, профессор? — спросил Кремень, не сводя глаз с экрана.
— Где? Ну-ка… А, да, это коллекция изображений бородатых змей, которая хранится в музее.
— Чудесно. Смотрим.
Они принялись рассматривать фотографии рептилий и гадюк, вылепленных или нарисованных на художественных ценностях, хранящихся в фонде Греко-Римского музея. Провозившись довольно долгое время, они пришли к выводу, что ни одна из них не связана с рисунком ставрофилахов, поэтому начали сначала.
— Может, его тут нет, — неуверенно предположил Фараг. — Мы охватываем только шестьсот лет истории, начиная с 300 года до нашей эры. Возможно, это более позднее изображение.
— Фараг, элементы на рисунке греко-римские, — заметила я, листая журнал по египетской археологии, — так что они так или иначе попадают в этот период.
— Да, но тут ничего такого нет, и это довольно странно.
Они решили просмотреть ещё и общие каталоги александрийского искусства, подготовленные музеем для городских властей и доступные в базе данных. Тут им повезло чуть больше. Хоть изображение было неточным, они всё же нашли бородатую змею в коронах фараонов Верхнего и Нижнего Египта, которая имела определённое сходство с нашим рисунком.
— Профессор, на каких раскопках нашли это изображение? — спросил Кремень, наблюдая за вылезавшей из принтера копией.
— А, ну-ка… в катакомбах Ком Эль-Шокафы.
— Ком Эль-Шокафа?.. По-моему, я только что что-то об этом видела, — сказала я, возвращаясь к трём шатким кипам старых номеров «Национального географического журнала». Мне запомнилось слово «Шокафа» из-за его сходства с кунафой, огромными медовыми слойками, которые поедал Фараг.
— Не ищи, Басилея. Не думаю, что Ком Эль-Шокафа как-то связана с этим испытанием.
— Почему это, профессор? — холодно спросил Кремень.
— Потому что я работал там, Каспар. Я руководил раскопками в 1998 году и хорошо знаю это место. Если бы я видел там изображение с рисунка ставрофилахов, я бы его запомнил.
— Но оно показалось тебе знакомым, — заметила я, продолжая искать журнал.
— Из-за смешения стилей, Басилея.
Несмотря на поздний час, они с неуёмной энергией возобновили просмотр каталога александрийского искусства за последних тысячу четыреста лет. Создавалось впечатление, что они не устают вообще никогда, и наконец, как раз когда я нашла журнал, который искала, им попалась вторая значительная находка: медальон, в середине которого находилась голова Медузы. По возгласу капитана, который только и делал, что сравнивал помятый рисунок углем с изображением на экране, я поняла, что находка немаловажная.
— Точь-в-точь, профессор, — заявил он. — Посмотрите и сами увидите.
— Медуза позднего эллинистического стиля? Это довольно часто встречающийся мотив, Каспар!
— Да, но она точно такая же! Где находится этот рельеф?
— Дайте-ка взглянуть… Хм, в катакомбах Ком Эль-Шокафы, — изумлённо сказал он. — Интересно! Я не помнил…
— А тирса бога вина ты тоже не помнишь? — спросила я, поднимая журнал, открытый на странице с увеличенной репродукцией. — Потому что вот этот тирс точно такой же, как тот, что выходит из колец этого отвратительного животного, и он тоже находится в Ком Эль-Шокафе.
Капитан быстро поднялся со стула и вырвал журнал у меня из рук.
— Это он, без сомнений, — подтвердил он.
— Значит, это Ком Эль-Шокафа, — уверенно заявила я.
— Но это невозможно! — возмущённо возразил Фараг. — Испытание ставрофилахов не может проходить в этих катакомбах, потому что об этом месте захоронения ничего не было известно вплоть до 1900 года, когда земля вдруг провалилась под копытами бедного ослика, шедшего в тот момент по улице. Никто не знал о его существовании, а другого входа нигде не нашли! Это место было затеряно и забыто более пятнадцати веков.
— Как и мавзолей Константина, Фараг, — напомнила я.
Он внимательно посмотрел на меня из-за монитора. Он сидел откинувшись в кресле и с обиженным выражением лица покусывал кончик ручки. Он знал, что я права, но отказывался признать, что он ошибается.
— Что означает Ком Эль-Шокафа? — спросила я.
— Это название появилось, когда это место нашли в 1900 году. Оно означает «груда черепков».
— Ну и название! — усмехнулась я.
— Ком Эль-Шокафа — это подземные погребальные галереи, состоящие из трёх этажей, первый из которых использовался исключительно для поминальных банкетов. Их так назвали, потому что там нашли тысячи обломков посуды и тарелок.
— Послушайте, профессор, — сказал Кремень, возвращаясь на своё место, но так и не отдав мне «Национальный географический журнал», — можете говорить что хотите, но даже посуда и банкеты могут быть связаны с испытанием чревоугодием.
— Правда, — согласилась я.
— Я знаю эти катакомбы как свои пять пальцев и уверяю вас, что это не может быть то место, которое мы ищем. Подумайте только, что они вырублены в подземной скале и полностью исследованы. Совпадение с некоторыми деталями рисунка ничего не значит, потому что есть сотни скульптур, рисунков и рельефов в других местах. На втором этаже катакомб, к примеру, находятся большие изображения мёртвых, захороненных в нишах и саркофагах. Впечатляющее зрелище, уверяю вас.
— А на третьем этаже? — с любопытством поинтересовалась я, стараясь скрыть зевок.
— Там тоже захоронения. Проблема в том, что сейчас он частично затоплен подземными водами. В любом случае, говорю вам, там всё изучено вдоль и поперёк, и никаких сюрпризов там нет.
Капитан встал и посмотрел на часы.
— В котором часу начинаются экскурсии в катакомбы?
— Если мне не изменяет память, публику начинают пускать в полдесятого утра.
— Тогда идём отдыхать. Ровно в полдесятого мы должны быть там.
Фараг просительно посмотрел на меня.
— Оттавия, давай сейчас напишем твои письма в орден?
Я очень устала — наверняка от всех тех новых эмоций, которые принёс мне этот первый день июня месяца и моей новой жизни. Я грустно посмотрела на него и покачала головой:
— Завтра, Фараг. Мы напишем их завтра, когда будем лететь в Антакию.
Я не знала, что мы уже никогда не поднимемся на борт «Вествинда».
* * *
Ровно в полдесятого, как и сказал Глаузер-Рёйст, мы были у входа в катакомбы Ком Эль-Шокафы. Рядом с этим странным строением круглой формы с низкой крышей только что остановился автобус с японскими туристами. Мы были в Кармузе, крайне бедном районе, по узким улочкам которого сновали многочисленные тележки, запряжённые осликами. Стало быть, неудивительно, что именно одно из этих бедных животных стало открывателем такого важного памятника археологии. Мухи вились у нас над головами плотными гудящими тучами и с отвратительной настойчивостью садились на наши голые руки и лица. Японцев, похоже, телесный контакт с этими насекомыми совершенно не беспокоил, но меня они выводили из себя, и я с завистью наблюдала за тем, как ослики отпугивают их энергичными взмахами хвоста.
Опоздав на пятнадцать минут, к двери неторопливо подошёл старый муниципальный служащий, который, судя по возрасту, уже давно должен был наслаждаться заслуженным отдыхом. Он открыл дверь, словно не замечая стоявших у входа пятидесяти — шестидесяти человек, уселся на тростниковый стульчик за столом, на котором возвышалось несколько книжечек с отрывными билетами, и, бесстрастно пробормотав «Ахлан васахлан»[63], махнул нам рукой, чтобы мы подходили по одному. Экскурсовод японской группы попытался пролезть вперёд, но капитан, который был на полметра его выше, положил ему на плечо руку и сказал несколько вежливых слов по-английски, отчего тот встал как вкопанный.
Поскольку Фараг был египтянином, ему пришлось заплатить всего пятьдесят пиастров. Служащий не узнал его, хотя он проводил там исследования всего два года назад, и Фараг тоже не стал представляться. Мы с Глаузер-Рёйстом, будучи иностранцами, заплатили двенадцать египетских фунтов каждый.
Зайдя внутрь строения, мы сразу нашли дыру в полу, в которую спускалась вырезанная в скале длинная винтовая лестница, в середине которой оставалась опасная пустота. Осторожно нащупывая ступени, мы начали спуск.
— В конце II века, — пояснил Фараг, — когда в Ком Эль-Шокафе активно проводились захоронения, через это отверстие спускали вниз на верёвках тела.
Первый пролёт лестницы выходил в некое подобие вестибюля с прекрасно выровненным известняковым полом. Там были видны (не очень хорошо, потому что освещение было скудным) две вырезанные в стене скамьи, инкрустированные морскими раковинами. Этот вестибюль, в свою очередь, выходил к большой ротонде, в центре которой высились шесть колонн с капителями в форме листьев папируса. Как и говорил Фараг, повсюду виднелись странные рельефы, смесь египетских, греческих и римских мотивов, это поразительно напоминало странную «Мону Лизу» Дюшампа, Уорхола и Ботеро. Залов для поминальных пиршеств было так много, что они образовывали настоящий лабиринт из галерей. Я легко могла представить себе обычный день в этом месте где-нибудь в I веке нашей эры, когда все эти залы были заполнены семьями и друзьями, сидевшими при свете факелов на подушках, уложенных поверх каменных сидений, на пирах в честь своих мёртвых. Как сильно отличается языческое мировоззрение от христианского!
— В начале, — продолжал свой рассказ Фараг, — эти катакомбы, очевидно, принадлежали одной-единственной семье, но со временем их скорее всего приобрела какая-то община, которая превратила их в место массового захоронения. Это объясняет, почему здесь столько погребальных ниш и столько банкетных залов.
С одной стороны в скале виднелась щель, образовавшаяся в результате обвала.
— С другой стороны находится так называемый зал Каракаллы. В нём нашли человеческие кости вперемешку с костями лошадей. — Он хозяйским жестом провёл ладонью по краю трещины и продолжил: — В 215 году император Каракалла был в Александрии и без всякой видимой причины приказал провести набор сильных молодых людей. Проведя смотр своим новым войскам, он приказал убить и людей, и коней[64].
От ротонды на второй уровень вёл следующий отрезок винтовой лестницы. Если уже на первом этаже света было мало, на втором едва можно было разглядеть что-то, кроме кошмарных силуэтов статуй мёртвых в натуральную величину. Недолго думая Кремень вытащил из рюкзака фонарь и зажёг его. Мы были совершенно одни, толпа японских туристов осталась наверху. В новом вестибюле два огромных, увенчанных капителями с листьями папируса и лотосами столба стояли по обе стороны фриза, на котором виднелись два сокола, сопровождающих крылатое солнце. Со стены на нас пустыми глазами смотрели две вырезанные в натуральную величину фантасмагорические фигуры мужчины и женщины. Тело мужчины было таким же, как у фигур в Древнем Египте: застывшим и с двумя левыми ногами; однако его голова была выполнена в эллинистическом греческом стиле, а лицо было красиво и очень выразительно. Изображённое тоже по египетским канонам тело женщины венчала изящная римская причёска.
— Мы думаем, что это те, кто занимает те две ниши. — Фараг указал в глубину длинного коридора.
Похоронные залы были огромных размеров и поражали своей роскошью и необычным убранством. Слева от одной из дверей мы увидели бога Анубиса с головой шакала, а справа от неё находился бог-крокодил Себек, бог Нила, оба они были одеты в доспехи римских легионеров и держали короткие мечи, копья и щиты. Медальон с головой Медузы мы отыскали в зале, где стояли три гигантских саркофага, на боковой стороне одного из которых нашёлся посох Диониса. Вокруг этого зала вился полный ниш проход, и в каждую нишу, по словам Фарага, помещалось до трёх мумий.
— Но сейчас же их там нет, правда? — с тоской в голосе спросила я.
— Нет, Басилея. Содержимое почти всех ниш исчезло до 1900 года. Ты же знаешь, что в Европе ещё в начале XIX века прах мумии считался замечательным лекарством от всех болезней, и его продавали на вес золота.
— Значит, неверно, что, кроме главного входа, никаких других нет, — заметил Кремень.
— Других входов найти не удалось, — обиженно ответил Фараг.
— Если благодаря удачному обвалу, — Кремень не унимался, — вам удалось найти зал Каракаллы, почему бы тут не быть другим неисследованным залам?
— Здесь что-то есть! — сказала я, вглядываясь в кусочек стены. Я только что обнаружила нашу знаменитую бородатую змею.
— Что ж, теперь недостаёт только керикейона[65] Гермеса, — произнёс Фараг, подходя поближе.
— Кадуцея, да? — переспросил капитан. — Он больше напоминает мне врачей и аптеки, чем посланников.
— Потому что Асклепий, греческий бог медицины, носил похожий посох, правда, с одной змеёй. Из-за путаницы врачи приняли за свой символ посох Гермеса.
— Нам придётся спуститься на третий уровень, — сказала я, направляясь к винтовой лестнице, — потому что боюсь, что здесь мы уже ничего не найдём.
— Третий уровень закрыт, Басилея. Галереи там затоплены. Ещё когда я здесь работал, последний этаж уже было трудно осмотреть.
— Тогда чего мы ждём? — заявил Кремень, следуя за мной.
Лестница, ведущая в глубины катакомб Ком Эль-Шокафы, действительно была перекрыта цепочкой, на которой висела металлическая табличка, где по-английски и по-арабски было написано, что проход запрещён, так что капитан, храбрый исследователь, далёкий от общепринятых запретов, сорвал её со стены и начал спуск под ворчание Фарага Босвелла. Над нашими головами первые смельчаки из японской группы уже решились на спуск на второй уровень.
В какой-то момент, ещё не ступив на последнюю ступень, я ощутила, что нога погрузилась в тёплую лужу.
— Я вас предупреждал, — съехидничал Фараг.
Холл на этом этаже был намного больше, чем верхние вестибюли, и вода в нём доходила нам до пояса. Я стала подозревать, что, пожалуй, Фараг был прав.
— Знаете, что я вспомнила? — шутливо спросила я.
— Наверняка то же, что и я, — быстро ответил он. — Это как возвращение в константинопольскую цистерну?
— На самом деле нет, — ответила я. — Я подумала, что на этот раз мы не прочитали Дантовы стихи о шестом круге.
— Это вы не прочитали, — презрительно уколол Глаузер-Рёйст, — потому что я прочитал.
Мы с Казановой виновато переглянулись.
— Тогда расскажите нам что-нибудь, Каспар, чтобы мы знали, в чём тут дело.
— Испытание в шестом круге намного проще, чем в предыдущих, — начал пояснять Кремень, пока мы углублялись в галереи. Стояла жуткая вонь, и вода была такая же мутная, как в константинопольской цистерне, но, слава Богу, на этот раз её беловатый цвет был вызван присутствием известняка, а не потом сотен ног рьяных верующих. — Данте использует коническую форму горы Чистилища, чтобы постепенно сокращать размеры уступов и величину наказаний.
— Да услышит вас Господь! — с надеждой воскликнула я.
Рельефы на третьем уровне были не менее оригинальны, чем на первых двух. У александрийцев в Золотом веке не было религиозных противоречий или взаимоисключающих верований: они без проблем хоронили останки в катакомбах, вверенных под защиту Осириса и украшенных рельефами с Дионисом; эклектика в правильном понимании этого слова, которая стала основой их процветающего общества. К сожалению, всё это кончилось, когда официальной религией Византийской империи стало раннее христианство — культ, резко отвергавший все другие.
— Шестой круг тянется в двадцать второй, двадцать третьей и двадцать четвёртой песне, — продолжал свой рассказ Кремень. — Души обжор без конца кружат по уступу, на каждом конце которого стоят две яблони с кроной в форме обращённого вниз конуса.
— Это очень похоже на форму египетского папируса, — вставил Фараг.
— Вы правы, профессор. Это можно воспринять как скрытое указание на Александрию. Как бы там ни было, с этих деревьев свисает множество аппетитных плодов, которые несущие кару за чревоугодие не могут достать. Но, кроме того, на них также льётся ароматный напиток, который они не могут проглотить, поэтому они бродят по уступу с ввалившимися глазами и бледными от голода и жажды лицами.
— И Данте, как всегда, встречает множество старых знакомых и друзей, так ведь? — спросила я, и тут же в глубине зала передо мной мелькнул кадуцей. — Идём туда, — указала я. — По-моему, я что-то заметила.
— Но как же кончается испытание? — снова спросил Фараг у капитана.
— Пылающий, как огонь, ангел красного цвета, — ответил Кремень, — указывает им подъём к седьмому, последнему уступу и стирает со лба Данте отметину греха чревоугодия.
— И всё? — спросила я, борясь с водой, чтобы поскорее дойти до стены, на которой я уже ясно видела большой кадуцей Гермеса.
— И всё. Всё становится проще, доктор.
— Вы даже не знаете, капитан, что бы я дала, чтобы так оно и было.
— Наверное, то же, что дал бы и я.
— Керикейон! — вырвалось у Фарага, и он коснулся рисунка руками, как правоверный иудей касается Стены Плача. — Я готов поклясться, что два года назад его здесь не было.
— Ладно, ладно, профессор… — упрекнул его Кремень. — Оставьте эту гордыню. Признайтесь, что вы могли о нём забыть.
— Да нет, Каспар, нет! Тут действительно слишком много залов, чтобы запомнить их все, но такой символ обязательно привлёк бы моё внимание.
— Его нарисовали сейчас специально для нас, — пошутила я.
— А вам не кажется странным, что мы нашли изображения Медузы, змеи и тирса на втором этаже, а кадуцей — на третьем, на довольно большом расстоянии от всех остальных?
Мы с Кремнем задумались.
— Погодите-ка! Что я вам говорил, а? — закричал Фараг, показывая нам свои ладони: они были вымазаны в глине.
— Стена разваливается, — озадаченно прибавил Кремень, касаясь её рукой и зачерпывая горсть клейкого раствора.
— Это не настоящая перегородка! Я так и знал! — провозгласил Фараг и начал так яростно ломать её, что, как ребёнок, перепачкался в грязи с головы до ног.
Когда, вспотев и запыхавшись, он проделал в стене большое отверстие, я несколько раз провела мокрой рукой по его лицу, чтобы привести его в нормальный вид. Он светился от счастья.
— Какие мы умные, Басилея! — без конца повторял он, не сопротивляясь моим попыткам очистить слипшиеся волосы его бороды.
— Идите-ка взгляните, — прозвучал из-за перегородки голос Кремня.
При свете мощного фонаря Глаузер-Рёйста нам открылось великолепное зрелище: ниже нас находился огромный гипостильный зал, многочисленные колонны византийского стиля образовывали в нём длинные сводчатые туннели, и всё это было наполовину залито тихим чёрным озером, поблёскивавшим в луче фонаря, как ночное море при свете луны.
— Не стойте там, — позвал нас Кремень. — Ныряйте ко мне, в это нефтехранилище.
Нам повезло, и нефть оказалась просто водой, застоявшейся в тёмном пруду, на котором начало расползаться беловатое пятно от воды, потихоньку льющейся из катакомб. Мы перелезли через остатки перегородки и спустились по четырём большим ступеням.
— В глубине зала есть дверь, — сказал капитан. — Идём туда.
В доходящей по шею воде мы молча пошли по одному из широких коридоров, в котором без проблем могло бы проплыть рыболовное судно. Несомненно, мы наткнулись на старую подземную цистерну города, старинное водохранилище, в котором александрийцы накапливали питьевую воду ко времени ежегодного нильского половодья, когда в дельту попадает красный ил из южных земель, знаменитая кара в виде кровавых вод, которую Яхве наслал, чтобы освободить иудейский народ от египетского рабства.
Добравшись до мощной, сложенной из каменных блоков стены, в которой была прорезана дверь, мы споткнулись о первую из других четырёх ступеней, поднявшись на которые, мы вышли из воды. Увидев вырезанную на одной из деревянных створок христограмму, мы ничуть не удивились; мы бы скорее удивились, если бы её не было. Так что капитан уверенно сжал деревянную ручку и толкнул дверь. Мы застыли на месте, вдруг оказавшись перед залом для поминальных пиршеств, точь-в-точь таким же, как многие залы на первом этаже Ком Эль-Шокафы.
— Что это, чёрт побери? — загремел голос Глаузер-Рёйста, когда он увидел, что на каменные скамьи уложены мягкие камчатные подушки, а центральный стол уставлен изысканными угощениями.
Мы с Фарагом отстранили его и вошли в зал. Его освещало несколько факелов, а стены и полы были украшены изумительными гобеленами и коврами, и, хотя другой двери нигде не было видно, кто-то только что со всех ног отсюда удрал, потому что еда на расставленных блюдах дымилась, а тонкие алебастровые кубки были до краёв наполнены вином, водой и каркаде.
— Не нравится мне это! — сердито заворчал Кремень. — Если это поминальное пиршество, мы готовы!
Когда я услышала эти слова, меня охватил страх. Внезапно, не понимая толком почему, я почувствовала что-то зловещее в этом красиво украшенном зале, заполненном ароматами, исходившими от вкуснейших блюд с мясом, овощами и бобами.
— О… нет! — пробормотал за моей спиной Фараг. — Нет!
Я молниеносно обернулась, встревоженная его испуганным голосом, и увидела, что он стоит в распахнутой рубашке, судорожно держа руками её края. На его туловище была масса странных длинных, извивающихся чёрных чёрточек толщиной с палец.
— Господи! — завопила я. — Пиявки!
Стремительным порывом Глаузер-Рёйст оставил фонарь на краю стола и рванул пуговицы на рубашке. На его груди, как и на груди Фарага, было штук пятнадцать — двадцать этих отвратительных червяков, которые на глазах толстели, наливаясь горячей кровью, которую они сосали.
— Оттавия! Снимай одежду!
Было бы легко сострить по этому поводу, но мне было не до шуток. Пока я на грани нервного срыва расстёгивала блузку дрожащими руками, Фараг с капитаном сорвали с себя брюки. Ноги у обоих были довольно волосатыми, но, похоже, пиявок, которые в бесчисленном множестве прилипли к их коже, это не беспокоило. К сожалению, на мне было тоже полно этих гадких животных. Хоть от отвращения у меня стоял ком в горле и волнами подкатывала тошнота, я протянула руку к одному из девяти или десяти червяков, присосавшихся к моему животу, взяла его — он был мягким и влажным, как желе, и шершавым на ощупь — и потянула.
— Нет, не надо, доктор! — крикнул Глаузер-Рёйст. Боли я не почувствовала, как не чувствовала её и тогда, когда в меня впились эти гады, но как ни тянула, я не смогла её от себя отцепить. Её круглый рот представлял собой присоску, и, судя по всему, сосала она очень сильно. — От них можно избавиться только огнём.
— Что? — Мне стало плохо; по щекам полились слёзы от непомерного отвращения и отчаяния. — Мы же обожжёмся!
Но Кремень уже влез на одну из скамей и, вытянувшись во весь рост, схватил факел. Он направился ко мне с таким решительным видом и фанатизмом во взгляде, что от страха я отступила назад. Упершись в стену и почувствовав, что я придавила вязкую, упругую массу червяков, сосущих кровь из моей спины, я ощутила неудержимый позыв к рвоте. Я не сдержалась, и меня стошнило прямо на прекрасные ковры, но, не дав мне времени опомниться, Глаузер-Рёйст поднёс к моему телу пламя, и пиявки начали отваливаться, как зрелые плоды. Проблема была лишь в том, что он жёг и меня, и боль была просто нестерпимой. Мои крики переросли в вопли, когда Кремень поднёс ко мне факел во второй раз.
В это время пиявки на теле Фарага и капитана продолжали наливаться кровью. Они округлялись и надувались в районе головы, где была присоска, но нижняя часть, хвост, оставалась тонкой и узкой, как дождевой червяк. Я не знала, сколько крови могут выпить эти гады, но с таким их количеством мы наверняка теряем множество крови.
— Капитан, оставьте факел! — крикнул вдруг Фараг, возникая из-за спины Кремня с алебастровой чашей. — Я попробую так!
Он погрузил пальцы в чашу и смочил их в пахнувшей уксусом жидкости, а потом смочил ею одну из пиявок, впившихся в моё бедро. Она начала извиваться, как нечистый дух под освящённой водой, и оторвалась от кожи.
— На столе есть вино, уксус и соль! Смешайте их и поливайте себя, как я Оттавию!
По мере того как Фараг поливал пиявок этим средством, они отпускали меня и бессильно падали на пол. Я возблагодарила Бога за спасение, потому что те места, к которым Кремень прикладывал факел, болели у меня так, словно меня пронзили ножами. Но если болели ожоги, почему не болели укусы пиявок? Я совершенно не чувствовала боли, не замечала их присутствия, даже не ощущала, что они высасывают мою кровь. Мне только становилось дурно при виде наших тел, усеянных чёрными червяками.
Вместо того чтобы воспользоваться приготовленной смесью, Глаузер-Рёйст подошёл к Фарагу и одну за другой начал снимать с его спины пиявок, которые были уже величиной с крыс. Но их было слишком много. Весь пол был усеян червяками, которые медленно извивались от большого количества выпитой крови, однако казалось, что их число на нас не уменьшается. Когда одна из них отрывалась, в центре покрасневшей отметины от присоски видны были три пореза в форме звезды, как на символе марки «Мерседес-Бенц», из которых продолжала обильно струиться кровь. То есть, кроме того, что они присасывались, они ещё и кусали, и для этого у них было три ряда заострённых зубов.
— Факел был бы лучше, профессор, — заметил Кремень. — Насколько я знаю, место укуса пиявок долго кровоточит. От огня рана бы закрылась. Кроме того, вспомните о шестом круге Данте: указывавший выход ангел был пылающим пламенем красного цвета.
— Нет, Каспар, поверьте, я знаю этих тварей. Я с детства видел пиявок. В Александрии их много: и на пляже, и на берегах Мареотиса[66], и прекратить кровотечение невозможно. В их слюне содержится очень сильное обезболивающее и мощный антикоагулянт. Рана кровоточит около двенадцати часов. — Лоб у Фарага был сморщен, и он сосредоточенно снимал с меня одного червяка за другим. — Чтобы остановить кровь, нам бы пришлось сделать очень глубокий ожог, и потом, мы же не можем ожечь всё тело?.. Единственное, что мы можем сделать, это как можно скорее снять с себя этих гадов, потому что они могут выпить в десять раз больше крови, чем весят сами.
Мне очень хотелось пить. Во рту резко пересохло, и я не могла отвести глаз от стоявших на столе воды и каркаде. Капитан, на котором ещё висело пятьдесят — шестьдесят пиявок, которые впились в него в цистерне, неуверенным шагом подошёл к кубкам и, взяв их дрожащими руками, вручил один Фарагу, а другой мне. Потом он тоже стал пить воду, как измученный жаждой верблюд, не в силах контролировать себя. Фараг снял с меня последнего червяка и принялся спасать Глаузер-Рёйста, который, побледнев как снег, шатался словно пьяный. Я без сил оперлась о мягкий настенный ковёр и сразу почувствовала, как он намокает и становится липким от крови. Я бы что угодно отдала, чтобы ещё напиться, но само обезвоживание и связывавшая меня ужасная усталость не дали мне двинуться. Из моих звездоподобных ран сочились бесчисленные струйки крови. Их невозможно было остановить, и в моих туфлях и на полу вокруг них образовались целые лужицы.
— Пей, Оттавия! — услышала я издалека голос Фарага. — Пей, любовь моя, пей!
Я едва слышала его голос, но снова ощутила край чаши у губ. В ушах у меня гудело; я слышала бесконечные ноты сотен окарин[67]. Я помню, что приоткрыла глаза как раз перед тем, как в беспамятстве рухнула на пол: рядом с одной из каменных скамей лежал без сознания покрытый червяками капитан, а передо мной стоял бледный Фараг с чёрными кругами вокруг глаз и запавшими щеками, и его тяжёлое дыхание и расплывчатые черты — последнее, что я помню.
Целую неделю мы были очень слабы. Ухаживавшие за нами заставляли нас пить много жидкости и есть какую-то кашицу со вкусом овощного пюре. Несмотря на это, нам было нелегко восстановиться от этой дикой кровопотери. Я на долгое время теряла сознание и помню длинные часы бреда и странных галлюцинаций, в которых самые абсурдные вещи казались возможными и логичными. Когда нас кормили и поили, я слегка открывала глаза и видела тростниковый потолок, сквозь который проникали солнечные лучи. Я не знаю точно, реальность это или часть моих бредовых иллюзий, но, как бы там ни было, я была не я, так что всё равно.
На второй или третий день, точно не скажу, я поняла, что мы на корабле. Покачивание и плеск воды о борт рядом с моей головой перестали быть только частью моих кошмаров. Где-то в те же дни я помню, что начала искать взглядом Фарага и нашла его лежащим без сознания рядом со мной, но у меня не было сил привстать и придвинуться ближе. В моих грёзах он являлся в оранжевом свете и говорил грустным голосом: «По крайней мере вас утешает вера в то, что скоро вы начнёте новую жизнь. Я засну вечным сном». Я протягивала к нему руки, чтобы схватить его и упросить не бросать меня, не уходить, вернуться ко мне, но он, печально улыбаясь, говорил: «Я довольно долго боялся смерти, но не позволил себе поддаться слабости и уверовать в Бога, чтобы избавиться от этого страха. Потом я понял, что каждый вечер, когда я ложусь в постель и засыпаю, я тоже немного умираю. Процесс тот же самый, разве ты не знала? Помнишь греческую мифологию? Братьев-близнецов Гипноса и Танатоса, сыновей Никты, Ночи… помнишь?» Тут его образ превращался в расплывчатый контур, который мелькнул передо мной до того, как я потеряла сознание в зале для поминальных пиршеств в Ком Эль-Шокафе.
Мы, вероятно, были очень близки к тому, чтобы никогда не проснуться, но, пока вода и пиво, которыми нас постоянно поили, вместе с кашицей, в которой скоро появились измельчённые кусочки рыбы, наполняли наши слабые тела здоровьем и силами, однажды ночью корабль бросил якорь у плёса, и ухаживавшие за нами мужчины вынесли нас, завёрнутых в полотно, на плечах из каюты и перенесли по земле до повозки продавца чёрного чая. Я почувствовала сильный запах чая и мяты и увидела месяц, в этом я уверена, и это был растущий серпик на бесконечном, усыпанном звёздами небе.
Когда после этого ко мне снова вернулось сознание, мы снова были на корабле, но уже на другом, побольше, и раскачивало его меньше. Я поднялась на локтях, хоть это и стоило мне нечеловеческих усилий, потому что должна была увидеть Фарага и узнать, что происходит: они с капитаном лежали рядом со мной в окружении канатов, старых парусов и наваленных в кучи сетей, пахнувших гнилой рыбой, и спали глубоким сном, как и я, до шеи укрытые тонкой тканью из небеленого льна, защищавшей их от мух. Усилие это оказалось слишком изнурительным для моего ослабевшего тела, и я снова рухнула на тюфяк, будучи ещё слабее, чем раньше. С палубы раздался голос одного из ухаживавших за нами мужчин, который прокричал что-то на не похожем на арабский языке, который я не смогла распознать. Перед тем, как снова заснуть, мне показалось, что я расслышала что-то вроде «Нубиа» или «Нубия», но наверняка сказать невозможно.
После многочисленных коротких промежутков, когда ко мне возвращалось сознание, которые никогда не совпадали с бодрствованием Фарага и Кремня, я пришла к выводу, что в еде, которой нас кормили, было что-то, кроме рыбы, овощей и пшеницы. Это был необычный сон, и мы уже достаточно восстановили свои силы, чтобы проводить в летаргическом состоянии столько часов. Но отказаться от еды я боялась, так что и дальше продолжала глотать кашу и пить пиво, которое приносили нам корабельщики, кстати, тоже довольно своеобразные люди. Из всей одежды их смуглую кожу прикрывали только набедренные повязки, странно сверкающие своей яркой белизной, и под воздействием наркотиков, глядя на них, я бредила преображением Иисуса на горе Фавор, когда его одежда стала изливать белоснежное сияние и ярко блестеть, а с неба раздался голос, говорящий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». Кроме того, на головах у них были тонкие платки тоже белого цвета, которые они завязывали на затылке шнурком, так что концы спадали на спину. Они очень мало говорили между собой, а когда говорили, использовали странный язык, в котором я ничего не понимала. Если когда-нибудь я, бормоча, обращалась к ним с какой-нибудь просьбой или просто для того, чтобы убедиться, что я ещё в состоянии произнести хоть слово, они в ответ отрицательно размахивали руками и с улыбкой повторяли: «Гииз, гииз!» Они были всегда внимательны и обращались со мной с большим уважением, а кормили и поили с нежностью, достойной лучшей из матерей. Но это были не ставрофилахи, потому что на их телах не было следов шрамирования. В тот день, когда я обратила на это внимание, даже не знаю как, мне пришлось успокоить себя мыслью о том, что, если бы это были бандиты или террористы, они бы уже давно убили нас, и что всё это, очевидно, соответствует замысловатым планам братства. Если бы не так, то как бы мы попали к ним в руки из Ком Эль-Шокафа?
Мы пересаживались с одного корабля на другой пять раз, всегда ночью, а потом проехали длинный путь по земле, усыплённые в задней части старого грузовика, перевозившего древесину. Однако от берега реки мы не удалялись, потому что с другой стороны, невдалеке от тёмной цепи пальм, виднелось холодное и пустое пространство пустыни. Помню, я подумала, что мы плывём по Нилу к югу и что эта постоянная пересадка с корабля на корабль имеет смысл, только если нужно преодолеть опасные пороги, перекрывающие русло реки. Если моё предположение было верным, в данное время мы должны были бы уже быть как минимум в Судане. Но как же тогда быть с испытанием в Антакии? Если мы едем к югу, мы удаляемся от следующего места назначения.
Наконец в один прекрасный день они перестали накачивать нас наркотиками. Почувствовав губы Фарага на моих, я окончательно проснулась, но не открыла глаза. Я отдалась укачивающему, сладкому ощущению сна и его поцелуев.
— Басилея…
— Я не сплю, любимый, — прошептала я.
Когда я подняла веки, меня словно молнией пронзило синим-синим цветом его глаз. Он осунулся, но был так же красив, как всегда. И, думаю, не будет преувеличением сказать, что пахло от него хуже, чем от одной из грязных рыбацких сетей, лежавших рядом с нами.
— Как давно я не слышал твой голос, Басилея, — целуя меня, шёпотом сказал он. — Ты всё время спала!
— Нас чем-то опаивали, Фараг.
— Знаю, моя радость, но ничего плохого с нами не случилось. А это важнее всего.
— Как ты? — спросила я, отстраняясь от него, чтобы провести рукой по его лицу. Его светлая борода отросла уже на целую пядь.
— Чудесно. Эти типы могли бы разбогатеть на продаже наркотиков, которые используют во время испытаний.
Только тогда я увидела, что стены нашей новой роскошной каюты казались бумажными и пропускали идущие снаружи свет и шум.
— А Кремень?
— Вон он, — кивнул он в сторону противоположной стены. — Всё ещё спит. Но, думаю, скоро проснётся. Что-то должно произойти, и они хотят, чтобы мы были в нормальном состоянии.
Он ещё не договорил, как закрывавшая один из краёв каюты льняная завеса откинулась в сторону, чтобы пропустить ухаживавших за нами мужчин. Интересно, что, хотя я могла их узнать, только в этот момент у меня создалось впечатление, что я вижу их на самом деле, словно раньше мой взгляд был всегда затуманен тенью. Они были высоки и худы, почти кожа да кости, и у всех были густые короткие бороды, придававшие им свирепый вид.
— Ахлан васахлан, — сказал один из них, казавшийся предводителем группы, скрестив тощие смуглые ноги, чтобы ловким естественным движением плюхнуться рядом с нами. Все остальные остались стоять.
Фараг ответил на приветствие, и они завели пространную беседу на арабском языке.
— Оттавия, ты готова к сюрпризам? — вдруг спросил меня Фараг.
— Нет, — сказала я, усаживаясь так, чтобы ноги оставались под полотном. На мне была только короткая белая туника, и моя гордость возбраняла мне заниматься эксгибиционизмом. Но тут я осознала, что кто-то из этих молчаливых субъектов все эти дни должен был обмывать самые интимные части моего тела, и мне захотелось провалиться сквозь землю.
— Что ж, прости, пожалуйста, но я должен тебе рассказать, — продолжил Фараг, не обратив внимания на резкое изменение в цвете моего лица. — Этот добрый человек — капитан Мулугета Мариам, а все остальные — члены его команды. Этот корабль… «Неваи»? — переспросил он, глядя на этого Мулугету, и тот невозмутимо кивнул, — один из его кораблей, которые плавают по всему Нилу и перевозят грузы и пассажиров между Египтом и, как он говорит, Абиссинией. То есть Эфиопией.
По мере того как Фараг говорил, мои глаза раскрывались всё шире и шире.
— Уже сотни лет его народ, ануаки из Антиохии в районе Гамбелы у озера Тана в Абиссинии, подбирают спящих пассажиров в дельте Нила и доставляют их в свою деревню…
— А кто их им передаёт? — перебила я.
Фараг повторил мой вопрос по-арабски, и капитан Мариам лаконично ответил:
— Старофилас.
Мы застыли, испуганно переглядываясь.
— Спроси у него, — пробормотала я, — что они с нами сделают, когда мы прибудем на место.
Снова произошёл обмен словами, и наконец Фараг посмотрел на меня:
— Он говорит, что нам нужно будет пройти испытание, которое является частью традиций ануаков с тех пор, как Бог дал им землю и Нил. Если мы погибнем, наши тела сожгут на костре и развеют пепел по ветру, а если выживем…
— Что? — испугалась я.
— Старофилас, — подытожил он, мрачно подражая Мариаму.
Я была так ошеломлена, что могла лишь сидеть и поворачивать голову из стороны в сторону да водить руками по грязным волосам, которые слиплись так, что в них нельзя было просунуть пальцы.
— Но… Но предполагалось, что мы только найдём, где находится Земной Рай, чтобы поймать воров. — Во мне говорил страх. — Если нас держат в плену, как мы сообщим об этом полиции?
— Всё складывается, Басилея, подумай. Ставрофилахи не могут позволить нам свободно выйти из седьмого круга. Ни нам, ни кому-либо из других посвящаемых. Ведь можно просто передумать, или вас могут подкупить, а то и предать идеал в последний момент, когда до цели рукой подать. Что они могут предпринять ввиду такой опасности? Это же очевидно, правда? Мы должны были догадаться, что последний уступ будет не таким, как предыдущие. Кроме того, в нашем случае что им остаётся делать?.. Дать нам завершить испытания и выдать нам последнюю подсказку, чтобы мы сами достигли Земного Рая? Тогда, как ты сама сказала, нам было бы достаточно сообщить властям расположение тайника, как на них бы тут же набросилась целая армия. А они не дураки.
Мулугета Мариам смотрел на нас, не понимая ни слова из нашего разговора, но удивлённым не выглядел. Он сохранял спокойствие и твёрдость, словно бывал в такой ситуации уже сотни раз. Наконец, когда наше молчание затянулось, он выдал длинную тираду, которую Фараг внимательно выслушал.
— Капитан говорит, что до деревни Антиохия осталось уже немного, и поэтому нас разбудили. Судя по всему, несколько дней назад мы вышли из Нила и теперь плывём по одному из его притоков, Атбаре, который, по словам этого доброго человека, так же, как и сам Нил, принадлежит ануакам.
— Но как мы добрались до Эфиопии? — взвизгнула я. — Что, границ между странами уже не существует? Пограничников и таможенного контроля нет?
— Они переходят через границы по ночам и мастерски правят фалуками, типичными для Нила парусными судами, которые могут неслышно проплыть рядом с полицейскими постами, не вызвав никаких подозрений. Наверняка они к тому же пускают в дело взятки и тому подобные методы. В этих местах это обычное дело, — пробормотал он, теребя себя за нижнюю губу.
Я еле могла дышать.
— И где, интересно знать, мы теперь находимся? — еле смогла выговорить я. У меня было ощущение, что я потерялась в какой-то неисследованной точке земного шара.
— Я никогда не слышал об ануаках и о деревне под названием Антиохия, но знаю, где расположено озеро Тана, в котором зарождается великий Голубой Нил[68], и уверяю тебя, что это место сложно назвать цивилизованным или легкодоступным местом. Забудь, что ты на пороге XXI века. Вернись на тысячу лет назад — и ты приблизишься к истине.
Больше уже выпучить глаза я не могла, они даже болели, так долго я не мигая смотрела на Фарага, но изменить выражение лица я не могла, даже если бы захотела.
— Что за бред вы несёте, профессор? — проворчал Кремень, ворочаясь, как ребёнок под одеялом. — Что за чёртов бред вы несёте? — возмущённо повторил он.
Мы с Фарагом и Мулугетой смотрели, как бедняга пытается прийти в себя, мотая головой и борясь с горячим воздухом и вьющимися перед ним мухами.
— Что мы в Эфиопии, Каспар, — сказал Фараг, протянув ему руку, чтобы помочь встать, но капитан отверг его помощь. — Если верить капитану Мариаму, несколько дней назад мы перешли суданскую границу и скоро прибудем в Антиохию, город, где пройдёт следующее испытание.
— Чёрт побери! — проворчал он, потирая лицо руками, чтобы стряхнуть с себя сон. Он тоже явно нуждался в хорошей бритве. — Но мы ведь должны были ехать в Антакию?
— Ну… Так мы думали, — ответила я, находясь в не меньшей растерянности, чем он. — Но речь шла не об Антакии, древней Антиохии в Турции, а об эфиопской деревне под названием Антиохия.
— Для тех, кто не знает, — вздохнул Фараг, более, чем мы, смирившийся с этим неожиданным поворотом событий, — Антакия и Антиохия — это одно и то же. Это две формы одного названия. И в мире есть несколько городов под названием Антиохия. Вот только я не знал, что один из них находится в Абиссинии.
— Я уже думала, — заметила я, проводя рукой по жестким волосам, — что странно, что нас заставляют ехать из Турции в Египет, а потом снова возвращаться в Турцию. Очень странный крюк для средневекового паломника, которому приходится путешествовать пешком или на коне.
— Ну вот, ты и получила объяснение, Басилея, — заявил Фараг, пожимая руку капитану Мулугете, который прощался с нами, чтобы дальше заниматься кораблём. — А теперь как насчёт выйти отсюда, вдохнуть чистого воздуха и освежиться в реке?
— Гениальная идея, — согласилась я, вставая. — От меня так пахнет!
— А ну-ка… — с готовностью потянулся ко мне Фараг, желая убедиться в этом сам.
— Изыди, сатана! — вскрикнула я, выбегая наружу, за полотняную занавеску.
Кремень пробормотал что-то насчёт круга сладострастия, но я выбежала так быстро, что не разобрала его слов. Мариам заверил нас, что опасности в купании в синих водах Атбары нет, так что мы нырнули туда прямо с палубы, и я почувствовала, как оживают все мои мышцы и мой бедный, замученный мозг. Вода была прохладной и чистой на вид, но Кремень посоветовал нам не глотать ни капли, потому что в большинстве африканских стран малярия, холера и тиф являются эндемическими заболеваниями. Глядя на плавные и прозрачные воды реки, трудно было это осознать, но на всякий случай мы с точностью выполнили его совет. Воздух был настолько чист, что казалось, исцеляет нас изнутри и снаружи, а небо — такого замечательно голубого цвета, что, глядя на него, хотелось летать. Разделённые изрядным расстоянием берега до самой кромки воды были покрыты зелёной чащей, в которой выделялось множество высоких деревьев с густыми кронами, усеянных перелетавшими с места на место птичьими стаями. Из звуков были слышны только птичий гомон и пение, к которым примешивался плеск воды от нашего купания и наши голоса. Всё было так красиво, что я готова поклясться, что в воздухе слышался грандиозный хор голосов, певших в такт гармонии ветра и речного течения.
Хотя перед тем, как прыгнуть в воду, я не сняла свою белую тунику, сейчас она плавала вокруг меня, и получалось, что её будто не было вовсе. Как бы то ни было, поскольку Фараг с капитаном свои туники сняли, я решила, что лучше остаться одетой, даже если эта одежда не выполняет своего назначения. Если мужчины на корабле, которые зарифляют сейчас треугольный парус и крепят его к двойной мачте, увидят меня с высоты в чём мать родила, мне было абсолютно всё равно, потому что это будет не впервые и, кроме того, особого интереса это у них, похоже, не вызывало. «Как же ты изменилась, Оттавия!» — с жалостью к себе подумала я, плавая из стороны в сторону, как русалка. Я, монахиня, которая всю жизнь сидела взаперти, училась и работала под землёй в подвалах ватиканского тайного архива среди древних пергаменов, папирусов и кодексов, теперь плаваю, плещусь и ныряю в водах реки жизни на лоне дикой природы, а лучше всего то, что в нескольких метрах от меня я вижу голову мужчины, которого люблю всей душой, а он пожирает меня глазами, не решаясь подплыть поближе. «Как же ты изменилась, Оттавия!»
Для полного счастья мне не хватало только немного геля для душа и шампуня, но мне пришлось довольствоваться куском глицеринового мыла, который Кремень извлёк из своего неоценимого рюкзака с припасами, который не тронули ни ставрофилахи, ни ануаки. Когда мы поднялись на борт после купания, наша чистая и аккуратно сложенная, хоть и не выглаженная одежда ждала нас внутри смрадной каюты. Когда, уже чистая и одетая, я получила от моряков тарелку с огромной вкуснейшей рыбиной, только что пойманной в реке и зажаренной на огне, я почувствовала себя просто королевой.
В тот вечер мы уселись на палубе с капитаном Мулугетой Мариамом, и он рассказал нам, что в Антиохию мы приплывём уже к ночи. Человек он был немногословный, но то немногое, что он говорил, очень обеспокоило меня.
— Он просит, чтобы мы начали молиться задолго до начала испытания, — перевёл Фараг, — потому что его народ терпит страдания, когда приходится сжигать святого или святую.
— Каких таких святых? — спросил Кремень, не уловивший суть дела.
— Нас, Каспар. Это мы святые. Желающие стать ставрофилахами.
— Попробуйте вытянуть из него какую-нибудь информацию об этих похитителях реликвий.
— Я уже пробовал, — ответил ему Фараг, — но этот человек верит, что выполняет священную миссию, и готов умереть, прежде чем предать ставрофилахов.
— Старофилас, — почтительно проговорил капитан Мулугета. Потом посмотрел на нас и что-то спросил у Фарага, тот хохотнул.
— Он хочет побольше узнать о вас, Каспар.
— Обо мне? — удивился Кремень.
Мулугета говорил дальше. Несмотря на седые пряди в бороде, я не могла определить его возраст. Его лицо было молодым, а чёрная, гладкая, как металл, кожа блестела в свете солнца, но в его взгляде было что-то старческое, перекликающееся с крайней худобой его тела.
— Он говорит, что вы — вдвойне святой.
Я не удержалась и прыснула от смеха.
— Сумасшедший! — фыркнув, заворчал Кремень.
— И хочет знать, чем вы занимались до того, как стали святым.
Мы с Фарагом безуспешно пытались сдержать давивший нас смех.
— Скажите ему, что я солдат, и от святого во мне нет ничегошеньки! — громогласно заявил он.
Когда Фараг, делая над собой усилие, перевёл Мулугете слова Глаузер-Рёйста, тот что-то обиженно возразил. Услышав его слова, Фараг сразу окаменел.
— Каспар, снимите рубашку.
— Да что вы, профессор, тоже с ума сошли? — возмущённо рыкнул он. Меня поразило то, как изменилось настроение Фарага. — Сами снимайте!
— Пожалуйста, Каспар! Послушайте меня!
Не менее удивившись, чем я, Кремень начал расстёгивать пуговицы. Фараг очень странно склонился над ним и, опершись левой рукой на плечо капитана, нагнулся вниз, чтобы посмотреть на его спину.
— Смотри-ка, Оттавия. Мариам говорит, что Глаузер-Рёйст дважды святой, потому что ставрофилахи пометили его таким… знаком. — И он коснулся указательным пальцем спинных позвонков капитана, который походил в этот момент на разъярённого быка.
— Что за глупости вы говорите, профессор?
Точно по центру спины Кремня отчётливо виднелся шрам в форме пера, заменявший обычный крест.
— А что у тебя на спине, Фараг? — спросила я, вставая, чтобы поднять ему рубашку. В отличие от Кремня у Фарага под брёвнами пнистого креста, который мы заработали в Константинополе, на спинных позвонках был уже знакомый нам египетский крест анх. Такой же, как на теле у Аби-Руджа Иясуса.
— Аби-Рудж Иясус был эфиопом! — вырвалось у меня внезапно сделанное открытие.
— Да, — сказал Кремень, успокоившийся после того, как его рубашка снова опустилась. — А мы в Эфиопии.
— Может быть, Рай Земной где-то здесь? — задумчиво предположила я. — Может, Эфиопия — это и начало, и конец загадки?
— Уже скоро мы это узнаем, — заметил Фараг, поднимая мою блузку кверху. — У тебя тоже крест анх. Этот крест на самом деле является египетским иероглифом «анх», символом жизни.
Его рука ласково гладила мой шрам, и это было совершенно излишне, но, должна признаться, крайне приятно, а я…
— Ну конечно! — вдруг воскликнул он. — Страусовое перо! Вот что у вас на спине, Каспар! Нас пометили в Александрии крестом анх, который происходит от египетского иероглифа. Вас пометили другим иероглифом, страусовым пером, пером Маат, которое означает справедливость.
— Маат? Справедливость? — неуверенно переспросил Кремень.
— Маат — это вечный закон, правящий вселенной, — возбуждённо пояснил Фараг. — Это точность, истина, порядок и прямота. Главной обязанностью фараонов было блюсти выполнение Маат, чтобы избежать воцарения беспорядка и несправедливости. Иероглифическим символом Маат является страусовое перо. Это перо клали на одну из чаш весов Осириса во время суда над душой. На другую чашу клали сердце умершего, и, чтобы получить право на бессмертие, оно должно было весить не больше пера Маат.
— И всё это вытатуировали у меня на спине? — растерянно произнёс Кремень.
— Нет, Каспар. Только иероглиф пера Маат, — успокоил его Фараг, однако тут же наморщил лоб и добавил: — Капитан Мариам говорит, что это значит, что вы дважды святы. То есть более святы, чем мы, потому что у нас его нет.
— Всё это очень странно, — озабоченно сказала я.
Но Фараг засмеялся.
— Неужели страннее, чем всё, что происходило с нами до сих пор? Ну же, Басилея!
Но на теле Аби-Руджа Иясуса тоже не было пера Маат, а я знала, что капитан, профессиональный военный, полицейский и чёрная рука Ватикана, был единственным из нас, кто представлял реальную опасность для ставрофилахов. Разве не подозрительно, что именно его пометили иероглифом, символизирующим справедливость?
Я не смогла избавиться от этих мыслей даже тогда, когда мы взялись за подготовку последнего круга Чистилища с помощью «Божественной комедии», пока судно «Неваи» медленно подплывало к причалу Антиохии, представлявшему собой простые деревянные мостки на правом берегу Атбары.
Как и мы трое, Данте, Вергилий и присоединившийся к ним на пути к Раю Земному неаполитанский поэт Стаций приближались к своей цели. Спускалась ночь, и им нужно было торопиться, чтобы попасть в седьмой круг, круг сладострастников, до заката:
Последнего достигнув поворота,
Мы обратились к правой стороне,
И нас другая заняла забота.
Здесь горный склон — в бушующем огне,
А из обрыва ветер бьёт, взлетая,
И пригибает пламя вновь к стене;
Нам приходилось двигаться вдоль края,
По одному; так шёл я, здесь — огня,
А там — паденья робко избегая.
Вергилий неоднократно просит своего ученика очень внимательно смотреть под ноги при ходьбе, потому что любая ошибка может стать роковой. Однако Данте, не прислушавшись к его совету, услышав голоса, поющие гимн во славу чистоты, оборачивается к ним и видит толпу душ, бредущих сквозь огонь. Одна из них, разумеется, обращается к нему и спрашивает, почему через него не проходит солнечный свет:
Не только мне ответ твой будет благо:
Он этим всем нужнее, чем нужна
Индийцу или эфиопу влага.
— Это уже слишком! — воскликнул Фараг, услышав эту строфу.
— Да уж, действительно, — поддакнула я.
— Как же мы раньше не заметили? Как не догадались, когда читали всё «Чистилище» ещё в Риме?
— Когда вы всё это читали, профессор, вы хоть на минуту могли бы себе представить, в чём заключаются семь испытаний? — поинтересовался Кремень. — Глупо сейчас терзать себя этим вопросом. А если бы вместо Эфиопии это была Индия? Данте рассказывал что мог, он рисковал, потому что знал, что у него есть хорошая история, и был амбициозен, но он не был безумцем и не хотел рисковать понапрасну.
— И всё равно его убили, — съязвила я.
— Да, но он-то этого не хотел, поэтому камуфлировал информацию.
Вдалеке, там, где сходились берега Атбары, замаячила деревня Антиохия со своей пристанью. Тёплый луч заходящего солнца грел мне правое плечо, но, когда я увидела густые столбы дыма, поднимавшиеся к небу из деревни, внутри у меня всё сжалось в комок. Мне бы очень хотелось, чтобы «Неваи» развернулся и поплыл в другую сторону, но было уже слишком поздно.
Пока душа сладострастника, которым оказывается поэт Гвидо Гвиницелли, член тайного общества Верных любви, как и сам Данте, спрашивает нашего героя, почему сквозь него не проходит солнечный свет, с противоположной стороны к ним по пылающей тропе подходит ещё одна череда душ. Слушая, что говорят души из обеих групп, которые целуются и радуются встрече, Данте заключает, что одни из них — сладострастники-гетеросексуалы, а другие — сладострастники-гомосексуалы. Против обыкновения он с готовностью утешает их (быть может, потому, что снисходительно относится к этому греху, или потому, что большинство находящихся здесь — писатели, как и он), напоминая им, что осталось совсем чуть-чуть, и скоро они получат мир и Божье прощение, потому что небо полно любви.
В самом начале двадцать седьмой песни, когда день уже почти завершён, трое путников подходят к месту, где пламенем охвачена уже вся тропа. Тут им является радостный ангел Божий, побуждающий их пройти сквозь пламя, и Данте в ужасе закрывает лицо руками и чувствует себя «как тот, кто будет в недро погружён земное». Однако, видя, как он напуган, Вергилий успокаивает его:
Тогда ко мне поэты обратили
Свой взгляд. «Мой сын, переступи порог:
Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий. —
И знай, что, если б в этом жгучем лоне
Ты хоть тысячелетие провёл,
Ты не был бы и на волос в уроне».
— Для нас это тоже верно, правда? — с надеждой прервала его я.
— Не торопи события, Басилея.
Кремень хладнокровно продолжал читать, как насмерть перепуганный Данте упрямо стоит перед огнём, не решаясь ступить ни шагу, тогда Вергилий подаёт ему пример:
И он передо мной исчез в огне,
Прося, чтоб Стаций третьим шёл, доныне
Деливший нас в пути по крутизне.
Вступив, я был бы рад остыть в пучине
Кипящего стекла, настолько злей
Был непомерный зной посередине.
Мой добрый вождь, чтобы я шёл смелей,
Вёл речь о Беатриче, повторяя:
«Я словно вижу взор её очей».
Идя на голос, поющий снаружи «Блаженны чистые сердцем» и принадлежащий последнему ангелу-хранителю, который, являясь им в пламени в виде слепящего света, стирает со лба Данте последнюю букву «Ρ», они наконец выходят из огня и обнаруживают, что находятся прямо рядом с проходом в Рай Земной. Так что, счастливые и довольные, они начинают подъём. Но, пока они поднимаются, окончательно спускается ночь, и им приходится улечься на ступенях, потому что, как им говорили ещё в начале пути, по горе Чистилища нельзя подниматься ночью. Лёжа на своей ступени, Данте видит небо, усыпанное звёздами, которые «светлее, чем обычно, и крупней», и, погрузившись в их созерцание, засыпает глубоким сном.
«Неваи» развернулся в сторону причала Антиохии, а поселенцы, около ста человек, с ног до головы одетые в белое — белые туники, накидки, платки и набедренные повязки, — выкрикивали приветствия, подпрыгивали и размахивали в воздухе руками. Похоже, что возвращение Мулугеты Мариама и его товарищей было большим поводом для радости. Деревня состояла из тридцати — сорока сгрудившихся вокруг пристани домов из самана с окрашенными в яркие цвета стенами и тростниковыми крышами. На всех были чёрные, похожие на печные, трубы, торчавшие из тростника, но высокие столбы дыма, которые я видела, когда мы были ещё довольно далеко от деревни, поднимались откуда-то из-за домов, между деревней и лесом, и теперь они казались совершенно громадными, похожими на руки великанов, старающихся достать до небес.
Мы должны были вот-вот бросить якорь, но Глаузер-Рёйст не отрывался от книги.
— Капитан, мы уже приплыли, — предупредила я его, воспользовавшись одной из его кратких пауз для дыхания.
— Доктор, вы точно знаете, что ожидает вас в этой деревне? — вызывающе спросил он.
Крики детей, женщин и мужчин Антиохии доносились прямо из-за кормы судна.
— Нет, не совсем.
— Чудесно, поэтому читаем дальше. Мы не можем сойти с корабля, пока у нас не будет всей информации.
Но больше информации не было. Мы и в самом деле закончили.
В заключение Данте Алигьери рассказывает не без некоторой прекрасной меланхолии в словах, как на рассвете следующего дня он просыпается и видит, что Вергилий и Стаций уже встали и ждут его, чтобы закончить подъём по лестнице, ведущей в Земной Рай. Учитель говорит ему:
«Тот сладкий плод, который поколенья
Тревожно ищут по стольким ветвям,
Сегодня утолит твои томленья».
Данте нетерпеливо спешит наверх, и когда он наконец достигает последней ступени и видит солнце, кусты и цветы Земного Рая, его возлюбленный учитель навсегда прощается с ним:
Сказав: «И временный огонь, и вечный
Ты видел, сын, и ты достиг земли,
Где смутен взгляд мой, прежде безупречный.
Тебя мой ум и знания вели;
Теперь своим руководись советом:
Все кручи, все теснины мы прошли.
Отныне уст я больше не открою;
Свободен, прям и здрав твой дух; во всём
Судья ты сам; я над самим тобою
Тебя венчаю митрой и венцом».
— Конец, — объявил Кремень, закрывая книгу. Казалось, что каменности в нём немного поубавилось, словно он только что навсегда распрощался со старым другом. В последние месяцы Данте, лучший итальянский поэт всех времён, был неотъемлемой частью нашей жизни, и эти последние, быстро утекающие стихи резко оставляли нас в ещё большем одиночестве.
— Похоже, тут железнодорожная ветка обрывается… — проговорил Фараг. — Такое ощущение, что Данте нас бросает и мы остаёмся сиротами.
— Ну, он дошёл до Земного Рая. Достиг своей цели, добился славы и лаврового венка. Нам же… — принюхиваясь к сильному запаху дыма, сказала я, — ещё предстоит пройти последнее испытание.
— Вы правы, доктор. Вперёд! — приказал Глаузер-Рёйст, вскакивая на ноги. Но перед тем, как засунуть свой истрёпанный экземпляр «Божественной комедии» в рюкзак, я видела, как он потихоньку погладил его пальцами.
Деревня Антиохия встретила нас радостным шумом. Как только мы показались на палубе, весёлые крики, хлопанье в ладоши и приветствия стали просто оглушительными.
— Это случайно не поселение каннибалов, приветствующее долгожданный ужин?
— Фараг, не пугай меня!
Капитан Мулугета Мариам, как хозяин праздника и герой успешного плавания, словно голливудская звезда, прошёл по узкому проходу, открытому расступившейся толпой, сопровождаемый возгласами, поцелуями, толчками и объятиями. За ним шагал капитан Глаузер-Рёйст, на которого дети ануаков с робкими улыбками смотрели снизу вверх восхищёнными глазами. Он был такой светловолосый и такой высокий, что вряд ли за их короткую жизнь им представлялась возможность увидеть такой потрясающий образец мужчины. Женщины больше глазели на меня, умирая от любопытства. Наверное, немного святых женщин приплывали по Атбаре, чтобы пройти последнее испытание Чистилища, и это придавало им некоторое чувство гордости за свой пол, которое тоже светилось в их взглядах. Синие глаза Фарага производили фурор. Одна девчонка не старше четырнадцати-пятнадцати лет, подталкиваемая подругами того же возраста, подскочила к нему и потянула его за бороду. Казанова был в восторге и весело рассмеялся.
— Видишь, что бывает, когда не бреешься? — шепнула ему я.
— Наверное, не буду бриться больше никогда!
Я легонько пнула его в бок правым локтем, но он ещё больше развеселился… Что за наказание!
Старейшина деревни, Берехану Бекела, мужчина с огромными отвислыми ушами и большущими зубами, приветствовал нас со всеми почестями. Одна из них заключалась в торжественном повязывании нам на шею нескольких кусков белой ткани, из которых получилась толстая и тёплая туника, очень подходящая для такой погоды. После этого по заданной пристанью прямой нас провели в самый центр земляной насыпи, вокруг которой стояли дома, ярко освещённые факелами, привязанными к длинным забитым в землю шестам. Придя туда, Берехану выкрикнул какие-то непонятные слова, и люди разразились оголтелыми криками, которые прекратились лишь тогда, когда старейшина поднял руки вверх.
За несколько секунд насыпь наполнилась табуретками, ковриками и подушками, и все расселись по местам, готовясь накинуться на горы еды, которые на деревянных подносах выносили из ближайших домов. Они перестали обращать на нас внимание и сосредоточились на горках мяса, подаваемых на больших зелёных листьях, как на растительных тарелках.
Берехану Бекела с семьёй в знак почтения сами подали нам то, что нужно было съесть (мне это напомнило горку сырого мяса), и выжидательно смотрели, что мы будем делать.
— Инжера, инжера! — сказала мне симпатичная девчушка лет трёх, усевшаяся рядом со мной.
Мулугета что-то сказал Фарагу, и он серьёзно взглянул на нас с капитаном.
— Нам придётся это съесть, даже если нам кажется, что это жуткая гадость. Если этого не сделать, мы жестоко обидим старейшину и всю деревню.
— Слушай, не говори глупости! — не выдержала я. — Я не собираюсь есть сырое мясо!
— Басилея, не спорь, а ешь.
— Но как я могу съесть эти куски неизвестно чего? — в отчаянии воскликнула я, беря в пальцы что-то похожее на чёрную пластмассовую трубку.
— Ешьте! — процедил сквозь зубы Глаузер-Рёйст, засовывая горсть этого в рот.
По мере того как среди поселенцев, подобно Атбаре, струилось бутылочное пиво, праздник разгорался. Девочка не отрываясь смотрела на меня, и её большие чёрные глаза придали мне сил, чтобы раскрыть дрожащие губы и очень медленно поднести к ним горсть сырого мяса. Сдерживая желание вырвать, я, как могла, пожевала и почти целиком проглотила кусок почки антилопы. Потом я осилила часть желудка, который показался мне упругим и по вкусу более мягким, чем почка. Под конец я одолела маленький кусочек ещё тёплой печени, которая выпачкала мне подбородок и уголки рта кровью. Судя по всему, эфиопам эти лакомства были по душе; для меня это стало худшим моментом в жизни, одним из тех, которые не забудешь никогда, сколько бы ни прошло лет. Я залпом выпила одну из бутылок пива и покончила бы и со следующей, если бы Фараг не придержал меня за локоть.
Праздник растянулся ещё надолго. Когда еда кончилась, группа девушек, среди которых была и та, что дёрнула Фарага за бороду, вышла в круг и начала очень необычный танец, в котором они беспрестанно двигали плечами. Это было невероятно! Я никогда не поверила бы, что можно так двигаться, с такой бешеной скоростью и таким поразительным образом, словно у них вывихнуты все суставы. Вместо музыки была простая мелодия, отбиваемая одним барабаном, к которому потом прибавился другой, потом ещё и ещё, пока весь ритм не стал каким-то гипнотическим, и из-за него и из-за выпитого пива у меня всё поплыло перед глазами. Девочка, похоже, решила меня удочерить. Она встала с земли и уселась на мои по-турецки сведённые ноги, будто я — удобное кресло, а она — маленькая королева. Забавно было смотреть, как она придерживала и аккуратно поправляла закрывавшую ей волосы доходившую до пояса накидку, поэтому в конце концов я сама то и дело натягивала её на место, потому что белое полотно никак не хотело сидеть на её чёрных кучерявых волосах. В конце, когда танцовщицы исчезли, она оперлась спиной на мой живот и уселась так, как будто я на самом деле стала её троном. И тогда моё сердце пронзило воспоминание о моей племяннице Изабелле. Как бы мне хотелось, чтобы она была здесь, со мной, как эта девочка! Из затерянной эфиопской деревни, залитой светом растущего месяца и факелов, мой разум устремился к Палермо, и я поняла, что вернусь домой, что рано или поздно мне придётся вернуться, чтобы попытаться изменить положение вещей, и, хоть у меня ничего и не выйдет, моя совесть обязывала меня дать им последний шанс перед тем, как уйти навсегда. Укоренившееся чувство принадлежности к клану, привитое мне матерью, клану с таким же племенным устройством, как у ануаков, не давало мне просто перерубить концы, хоть я и знала, какая ничтожная семья выпала мне на долю.
Когда барабаны умолкли и танцовщицы покинули сцену, в воцарившейся глубочайшей тишине к центру площади неторопливо направился Берехану Бекела. Даже дети перестали шалить и ёрзать на местах и побежали к матерям, чтобы тихонько и неподвижно застыть рядом с ними. Повод был торжественным, и у меня сильно забилось сердце, предчувствуя, что вот-вот начнётся настоящий праздник.
Берехану произнёс длинную речь, в которой, как шёпотом объяснил нам Фараг, говорилось про древнейшие связи ануаков со ставрофилахами. Синхронный перевод Мулугеты и Фарага оставлял желать лучшего, но попросить заменить переводчиков мы не могли, так что нам с Кремнем пришлось довольствоваться половинчатыми фразами и словами.
— Старофилас, — говорил Берехану, — пришли по Атбаре сотни лет назад на больших кораблях… ануаки слово Бога. Эти люди… веру и научили нас двигать камни, обрабатывать… производить пиво и строить корабли и дома.
— Ты уверен, что он это сказал? — шепнула я.
— Да, не перебивай, а то я не слышу Мариама.
— Тогда, честно говоря, не понимаю, почему они покупают пиво в бутылках.
— Оттавия, замолчи!
— Старофилас сделали нас христианами, — продолжил старейшина, — и научили нас всему, что мы знаем. Взамен они попросили нас только… свою тайну и привозить святых из Египта в Антиохию. Мы, ануаки, выполнили… что Мулуалем Бекела дал от имени нашего народа. Сегодня трое святых… по водам Атбары, реки, данной Богом… мы отвечаем за то… и старофилас ждут, что мы выполним наш долг.
Все вдруг оглушительно захлопали в ладоши, а человек пятнадцать — двадцать молодых людей вскочили и как сумасшедшие побежали мимо домов, скрывшись в темноте.
— Так пусть же мужчины уготовят дорогу святым, — с запозданием перевёл Фараг.
Под бой барабанов все пустились в пляс, и посреди праздника какие-то руки подхватили Фарага, Кремня и меня, разделили нас и потащили в разные дома готовить к предстоящей церемонии. Похитившие меня женщины сняли с меня сандалии и брюки, а потом блузку и нижнее бельё, оставив меня абсолютно голой. Потом они оросили меня водой с помощью веника из веток и вытерли льняным полотном. Одежда моя исчезла, так что мне пришлось довольствоваться рубахой, разумеется, белого цвета, которая, слава Богу, доходила мне до колен. Обувь мне тоже не вернули, так что, выйдя из дома, я шла как по булавкам. Я не очень утешилась, увидев, что Фараг с капитаном выглядят так же жалко, как и я. Но меня удивила моя собственная реакция при виде Фарага, я ещё не привыкла к странным реакциям моих гормонов: я не могла отвести глаз от его смуглой, освещённой светом факелов кожи, от его рук с длинными мягкими пальцами, которые отбрасывали с лица светлые пряди волос, от его высокого, стройного тела, и когда наконец наши взгляды встретились, внутри у меня всё перевернулось. Что они подмешали к этому жуткому мясу за ужином?
Под крики и барабанный бой нас провели по тёмным улицам к месту, откуда поднимались дымовые столбы и где сейчас виднелся страшный пурпурный отблеск. Ночное небо было усыпано звёздами, и глядя на него с той острой чувствительностью, которую порождает страх, я заметила, что они «светлее, чем обычно, и крупней», как видел их и Данте, лёжа на ступенях ведущей к Земному Раю лестницы. Чтобы успокоить меня, Фараг взял меня за руку и легонько сжал её, но при виде стольких приготовлений и от такого количества барабанов страх подорвал мой дух, и я чувствовала себя как Иисус, идущий Крестным Путём с Крестом на плечах. С тем ли Честным Древом, которое по кусочкам собирали ставрофилахи? Нет, точно нет. Но из-за него, хоть оно и было ненастоящим, мы были здесь, и я чувствовала, как дрожат у меня ноги, как стекает по коже пот и стучат зубы.
Наконец мы дошли до новой насыпи, вокруг которой молча стояли жители Антиохии. На нескольких огромных кострах в снопах искр догорали последние поленья, а убежавшие в конце речи Берехану Бекелы юноши с помощью длинных острых копий сооружали на земле толстое кольцо из углей. Они разбивали большие куски копьями и сглаживали поверхность кольца толщиной около двадцати сантиметров и шириной четыре-пять метров. Но пока ещё оставался непокрытый углями коридор, по которому можно было дойти до центра кольца, и, когда Мулугета Мариам обратился к Фарагу, я и без перевода поняла его слова: в этот миг Мулугета был радостным ангелом Божьим, являющимся Данте в седьмом кругу и говорящим, что ему нужно войти в огненный проход.
Я была так напугана, что едва могла дышать, поэтому сильнее сжала руку Фарага и уткнулась щекой в его плечо. Я действительно чувствовала себя, «как тот, кто будет в недро погружён земное».
— Держись, моя радость! — храбро прошептал мне он, погружая нос мне в волосы и легонько целуя их.
— Фараг, мне так страшно! — заплакала я, закрывая глаза и разражаясь целым потоком слёз.
— Послушай, солнышко, мы пройдем это испытание так же, как прошли все остальные. Не бойся, Оттавия! — Но я была безутешна, стук зубов сдержать было невозможно. — Басилея, родная, помни, что всегда есть какой-то выход!
Но при взгляде на это огромное огненное кольцо выход казался скорее выдумкой, чем реальностью. Я могла признать, что так или иначе, в большей или меньшей степени была виновна в шести предыдущих смертных грехах, но никак не была готова смириться с тем, что должна умереть из-за греха сладострастия, в котором я никак не была повинна вплоть до сегодняшнего дня. И, кроме того, если я умру в огне, я никогда не смогу как следует согрешить против шестой заповеди, совершив с Фарагом те самые нечистые дела, о которых так много говорят люди.
— Я не хочу умирать! — застонала я, прижимаясь к нему.
Глаузер-Рёйст тихо подошёл к нам сзади.
— «Мой сын, — продекламировал он, — переступи порог: здесь мука, но не смерть. И знай, что если б в этом жгучем лоне ты хоть тысячелетие провёл, ты не был бы и на волос в уроне».
— Да ну, капитан! — с горечью воскликнула я.
Мулугета Мариам повторил свои слова. Мы не могли стоять здесь всю ночь; надо было пройти по коридору.
Опираясь на крепкую руку Фарага, я пошла, как осуждённый на виселицу. В двух метрах от углей жар был уже настолько нестерпим, что я ощущала, как он обжигает мне кожу. Как только мы ступили в ведущий к центру проход, я почувствовала, что горю в буквальном смысле этого слова и что кровь у меня сейчас закипит. Жар был невыносимый. Бороды у Кремня и Фарага мягко колыхались, распаляясь в горячем воздухе, и от красного искрящегося озера вокруг нас исходил глухой рокот.
Наконец мы дошли до центра круга, и, как только мы там оказались, подготовившие всё это юноши закрыли проход ещё одной грудой углей, которые они снова разбросали и разровняли с помощью копий. Как животные, загнанные в угол, мы с Фарагом и Кремнем растерянно смотрели на далёкий круг, которым стояли ануаки на расстоянии нескольких метров от кольца углей. Они казались бесстрастными призраками, безжалостными судьями, озаряемыми адским пламенем. Никто не двигался, никто не дышал, и ещё больше застыли мы, чувствуя в лёгких обжигающий воздух.
Внезапно из толпы послышалось странное пение, примитивный ритм, который я сначала не могла ясно различить из-за треска раскалённого докрасна дерева. Это была одна музыкальная фраза, которую они всё время без устали медленно и вдумчиво повторяли, как литанию. Обвивавшие мне сзади плечи руки Фарага напряглись, словно стальные канаты, а Кремень нервно переступил босыми ногами. Крик Мулугеты Мариама вернул нас к действительности. Фараг сказал:
— Мы должны пройти сквозь огонь. Если мы этого не сделаем, нас убьют.
— Что? — в ужасе воскликнула я. — Нас убьют?.. Этого нам не сказали! Ведь невозможно пройти по этому! — И я посмотрела на слой начинавших сверху чернеть углей.
— Пожалуйста, подумайте, — взмолился Кремень. — Если дело просто в том, чтобы побежать, я сделаю это прямо сейчас, хоть и умру от ожогов третьей степени по всему телу. Но прежде чем покончить жизнь самоубийством, я хочу точно знать, что никакой другой возможности нет, что в ваших мозгах нет ничего, что могло бы нам помочь.
Я повернулась, чтобы заглянуть в лицо Фарагу, который тоже немного нагнулся, чтобы посмотреть на меня, и, пока мы смотрели друг на друга, наш разум за десятые доли секунды прокрутил всё то, чему мы научились за годы жизни. Но нет, никакой информации о странном хождении по огню там не было. В подтверждение этого на наших лицах постепенно отразилось полнейшее отчаяние.
— Мне очень жаль, Каспар, — извинился Фараг. Мы сильно потели, но пот мгновенно испарялся. Если мы останемся здесь, чтобы умереть, нам не понадобится помощь ануаков, мы умрём и сами, от обезвоживания.
— У нас есть только Дантов текст, — с горечью пробормотала я, — но я не помню ничего, что могло бы нам помочь.
Воздух прорезал резкий свист, и одно из копий, которыми раньше разравнивали угли, вонзилось прямо между моих ног. Я думала, сердце у меня остановится.
— Господи! — свирепо крикнул Фараг. — Оставьте её в покое. Цельтесь в нас!
Монотонное песнопение толпы стало громче и слышнее. Мне показалось, что пели они по-гречески, но я подумала, что это галлюцинация.
— Дантов текст, — задумчиво повторил Кремень. — Быть может, разгадка в нём.
— Но, капитан, когда Данте входит в огонь, он говорит только, что готов облиться кипящим стеклом, чтобы освежиться от жара.
— Это да…
Снова послышался свист, он опасно приближался, и капитан остановился на полуслове. В землю воткнулось ещё одно копьё, на этот раз попав в небольшое пространство между тремя парами наших беззащитных ног. Фараг обезумел и стал выкрикивать массу арабских ругательств, которые я, к счастью, не поняла.
— Они ещё не хотят нас убивать! — возбуждённо сказал он наконец. — Иначе они бы это уже сделали! Они просто подгоняют нас, чтобы мы начинали!
Музыкальная фраза зазвучала сильнее. Теперь ясно можно было различить голоса ануаков. «Макариои хои казарои ти кардиа».
— «Блаженны чистые сердцем»! — воскликнула я. — Они поют по-гречески!
— Это же пел и ангел, когда Данте, Вергилий и Стаций были в огне, правда, Каспар? — спросил Фараг и, поскольку Кремень, онемевший после второго копья, только кивнул, сам продолжил: — Разгадка должна быть в Дантовых терцетах! Помогите нам, Каспар! Что Данте пишет об огне?
— Ну… ну… — промямлил Кремень. — Чёрт побери, ничего он не пишет! Ничего! — в отчаянии выкрикнул он. — Единственное, что отводит огонь, это ветер!
— Ветер? — Фараг наморщил лоб, пытаясь припомнить.
— «Здесь горный склон — в бушующем огне, а из обрыва ветер бьёт, взлетая, и пригибает пламя вновь к стене», — прочёл он.
У меня в голове образовался странный, похожий на мультипликационное изображение образ: быстро опускающаяся и рассекающая воздух нога.
— Ветер бьёт и пригибает пламя… — задумчиво пробормотал Фараг, но тут новое копьё прорвало красноватый отблеск углей, чтобы вонзиться как раз перед пальцами правой ноги дважды святого, который подскочил чуть не на метр.
— Чёрт бы их побрал! — ругнулся он.
— Послушайте! — взволнованно крикнул Фараг. — Придумал! Я знаю, как это сделать!
— Макариои хои казарои ти кардиа, — снова и снова громко и торжественно пели жители Антиохии.
— Если шагать, очень-очень сильно впечатывая ногу, под подошвой образуется воздушная подушка, и горение на несколько секунд прервётся! Бьющий с обрыва ветер пригибает пламя. Вот что говорил нам Данте!
Кремень неподвижно стоял, пытаясь переварить эту идею в своей упрямой голове. Но я сразу всё поняла, это простая игра прикладной физики: если нога с большой силой падает с высоты и ударяет об угли, на кратчайший промежуток времени собравшийся под ступнёй воздух, уловленный огненным сапогом, который образуют вокруг ноги угли, не даст образоваться ожогам. Но для этого нужно, как сказал Фараг, очень-очень сильно впечатывать ногу и делать это быстро, не отвлекаясь и не сбавляя ритм, потому что в таком случае уже ничто не помешает коже обуглиться, и жар в один миг спалит плоть. Конечно, это было очень рискованно, но это единственный вариант, подходящий под указания Данте Алигьери, и в любом случае наша единственная идея. К тому же время истекло. Это криками сообщил нам Мулугета Мариам, стоявший рядом со старейшиной Берехану Бекелой.
— Ещё нужно стараться не упасть, — прибавил Кремень, до которого наконец дошло, что говорил Фараг. — «Так шёл я: здесь — огня, а там — паденья робко избегая», — пишет Данте. Не забывайте. Если от боли или по какой-то другой причине вы ослабеете и споткнётесь, вы заживо сгорите.
— Я пойду первым! — заявил Фараг, склоняясь ко мне и целуя меня в губы, чтобы не дать мне возразить. — Ничего не говори, Басилея, — прошептал он мне на ухо, чтобы не слышал Кремень. И добавил: — Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю…
Он повторял это без конца, пока я не улыбнулась, и тогда резко отпустил меня и бросился в огонь с криком:
— Смотри, Басилея, и не повторяй моих ошибок!
— Господи! — истошно завопила я, протягивая к нему руки и умирая от горя. — Нет, Фараг, нет!
— Успокойтесь, доктор! — поспешил сказать мне Кремень, удерживая меня за плечи.
Фигура Фарага превратилась в яркий красный отблеск, который шёл по огню, ритмично и сильно отбивая шаг. Я не могла на это смотреть. Я зарыла лицо на груди у Кремня, он обнял меня, и я расплакалась, как не плакала никогда, заходясь такими рыданиями, с такой болью и тоской, что не расслышала, как капитан Глаузер-Рёйст крикнул:
— Он прошёл, доктор! У него получилось! Доктор Салина! — Я почувствовала, что меня трясут, как тряпичную куклу. — Смотрите, доктор Салина, смотрите! Он прошёл!
Плохо понимая, что говорит капитан, я подняла голову и увидела, как Фараг машет мне рукой и делает знаки с другой стороны кольца.
— Он жив, Боже мой! — взвизгнула я. — Слава тебе, Господи! Спасибо! Фараг, ты жив!
— Оттавия! — крикнул он, и на моих глазах без памяти рухнул на землю.
— Он обгорел! — закричала я. — Он обгорел!
— Ну же, доктор! Теперь наша очередь!
— Что? — промямлила я, но, не дав мне опомниться, Кремень схватил меня за руку и потащил к углям. Но тут воспротивился мой инстинкт самосохранения, и я резко упёрлась ногами в землю и затормозил.
— Вот так и надо шагать! — сказал Глаузер-Рёйст, которого моя резкая остановка вовсе не смутила. Наверное, близость углей заставила меня действовать, потому что я подняла ногу и изо всех сил впечатала её в жар.
Жизнь остановилась. Мир прекратил вечное вращение, и Природа умолкла. Я тихо вошла в нечто вроде белого туннеля, в котором смогла на собственном опыте убедиться, что Эйнштейн был прав, когда говорил, что пространство и время относительны. Я посмотрела на ноги и увидела, что одна из них чуть погружена в белые холодные камни, а другая поднимается в замедленной съёмке, чтобы сделать следующий шаг. Время растеклось, растянулось, позволяя мне неспешно следить за этой странной прогулкой. Моя вторая нога, как бомба, рухнула на разлетевшиеся во все стороны камешки, но первая уже начала медленный подъём, и я видела, как вытягиваются мои пальцы, как расширяется стопа, чтобы оказать большее сопротивление каменистому ложу. Теперь она очень тихо опустилась, но так, что, врезавшись в землю, вызвала ещё одно гигантское землетрясение. Я улыбнулась. Улыбнулась, потому что летела, ибо за секунду до того, как одна моя нога ударилась о поверхность, вторая уже поднялась, и я повисла в воздухе.
Всё время, что длилось это невероятное действо, я не могла стереть с лица выражение восторга. Я сделала всего десять шагов, но это были самые длинные десять шагов в моей жизни и самые удивительные. Но белый туннель резко оборвался, я попала в действительность, и воздух толкнул меня на землю. Гремели барабаны, стояли оглушительные крики, земля прилипала к моим рукам и ногам и царапала меня. Я нигде не видела Фарага и Глаузер-Рёйста, хотя мне показалось, что, как и меня, где-то рядом кого-то накрывали большим белым полотном и быстро уносили куда-то в другое место. Меня замотали в сплошной полотняный валик, и сотни рук подняли меня на воздух среди громоподобных криков. Потом меня сбросили на пружинящую поверхность и размотали. Я была в полном замешательстве, вся липкая от собственного пота и такая обессиленная, как никогда раньше. Кроме того, мне было ужасно холодно, и меня била сильная дрожь, будто я вот-вот до смерти замёрзну. Но, несмотря на это, мне показалось, что две женщины, подавшие мне большой стакан воды, не были ануаками из Антиохии. Хотя бы потому, что у них были светлые волосы и прозрачная кожа, а у одной из них к тому же зелёные глаза.
Выпив из стакана жидкость, которая даже по вкусу не напоминала воду, я заснула глубоким сном и больше ничего не помню.
Из тенет сна я выпутывалась постепенно, очень медленно покидая глубокое забытье, в которое погрузилась после прохода сквозь ужасное огненное кольцо. Я ощущала расслабленность, мне было хорошо, и меня заполняло невероятное ощущение блаженства. Первым из моих чувств пробудилось обоняние. Приятный запах лаванды дал мне понять, что я уже не в деревне Антиохия. Я в полудреме улыбнулась, радуясь этому знакомому, приятному запаху.
Вторым пришёл в себя слух. Около меня слышались женские голоса, говорившие шёпотом, приглушённо, чтобы не потревожить мой сон. Однако, ещё не раскрывая глаз, я прислушалась и безмерно удивилась, поняв, что — о, неосуществимое желание! — впервые за свою долгую жизнь исследователь византийского греческого языка имеет величайшую честь слышать его в живой речи.
— Надо её разбудить, — шептал один из голосов.
— Ещё нет, Заудиту, — ответил другой. — И, будь добра, выйди отсюда и больше не шуми.
— Но Тафари сказал, что остальные двое уже обедают.
— Чудесно, пусть обедают. А девушка будет спать столько, сколько захочет.
Конечно, я тут же открыла глаза, и ко мне вернулось зрение, третье из моих чувств. Поскольку я лежала на боку, повернувшись к стене, первым, что я увидела, был красивый бордюр с флейтистами и танцовщиками, написанный альфреско на гладкой стене. Среди блестящих, насыщенных красок выделялись великолепные детали, выписанные золотом, а в цветовой гамме преобладали румяно-коричневый и бордовый тона. Или я умерла и нахожусь на небесах, или грежу наяву, с открытыми глазами. И тут я поняла: я в Земном Раю.
— Видишь?.. — прозвучал голос той, что хотела дать мне поспать. — Всё ты со своей болтовнёй! Уже разбудила!
Я лежала к ним спиной и не пошевелила ни одной мышцей. Откуда они узнали, что я их слышу? Одна из них склонилась надо мной:
— Хигейя[69], Оттавия.
Я очень медленно повернула голову и очутилась лицом к лицу с белокожей женщиной среднего возраста с собранными в узел седоватыми волосами. Глаза у неё были зелёными, и поэтому я её узнала: это была одна из женщин, которые поили меня в деревне Антиохия. Её рот был растянут в милую улыбку, от которой у губ и глаз появлялись морщинки.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила она меня.
Я собиралась открыть рот, но тут поняла, что никогда не пользовалась византийским греческим, так что мне пришлось делать быстрый перевод с языка, который я знала только в двух измерениях, в письменном виде, на язык, который можно превратить в живую речь и реально озвучить. Попытавшись что-то сказать, я поняла, как плохо я это делаю.
— Очень хорошо, спасибо, — заикаясь и запинаясь на каждом слоге, сказала я. — Где я?
Женщина выпрямилась, чтобы дать мне сесть на кровати. Тогда моё четвёртое чувство, осязание, обнаружило, что укрывавшие меня простыни были из тончайшего шёлка, мягче и нежнее, чем тафта и атлас. При движении я чуть не скользила в них.
— В Ставросе, столице Парадейсоса[70]. А эта комната, — оглядываясь кругом, сказала она, — одна из комнат для гостей в басилейоне[71] Катона.
— Значит, — заключила я, — я нахожусь в Земном Раю ставрофилахов.
Женщина улыбнулась, и вторая, помоложе, которая пряталась за её спиной, тоже заулыбалась. На обеих были широкие белые туники, закреплённые на плечах фибулами и подпоясанные на талии лентами. Белизна этой одежды была несравнима с цветом одежд ануаков, которые рядом с нею показались бы грязными и серыми. Всё в этом месте было красивым той изысканной красотой, которая никого не могла бы оставить равнодушным. Алебастровые чаши, стоявшие на одном из чудесных деревянных столов, были столь великолепны, что блестели при свете освещавших комнату бесчисленных свечей, а полы в комнате были покрыты яркоцветными коврами. Повсюду стояли удивительно большие и красивые цветы, но больше всего меня поразило то, что стены были снизу доверху расписаны настенной живописью в римском стиле с нарядными сценками, по-моему, изображавшими обыденную жизнь Византийской империи XIII–XIV веков нашей эры.
— Меня зовут Гайде, — представилась женщина с зелёными глазами. — Если хочешь, можешь ещё немного полежать в постели и полюбоваться убранством комнаты, которое, как вижу, тебе очень по душе.
— Мне очень нравится! — с восхищением подтвердила я. В этой комнате была собрана вся византийская роскошь, изысканный вкус и искусность, и это была чудесная возможность из первых рук узнать о том, о чём я всегда только догадывалась на основе неточных репродукций в книжках. — Однако, — добавила я, — я хотела бы увидеть своих товарищей. — Мой широкий словарный запас на этом языке, которым я всегда так гордилась, теперь оказался обидно скудным, так что вместо «товарищи» я сказала «соотечественники» («симпатриотес»). Но, похоже, они меня поняли.
— Дидаскалос[72] Босвелл и протоспатариос[73] Глаузер-Рёйст обедают с Катоном и двадцатью четырьмя шастами.
— С шастами? — удивлённо переспросила я. Шаста — это слово из санскрита, означающее «мудрец», «почтенный человек».
— Шасты — это… — Гайде задумалась, подбирая подходящие слова, чтобы объяснить такой неофитке, как я, столь сложную идею, которую воплощала эта должность у ставрофилахов, — …помощники Катона, хотя их функция не совсем в этом. Тебе лучше набраться терпения в учёбе, юная Оттавия. Не торопись. В Парадейсосе время есть.
Пока она это говорила, Заудиту, девушка, которая так много говорила раньше и хранила молчание теперь, открыла в стене какие-то дверцы и достала из скрытого настенными картинами шкафа такую же тунику, как и те, что были надеты на них, и положила её на красивый стул резного дерева, который был настоящим произведением искусства. Потом она открыла ящик, прятавшийся под столешницей одного из столов, достала из него шкатулку и аккуратно положила её мне на колени, ещё укрытые простынёй. К моему удивлению, в украшенной эмалями шкатулке находилась потрясающая коллекция брошек из золота и драгоценных камней, стоивших целое состояние не только из-за использованных в них материалов, но и из-за явно византийской тонкой работы и рисунка. Ювелир, создавший эти чудеса, наверняка был мастером высочайшего класса.
— Выбери одну или две, как хочешь, — робко сказала Заудиту.
Как выбрать из таких красивых вещей, если я к тому же никогда не пользовалась украшениями?
— Нет, нет. Спасибо, — поспешила улыбнуться я.
— Тебе не нравятся? — удивилась она.
— Да нет, конечно, нравятся! Но я не привыкла носить такие дорогие вещи.
Я чуть не сказала ей, что я монахиня и дала обет бедности, но вовремя вспомнила, что это уже в прошлом.
Заудиту растерянно обернулась к Гайде, но та не видела происходящего. Она спокойно разговаривала с кем-то, стоявшим по ту сторону дверей, поэтому Заудиту взяла шкатулку и положила её на ближайший столик. В этот момент послышались нежные звуки лиры, наигрывавшей праздничную мелодию.
— Это Тафари, лучший лироктипос[74] Ставроса, — с гордостью произнесла Заудиту.
Гайде вернулась плавным шагом. Позже я заметила, что так ходят все жители Парадейсоса, и в Ставросе, и в Круцисе, и в Эдеме, и в Лигнуме[75].
— Надеюсь, тебе нравится такая музыка, — заметила Гайде.
— Очень, — призналась я. Тут я поняла, что не имею ни малейшего представления о том, какой сегодня день. Столько событий, я совсем потеряла ощущение времени.
— Сегодня восемнадцатое июня, — ответила мне Гайде. — День воскресения Господня.
Воскресенье, восемнадцатое июня! Чтобы добраться сюда, у нас ушло три месяца, и прошло уже больше пятнадцати дней, как нас считают пропавшими.
— Она не хочет брать фибулы, — озабоченно вмешалась Заудиту. — Как она закрепит гиматион[76]?
— Не хочешь брать фибулы? — удивилась Гайде. — Но без них нельзя, Оттавия!
— Они… Они слишком… Я никогда не ношу таких вещей, я не привыкла.
— А как ты собираешься закрепить гиматион, интересно знать?
— Чего-нибудь попроще у вас нет? Булавок, иголок?.. — Я понятия не имела, как сказать «английская булавка».
Гайде и Заудиту растерянно переглянулись.
— Гиматион носят только с фибулами, — наконец заявила Гайде. — Его можно по-разному закрепить: одной или двумя фибулами, как тебе больше нравится, но булавками на плече его никто не крепит. Они не выдержат твоих движений и веса ткани и в конце концов её порвут.
— Но эти фибулы слишком роскошные!
— Так проблема в этом? — спросила Заудиту, на лице которой было написано полнейшее непонимание.
— Ладно, Оттавия, об этом не беспокойся, — положила конец разговору Гайде. — Потом поговорим. Пока выбери фибулы и сандалии и идём в трапезную. Я послала Рас предупредить, чтобы тебя подождали. Кажется, дидаскалос Босвелл ждёт не дождётся, когда ты появишься.
А я жду не дождусь, когда увижу его! Поэтому я соскочила с кровати, выбрала пару самых красивых фибул — одну с львиной головой, глаза которой были сделаны из потрясающих рубинов, а другую, похожую на камею, с изображением водопада, — и начала через голову снимать длинную сорочку, в которой спала.
— Боже, мои волосы! — по-итальянски воскликнула я, вдруг застыв на месте.
— Что ты сказала? — спросила Заудиту.
— Мои волосы, мои волосы! — повторила я, снова роняя сорочку вдоль тела и лихорадочно ища зеркало. На одной из боковых стен рядом с дверью висело зеркало в полный рост в серебряной раме. Я бросилась к нему, и кровь застыла у меня в жилах, когда я увидела свою совершенно лысую голову, как у больных раком, теряющих волосы от химиотерапии. Не в силах поверить собственным глазам, я поднесла руки к черепу и дотронулась до него, безуспешно пытаясь найти несуществующие пряди волос. При этом я что-то нащупала кончиками пальцев и одновременно почувствовала острую боль, поэтому я чуть нагнула шею вперёд, чтобы увидеть макушку, и он был там: в самом центре, наверху, у меня был такой же, как у Аби-Руджа Иясуса, шрам в виде большой буквы «сигма».
Всё ещё в остолбенении, не в силах отреагировать на слова утешения Гайде и Заудиту, я снова подняла сорочку и сняла её, оказавшись нагой перед своим отражением. На моём теле было ещё шесть греческих заглавных букв: на правой руке — «тау»; на левой — «ипсилон»; на сердце, между грудей — «альфа»; на животе — «ро»; на правой ноге — «о микрон»; а на левой — ещё одна «сигма», как на голове. Если прибавить к ним полученные мною во время испытаний кресты и большую христограмму Константина в районе пупка, получалась несчастная больная на голову, которая истерзала себе всё тело.
Но рядом со мной в зеркале вдруг появилась тоже обнажённая Гайде, а мгновение спустя и Заудиту. У обеих были такие же отметины, как у меня, только давно зажившие. На столь великодушный поступок надо было как-то ответить.
— Это пройдёт… — пробормотала я, чуть не плача.
— Твоё тело не подверглось страданиям, — спокойно утешила меня Гайде. — Перед тем, как нанести порез, всегда убеждаются в том, что сон глубок. Посмотри на нас. Разве мы такие ужасные?
— По-моему, это очень красивые знаки, — с улыбкой заметила Заудиту. — Мне очень нравятся шрамы на теле у Тафари, а ему мои. Видишь этот? — Она указала на вырезанную между грудей букву «альфа». — Посмотри, как аккуратно он сделан, у него идеальные края: плавные, точёные.
— И не забудь, что эти буквы, — подхватила Гайде, — образовывают слово «Ставрос», которое всегда будет с тобой, где бы ты ни была. Это важное слово, а значит, важные буквы. Вспомни, какой дорогой ценой они тебе достались, и гордись ими.
Они помогли мне одеться, но я никак не могла выбросить из головы моё покрытое шрамами тело и мою облысевшую голову. Что скажет Фараг?
— Может, тебе будет легче, если ты узнаешь, что дидаскалос и протоспатариос сейчас выглядят так же, как ты, — заметила Заудиту. — Но, кажется, им это не противно.
— Они мужчины! — возразила я, пока Гайде завязывала ленту у меня на поясе.
Обе они понимающе переглянулись и постарались скрыть выражение терпеливого смирения на лицах.
— Может, на это потребуется какое-то время, Оттавия, но ты поймёшь, что проводить такие различия глупо. А теперь идём. Тебя ждут.
Я решила смолчать и последовать за ними из комнаты, не переставая удивляться тому, какими современными оказались ставрофилахи. За дверью начинался широкий, украшенный гобеленами, креслами и столиками коридор, выходивший в заполненный цветами центральный дворик, в котором виднелся красивый фонтан, выбрасывавший в воздух мощные струи воды. Хотя я попыталась выглянуть, чтобы увидеть небо, я смогла различить только странные чёрные тени на таком громадном расстоянии, что не смогла определить высоту. И тогда я поняла, что сюда не попадает свет настоящего солнца, что солнца нигде нет и что то, что нас освещает, — вовсе не естественного происхождения.
Мы прошли через множество похожих на первый коридоров и через новые засаженные цветами дворики, украшенные фонтанами с самыми невероятными приспособлениями. Их звук действовал расслабляюще, как журчание прыгающего по камням ручейка, но я начинала нервничать, потому что, обращая внимание на всё окружающее, я замечала тысячи подозрительных мелочей, которые указывали на то, что в этом месте есть что-то очень странное.
— Где именно находится Парадейсос? — спросила я своих молчаливых спутниц, которые неторопливо шли передо мной, иногда заглядывая в дворики, распрямляя скатерти на столиках или поправляя волосы. Вместо ответа они весело рассмеялись.
— Ну и вопрос! — весело вырвалось у Заудиту.
— А как ты думаешь, где ты? — ответила Гайде таким тоном, как если бы разговаривала с маленькой девочкой.
— В Эфиопии? — предположила я.
— А как тебе кажется, а? — спросила она, словно ответ настолько очевиден, что вопросы излишни.
Мои провожатые и учителя остановились перед внушительного размера и ещё более внушительного вида дверями, которые тут же настежь распахнулись. По другую сторону дверей находился просторный зал, богато украшенный всем, что я до сих пор видела в басилейоне, а в центре стоял громадный круглый стол, который напомнил мне легенду о круглом столе короля Артура.
Фараг Босвелл, самый лысый дидаскалос, какого я когда-либо встречала, увидев меня, одним прыжком вскочил (все остальные присутствующие тоже поднялись, но уже спокойнее) и, протягивая руки, бросился ко мне, путаясь в складках своей туники. При виде его у меня образовался комок в горле, и я забыла обо всём окружающем. Да, ему обрили волосы, но его светлая борода была той же длины, что и раньше. Я прижалась к нему, чувствуя, что мне не хватает воздуха, ощущая, как его горячее тело прижимается к моему, и вдыхая его запах, не запах гиматиона, нежную сандаловую отдушку, а знакомый мне запах кожи на его шее. Мы были в самом странном месте в мире, но, обнимая Фарага, я снова обретала уверенность в себе.
— Как ты? В порядке? — взволнованно повторял он, не отпуская меня из объятий и обцеловывая, как сумасшедший.
Я одновременно плакала и смеялась, охваченная целой бурей чувств. Держа Фарага за руки, я чуть отстранилась, чтобы его разглядеть. Ну и странный же был у него вид! Лысый, бородатый, в белой тунике до пят — даже Бутрос узнал бы его с трудом.
— Профессор, будьте добры, — раскатисто зазвучал в пустоте старческий голос. — Подведите доктора Салину.
Под приветливыми взглядами мы с Фарагом прошли через зал по направлению к согбенному старичку, который отличался от других только своим преклонным возрастом, но ни его одежда, ни место за столом никак не выдавали, что это не кто иной, как Катон CCLVII. Когда я догадалась об этом, мной завладело чувство почтения и страха, и в то же время, движимая удивлением и любопытством, я внимательно рассматривала его, пока расстояние между нами метр за метром сокращалось. Катон CCLVII был старцем среднего роста и комплекции, перелагавшим бремя своей старости на тонкий посох. Временами его тело сверху донизу сотрясалось мелкой дрожью, следствием слабости его коленей и мышц, что ничуть не умаляло его торжественного достоинства. За мою жизнь мне приводилось видеть листы папируса и пергамента, менее сморщенные, чем его кожа, которая, казалось, вот-вот распадётся, так много морщин пересекалось и накладывалось на ней, однако неподражаемая проницательность и острый разум, читавшиеся на его лице, и бесконечно мудрый взгляд блестящих серых глаз поразили меня настолько, что меня потянуло начать коленопреклонения и поклоны, которые мне так часто приходилось проделывать в Ватикане.
— Хигейя, доктор Салина, — произнёс он тем же слабым, дрожащим голосом, которым говорил раньше. Он прекрасно изъяснялся на английском. — Я рад наконец познакомиться с тобой. Ты даже не представляешь, с каким интересом я следил за вашими испытаниями.
Сколько лет могло быть этому человеку? Тысяча?.. Миллиард?.. Казалось, что на лбу у него висит груз вечности, словно он родился, когда планета ещё была покрыта водой. Он очень медленно протянул мне ладонью кверху дрожащую руку с чуть согнутыми пальцами, ожидая, что я вложу в неё мою, и когда я сделала это, он поднёс мои пальцы к губам заворожившим меня галантным жестом.
Только тогда я увидела стоявшего за Катоном Кремня, такого же серьёзного и сдержанного, как обычно. Несмотря на свою неулыбчивость, выглядел он намного лучше, чем мы с Фарагом, потому что из-за того, что и раньше у него были очень светлые, коротко подстриженные волосы, сейчас было совсем незаметно, что ему обрили голову.
— Пожалуйста, доктор, садитесь рядом с профессором, — сказал Катон CCLVII. — Мне очень хочется с вами побеседовать, а хороший обед — лучший повод для приятной беседы.
Катон уселся первым, а следом за ним свои места заняли двадцать четыре шасты. Через скрытые фресками двери один за другим стали появляться слуги с наполненными едой подносами и тележками.
— Прежде всего, позвольте мне представить вам шаст Парадейсоса, мужчин и женщин, которые каждый день стараются сделать это место таким, каким нам хочется, чтобы оно было. Справа от двери находится юный Гете, переводчик с шумерского языка; за ним — Ахмоз, лучшая изготовительница стульев в Ставросе; рядом с ней Шакеб, один из преподавателей Школы Противоположностей; потом Мирсгана, она заботится о водах; Хосни, кабидариос[77]…
И он представил нам всех шаст: Неферу, Катебета, Асрата, Хагоса, Тамирата… двадцать четыре человека. Все они были совершенно одинаково одеты и одинаково улыбались, когда называли их имена, склоняя голову в знак приветствия и согласия со словами Катона. Но больше всего моё внимание привлекло то, что, несмотря на эти любопытные имена, треть их была так же светловолоса, как Глаузер-Рёйст, а остальные были шатенами, рыжими, смуглыми, и в их чертах отражались все расы и племена мира. Всё это время слуги аккуратно расставляли на столе множество блюд, в которых не было заметно ни кусочка мяса. И почти на всех блюдах было просто смешное количество еды, словно она — скорее украшение (а представлена она была изумительно), чем пища.
Когда с приветствиями и церемониями было покончено, Катон объявил о начале банкета, и оказалось, что у всех присутствующих накопились сотни вопросов о том, как мы смогли пройти испытания и что мы при этом чувствовали. Но мы не так стремились удовлетворить их любопытство, как получить ответы на наши вопросы. Более того, Кремень был похож на кипящий котёл, который вот-вот взорвётся, мне даже показалось, что из ушей у него валит дым. Наконец, когда гул голосов возрос до невозможности, и вопросы сыпались на нас, как из рога изобилия, капитан не выдержал:
— Мне очень жаль, но я вынужден вам напомнить, что мы с профессором и доктором находимся здесь не потому, что пожелали стать ставрофилахами! Мы пришли вас задержать!
В зале воцарилась потрясающая тишина. Только у Катона хватило присутствия духа для того, чтобы выйти из неловкого положения.
— Каспар, тебе лучше успокоиться, — спокойно сказал он. — Если хочешь нас задержать, можешь сделать это позже, но сейчас нельзя портить такой приятный обед такой бравадой. Разве кто-то из присутствующих был с тобой груб?
Я окаменела. Никто не смел так разговаривать с Кремнем. По крайней мере я такого никогда не видела. Сейчас он точно озвереет и начнёт размахивать круглым столом. Но, к моему удивлению, Глаузер-Рёйст оглянулся вокруг и остался сидеть. Мы с Фарагом взялись под столом за руки.
— Прошу прощения за моё поведение, — вдруг сказал капитан, не опуская взгляда. — Оно непростительно. Мне очень жаль.
Голоса тут же снова загудели, словно ничего не случилось, и Катон завёл тихую беседу с капитаном, который, похоже, внимательно слушал его, хотя на лице его не было написано ни малейших колебаний. Несмотря на свой возраст, Катон CCLVII, несомненно, был личностью, наделённой могуществом и харизмой.
Шаста по имени Уфа, который умел объезжать лошадей, обратился к нам с Фарагом, чтобы дать Кремню и Катону поговорить наедине.
— Почему вы взялись за руки под столом? — Мы с дидаскалосом остолбенели: откуда он это знает? — Это правда, что вы влюбились во время испытаний? — совершенно наивно спросил он на византийском греческом, как если бы его вопрос не был неоправданным вмешательством в нашу личную жизнь. Несколько голов повернулись к нам, прислушиваясь к ответу.
— Э-э… Ну, да… На самом деле… — замялся Фараг.
— Да или нет? — переспросил другой шаста, которого звали Теодрос. К нам повернулись ещё несколько голов.
— Не думаю, что Оттавия с Фарагом привыкли к таким вопросам, — вмешалась Мирсгана, которая «заботится о водах».
— Почему? — удивился Уфа.
— Они нездешние, ты не забыл? Они пришли снаружи. — И она сделала головой не ускользнувшее от меня движение вверх.
— Может, лучше вы начнёте рассказывать нам о себе и о Парадейсосе? — предложила я, подражая непосредственности Уфы. — Например: где именно находится это место, почему вы похищали реликвии Честного Древа, что собираетесь делать, чтобы мы не передали вас в руки полиции… — Я вздохнула. — Ну, знаете, такие всякие вещи.
Один из слуг, наполнявший в тот момент мой бокал с вином, перебил меня:
— Слишком много вопросов, чтобы сразу на них ответить.
— А тебе, Кандас, не было любопытно, когда ты проснулся в Ставросе? — парировал Теодрос.
— Это было так давно! — ответил тот, подливая вино Фарагу. Я начала понимать, что те, кого я приняла за слуг, на самом деле ими не были или по крайней мере не были слугами в обычном понимании. Все они были одеты точно так же, как Катон, шасты и мы сами, и, кроме того, совершенно свободно участвовали в разговоре.
— Кандас родился в Норвегии, — пояснил Уфа, — и попал сюда пятнадцать — двадцать лет назад, правда, Кандас? — тот кивнул, вытирая сухой тряпицей горлышко кувшина. — До прошлого года он был шастой по продовольствию, а теперь выбрал работу на кухнях басилейона.
— Очень приятно, Кандас, — поспешила сказать я.
Фараг сделал то же самое.
— Мне тоже… Но поверьте мне: чтобы узнать настоящий Парадейсос, вам нужно сначала пройтись по его улицам, а не задавать вопросы.
И, сказав это, он удалился по направлению к дверям.
— Может, Кандас и прав, — заметила я, возобновляя разговор и беря в руки кубок, — но прогулки по городам Парадейсоса не пояснят нам, где именно находится это место, почему вы украли реликвии Честного Древа и что собираетесь делать, чтобы не попасть в руки полиции.
К нашему разговору присоединились ещё больше шаст; другие прислушивались к тому, что говорили между собой Кремень и Катон. Стол разделился на две отдельные части.
В ожидании ответов, которые всё не приходили, я поднесла бокал к губам и отпила глоток вина.
— Парадейсос находится в самом надёжном месте мира, — наконец сказала Мирсгана. — Древо мы не крали, поскольку оно всегда принадлежало нам, а что касается полиции, думаю, она нас особенно не беспокоит. — Все остальные закивали. — Семь испытаний — единственный путь, чтобы проникнуть в Парадейсос, и люди, которые их проходят, обычно обладают рядом качеств, которые сами по себе не дают им причинить бесполезный вред просто так. Вы трое, к примеру, тоже не могли бы это сделать. Вообще-то, — весело сказала она, — никто никогда этого не делал при том, что существуем мы уже больше тысячи семисот лет.
— А что вы скажете о Данте Алигьери? — напрямую рубанул Фараг.
— А что с ним такого? — спросил Уфа.
— Вы его убили, — заявил Фараг.
— Мы?.. — удивлённо переспросили несколько голосов.
— Мы его не убивали, — сказал Гете, молодой переводчик с шумерского. — Он был одним из нас. В истории Парадейсоса Данте Алигьери — одна из главных фигур.
Я не могла поверить своим ушам. Или они отпетые лгуны, или вся теория Глаузер-Рёйста рассыпается, как карточный домик, но она не могла распасться, потому что именно она привела нас сюда. То есть…
— Он много лет провёл в Парадейсосе, — добавил Теодрос. — То приходил, то уходил. Даже трактаты «Пир» и «О народном красноречии» он начал писать здесь летом 1304 года, а идея создания «Комедии», которую издатель Людовико Дольче потом, в 1555 году, украсил прилагательным «Божественная», возникла в ходе его бесед с Катоном LXXXI и тогдашними шастами весной 1306 года, незадолго до его возвращения на Итальянский полуостров.
— Но он рассказал про все испытания и открыл дорогу для того, чтобы люди могли найти это место, — заметил Фараг.
— Естественно, — широко улыбаясь, ответила Мисграна. — Когда в 1220 году, во времена Катона LXXVII, мы скрылись в Парадейсосе, число наших стало падать. Единственные желающие вступить в братство приходили из обществ последователей Святой Веры, «Массени дю Сен-Грааль», катаров, миннезингеров, Верных любви и, в меньшей мере, из военных орденов типа тамплиеров, госпитальеров иоаннитов или тевтонского. Перед нами остро встала проблема: кто будет хранить Крест в будущем.
— Поэтому, — подхватил Гете, — Данте Алигьери заказали написание «Комедии». Теперь понимаете?
— Таким образом, люди, способные заглянуть за грань очевидного, — добавил Уфа, — люди, которые не смиряются с общепринятой реальностью и предпочитают выискивать скрытый смысл, получили возможность попасть сюда.
— А почему после публикации «Чистилища» он боялся выехать из Равенны? И что было во все те годы, когда никто о нём не знал? — спросил Фараг.
— Эти опасения были связаны с политикой, — пояснила Мирсгана. — Не забывай, что Данте активно участвовал в войнах между гвельфами и гибеллинами и стоял во главе совета Флоренции от имени партии белых гвельфов, противостоящей чёрным гвельфам, и что он всегда выступал против военной политики Бонифация VIII, к которому питал непримиримую вражду из-за постыдной коррупции во времена его папства. На самом деле его жизнь не раз подвергалась опасности.
— То есть ты хочешь сказать, что это католическая церковь убила его в день обретения Животворящего Древа? — с сарказмом спросила я.
— На самом деле не правда ни то, что его убила церковь, ни то, что он умер именно в день обретения Честного Древа. Точно известно, что он погиб в ночь с 13-го на 14 сентября, — ответил Теодрос. — Нам хотелось бы, чтобы это и вправду случилось 14 числа, потому что это было бы прекрасным совпадением, совпадением почти чудесным, но этому нет никаких документальных подтверждений. А что касается того, что его убили, вы глубоко ошибаетесь. Его друг Гвидо Новелло отправил его послом в Венецию, и по дороге назад, проходившей через лагуны адриатического побережья, он заболел болотной лихорадкой. Мы в этом никак не замешаны.
— Но выглядит всё это подозрительно, — недоверчиво сказал Фараг.
На нашей стороне стола опять воцарилась гнетущая тишина.
— Знаете, что такое красота? — вдруг спросил нас до этого молчавший и внимательно слушавший Шакеб, преподаватель непонятной Школы Противоположностей. Мы с Фарагом непонимающе переглянулись. У него было круглое лицо и большие, очень выразительные глаза; на пальцах его пухлых рук яркими лучами искрилось несколько перстней. — Видите, как дрожит пламя самой короткой свечи в золотом светильнике над головой Катона?
Светильник, о котором он говорил, был так высоко, что казался маленькой блестящей точкой. Как мы могли различить на нём самую короткую свечу, а на ней — дрожащее пламя?
— Вы можете ощутить доносящийся с кухни запах варенья? — продолжал он. — Замечаете сильный острый аромат, который издаёт добавленный туда майоран, и кисловатый привкус листьев ревеня, которым покрыты банки?
Скажу честно, мы были в полном замешательстве. О чём он говорит? Как мы могли почувствовать подобные запахи? Не двигая головой и не опуская глаз, я попыталась угадать, из чего состояло вкуснейшее блюдо, стоявшее у меня под носом, — безуспешно. Мне удалось лишь вспомнить, и то потому, что я только что проглотила кусочек, что вкус был очень насыщенным, намного более концентрированным и естественным, чем обычно.
— Не знаю, к чему ты клонишь… — сказал Шакебу Фараг.
— Можешь ли ты, дидаскалос, сказать мне, сколько инструментов исполняют сопровождающую наш обед музыку?
«Музыку?.. Какую музыку?» — подумала я и тут же заметила, что действительно с того момента, как мы уселись за стол, где-то вдалеке звучала красивая мелодия. Я не слышала её, потому что не обращала на неё внимания и потому что звучала она очень мягко и тихо, но разобрать, какие инструменты её исполняли, было нереально.
— Или какой звук издаёт капля пота, — не унимался он, — которая в этот самый момент сползает по спине Оттавии?
Я вздрогнула. Что этот сумасшедший несёт? Но не раскрыла рта, потому что, когда он произнёс эти слова, я действительно почувствовала, что от нервного напряжения и возбуждения вдоль моего позвоночника потекла крошечная капелька пота, пользуясь промежутком между кожей и тканью гиматиона.
— Что происходит? — в полной растерянности воскликнула я.
— А ты, Оттавия, скажи, — мужчина с кольцами был неумолим, — какой ритм отбивает твоё сердце? Я скажу тебе: этот… — Он застучал по столу костяшками пальцев, и его удары полностью совпадали с биением, которое я ощущала в груди. — А как пахнет выпитое тобою вино? Ты заметила, что в нём есть специи, что текстура у него немного маслянистая, и во рту остаётся яркий сухой привкус, как от дерева?
Я родом с Сицилии, главного винодельческого района Италии, моя семья владеет виноградниками, и за обедом у нас принято пить вино, но я никогда не обращала внимания на подобные детали.
— Если вы не в состоянии воспринять то, что вас окружает, и ощутить то, что с вами происходит, — вежливо, но твёрдо заключил он, — если вы не можете насладиться красотой, потому что не можете даже её заметить, и если вы знаете меньше, чем самые младшие дети в моей школе, не думайте, что именно вам принадлежит истина, и не позволяйте себе подозревать тех, кто оказал вам дружеский приём.
— Ладно, ладно, Шакеб, — снова вступаясь за нас, сказала Мирсгана. — Сказано очень хорошо, но уже хватит. Они только что прибыли. Надо иметь терпение.
Шакеб тут же переменился в лице и в раскаянии смутился.
— Простите, — попросил он. — Мирсгана права. Но обвинение в убийстве Данте с вашей стороны звучало очень дерзко.
Для этих людей церемоний не существует: что на уме, то и на языке.
Фараг тоже был напряжён и крайне сосредоточен. Если продолжить в духе высказываний Шакеба, у меня было впечатление, что я слышу, как со всей скоростью крутятся винтики у него в мозгу.
— Прости меня, Шакеб, за мои слова, — выдал он наконец деревянным голосом, — но, даже допуская, что ты можешь видеть крохотный огонёк, о котором ты говорил, или чувствовать запах варенья, доносящийся с кухни, я не могу поверить, что ты слышишь сердцебиение Оттавии или звук от скольжения капли пота на её спине. Я не то чтобы сомневаюсь в тебе, но…
— Ну, — не дав ответить Шакебу, вмешался Уфа, — вообще-то мы все слышали, как скользила капля, а теперь слышим, как бьются ваши сердца, и по голосу можем определить, как вы нервничаете и как переваривается пища в ваших желудках.
Моя недоверчивость перешла всякие границы, и от одной мысли о том, что нечто подобное возможно, я ещё больше заволновалась.
— Нет… это невозможно, — нерешительно возразила я.
— Хочешь доказательств? — любезно предложил Гете.
— Разумеется, — жёстко ответил Фараг.
— Я докажу, — вдруг заявила Ахмоз, изготовительница стульев, которая до сих пор не участвовала в разговоре. — Кандас, — произнесла она так тихо, словно шептала на ухо, обращаясь к слуге, посоветовавшему нам прогуляться по Парадейсосу. Я оглянулась по сторонам, но Кандаса в это время в зале не было. — Кандас, пожалуйста, будь добр, принеси нам кусочек пирога с цветом бузины, который вы только что вытащили из духовки. — Она на миг замерла и тут же довольно улыбнулась: — Кандас ответил: «Сейчас иду, Ахмоз».
— Ага!.. — презрительно фыркнул Фараг. Но презрительному Фарагу тотчас пришлось подавиться своим презрением, когда в одной из дверей появился Кандас с блюдом, на котором лежало нечто вроде белого пудинга, не иначе как тот самый пирог, который просила у него Ахмоз.
— Ахмоз, вот пирог с цветом бузины, — сказал он. — Я приготовил его для тебя. И уже отложил кусочек, чтобы взять с собой домой.
— Спасибо, Кандас, — ответила она со счастливой улыбкой. Они явно жили вместе.
— Не понимаю, — продолжал придираться мой недоверчивый дидаскалос. — Честное слово, не понимаю.
— Не понимаешь… пока не понимаешь, но начинаешь признавать, что это так, — заметил Уфа, радостно поднимая свой кубок. — Выпьем за всё то прекрасное, чему вы научитесь в Парадейсосе!
На нашей части стола все подняли кубки и с энтузиазмом чокнулись. Те же, кто прислушивался к беседе Кремня с Катоном, даже не шелохнулись, завороженные разговором.
Шакеб был прав. Вино чудесно пахло специями, а вкус у него был насыщенным и сухим, как у дерева. Спустя несколько мгновений после тоста у меня во рту ещё оставалось ощущение его мягкой маслянистой текстуры. И тут мне вспомнилась фраза Джона Рёскина[78]: «Познание красоты есть истинный путь и первая ступень к пониманию того, что хорошо». Осушенный мною кубок был из шлифованного стекла с рельефными листьями вокруг.
В этот вечер мы отправились гулять по Ставросу в сопровождении Уфы, Мирсганы, Гете и некой Хутенптах, шасты посевов, которая очень сошлась с капитаном Глаузер-Рёйстом и пошла с нами показать свои теплицы и систему растениеводства. Кремень, будучи агрономом, проявлял горячий интерес к этой стороне жизни Парадейсоса.
Когда после обеда мы покинули басилейон Катона, снова пройдя через множество залов и дворов, наши провожатые, изъяснявшиеся с нами по-английски, пояснили нам тайну отсутствия солнца.
— Посмотрите наверх, — сказала нам Мирсгана.
Но неба наверху не было. Ставрос располагался в гигантской подземной пещере, которую ограничивали невидимые нам далёкие стены и потолок. Если бы сотни экскаваторов, подобных тем, что прокопали под Ла-Маншем туннель, без устали работали целый век, даже они не смогли бы прорыть в глубинах земли такую полость, как та, где находился Ставрос, площадь которого была сравнима с площадью Рима и Нью-Йорка вместе взятых, а высота превышала здание Эмпайр-Стейт. Но Ставрос был лишь столицей Парадейсоса. В других пещерах подобных размеров помещались ещё три города, а сложная система громадных переходов и галерей соединяла эти четыре центра.
— Парадейсос — удивительное чудо природы, — объяснил нам Уфа, который упорно хотел отвести нас в конюшни, где он работал с лошадьми, — образовавшееся в результате колоссальных извержений вулканов в эпоху плейстоцена. Протекавшие здесь потоки горячей воды размыли известняки, оставив только вулканические породы. Именно это место нашли наши братья в XIII веке. Поверите ли, за семь веков мы ещё не смогли исследовать весь комплекс! И это при том, что с тех пор, как у нас есть электричество, дело идёт гораздо быстрее. Парадейсос — потрясающее место!
— Расскажите, как вы освещаете Ставрос, — попросил Фараг, который шёл рядом со мной, держа меня за руку.
Улицы города были вымощены камнем, и по ним двигались всадники и запряжённые лошадьми телеги, так что, похоже, лошади были здесь единственной тягловой силой. На месте тротуаров красивые мозаики из блестящей смальты изображали виды природы или разнообразные сценки с музыкантами, ремесленниками и повседневной жизнью, всё в чистейшем византийском стиле. Несколько ставрофилахов подметали улицы и собирали мусор необычными металлическими лопатками.
— В Ставросе больше трехсот улиц, — сообщила Мирсгана, помахав рукой женщине, выглядывавшей из окна первого этажа; дома были сделаны из той же вулканической породы, что и стены пещеры, но приделанные к ним карнизы, украшения и разноцветные рисунки на фасадах придавали им изящный, экстравагантный или почтенный вид, в зависимости от вкуса хозяев. — В городе семь озёр, все они судоходны, и первые поселенцы окрестили их названиями семи добродетелей, главных и теологических, которые противопоставляются семи смертным грехам.
— И в этих озёрах, особенно в Воздержанности и Терпении, полным-полно слепой рыбы и альбиносов-ракообразных, — вставила Хутенптах, которая непонятно почему казалась мне очень знакомой, и я всё смотрела на неё, чтобы понять почему. Память у меня была великолепной, так что я наверняка видела её раньше, до Парадейсоса. Она была очень красивой, с чёрными волосами и глазами и классическими чертами лица, включая тонкий нос, которые не выходили у меня из головы.
— Ещё у нас есть, — подхватила Мирсгана, — красивая река Колос[79], вытекающая из недр земли, не доезжая до Лигнума. Она протекает через все наши четыре города, образовывая в Ставросе озеро Милосердия. Именно Колос даёт нам энергию для освещения Парадейсоса. Сорок лет назад мы купили старые турбины, эти машины с гидравлическими колёсами, которые, пропуская воду, крутятся и генерируют ток. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, — извинилась она, — так что больше рассказать не могу. Я только знаю, что у нас есть ток и что там наверху, — сказала она, указывая на огромный купол, — хоть вы их не увидите, находятся медные провода, которые тянутся в разные точки Ставроса.
— Но басилейон Катона освещается свечами, — возразила я.
— Мощности наших машин не хватает на то, чтобы дать свет всем домам, да мы этого и не хотим. Нам достаточно осветить город и открытые пространства. Разве вам показалось где-то, что света не хватает? За века темноты ремесленники Парадейсоса придумали свечи с очень ярким пламенем. Кроме того, как вы могли убедиться, у нас чудесное зрение.
— Почему? — поспешно вмешался Фараг. — Почему у вас такое хорошее зрение?
— А это, — сказал Гете, — ты поймёшь, когда мы побываем в школах.
— У вас есть школы для улучшения зрения? — с восторгом спросил Кремень.
— В нашей системе обучения чувства и всё, с ними связанное, занимают основополагающее место. Если бы не они, как дети могли бы изучать природу, экспериментировать, делать собственные выводы и проверять их? Это всё равно что просить слепца нарисовать карту. Прибывшим сюда семь веков назад ставрофилахам пришлось пройти тяжелейшие испытания, благодаря которым они изобрели очень эффективные методы улучшения условий жизни и обеспечения выживания.
— Первые поселенцы обнаружили, что рыбы утратили глаза, а ракообразные — цвет, потому что в тёмных водах Парадейсоса они не были им нужны, — с улыбкой заметила Хутенптах. — Они также заметили, что некоторые виды птиц, гнездившихся в камнях, для полётов в туннелях и галереях не пользовались глазами, потому что у них, как у летучих мышей, возникли другие системы локации. Тогда они решили досконально изучить местную фауну и пришли к интересным выводам, которые смогли применить к людям с помощью очень простых, обнаруженных на практике упражнений. Вот с чего теперь начинают обучение дети в школах и те, кто, как и вы, попадают в Парадейсос извне… Естественно, если вы этого хотите.
— Но это возможно? — настаивала я. — Возможно обострить слух и зрение с помощью упражнений?
— Конечно. Разумеется, на это уйдёт определённое время, но методы обучения очень эффективны. А вы думали, как Леонардо да Винчи удалось изучить и подробнейшим образом описать полёт птиц, чтобы попытаться использовать эти знания при создании своих летательных машин? У него было почти такое же зрение, как у нас, и он добился его с помощью им самим придуманных тренировок для глаз.
Пока наверху, на поверхности земли, мы делали машины, помогающие нам преодолеть наши сенсорные ограничения (микроскопы, телескопы, звукоусилительные установки, динамики, компьютеры…), внизу, в Парадейсосе, люди веками трудились над совершенствованием своих способностей, их утончением и развитием, подражая в этом природе. И эти достижения, подобно испытаниям Чистилища, открыли им путь к новому пониманию жизни, мира, красоты и всего, что их окружало. Наверху у нас были богатства технологические, а здесь, внизу, — духовные. Таким образом, прояснялась загадка необъяснимых исчезновений реликвий Честного Древа: идеальных краж, проведённых без насилия, отпечатков пальцев и любых других следов. Какая охрана могла помешать ставрофилаху со сверхразвитыми сенсорными способностями взять что угодно даже в самом защищённом в мире месте?
Пройдясь по улицам, где мирно разъезжали телеги и повозки, и по площадям и паркам, где люди развлекались жонглированием мячами и булавами (а это занятие тоже входило в их странные тренировки, так как способствовало одинаковому владению обеими руками), мы дошли до набережной Колоса, ширина которого достигала не менее шестидесяти — семидесяти метров, а неровные скалистые берега были укреплены парапетом с резьбой в виде цветов и пальм. Глядя на суда, плывущие по чёрным водам, я положила руку на поручень, и мне показалось, что пальцы заскользили, словно я коснулась масляного пятна. Но это было не так. Ладонь была чистой, оказалось что ощущение это вызвано только поразительной шлифовкой. Тогда я вспомнила каменный блок, как по маслу, скользивший по узкому туннелю в катакомбах Святой Лючии.
По тихим водам Колоса проплывали лодки и байдарки с одним, двумя и даже тремя гребцами, но больше всего внимание привлекали грузовые суда, которые казались толстыми большими баранками, из живота которых, как в греческих и римских кораблях, торчало до трёх рядов коротких и широких вёсел. По словам Уфы, эти корабли были главным транспортным средством для перевозки грузов и пассажиров между Ставросом, Лигнумом, Эдемом и Круцисом. Ставрос был столицей и самым большим городом, в нём жило почти пятьдесят тысяч людей, а Круцис — самым маленьким, на двадцать тысяч человек.
— Но как же вы до сих пор используете труд гребцов? — возмущённо спросила я. — И к тому же кто эти несчастные создания, осуждённые на галеры, которые вынуждены проводить свой век во внутренностях тёмного судна — вечно в поту, голодные и больные?
— А что такого? — удивились четверо наших спутников.
— Это же бесчеловечно! — горячо воскликнул Кремень, возмущённый не меньше, чем мы с Фарагом.
— Бесчеловечно? Это очень популярная работа! — сказал Гете, с ностальгией глядя на корабли. — Мне дали возможность погрести только три месяца.
— Грести — очень интересное занятие, — поспешила пояснить Мисграна, увидев наши поражённые лица. — Молодёжь, юноши и девушки, очень хотят получить место на транспортных кораблях, и желающих столько, что для того, чтобы все могли хоть чуть-чуть побыть гребцами, лицензии дают только на три месяца, как сказал Гете.
— Вам стоит попробовать, — мечтательно прибавил он. — Ритм и разные виды подталкивающих судно гребков, слаженные движения, общие усилия, товарищество… Крепко держа весло в руках, нужно наклониться вперёд, согнув ноги, а потом оттолкнуться назад. Это чудное упражнение, придающее невероятную силу плечам, спине и ногам. Кроме того, вы знакомитесь с множеством новых людей, и так укрепляются узы дружбы между нашими четырьмя городами.
Лучше, подумала я, вообще не открывать рот во время нашей экскурсии. Судя по взглядам, которыми обменялись со мной Фараг и капитан Глаузер-Рёйст, они думали то же самое. Похоже, тут все были счастливы делать своё дело, даже если дела эти были трудными и неприятными. Или, быть может, они всё-таки не такие уж трудные и неприятные? Может быть, такими они становятся по другим причинам — из-за общественного мнения, связанной с ними покупательной способности?..
Мы прогулялись по красивой набережной вдоль реки, наблюдая, как люди весело купаются в воде. Похоже, что в этих тёмных водах всегда сохранялась постоянная температура двадцать четыре — двадцать пять градусов, как и во всём пещерном комплексе, где находился Парадейсос. Опыт, полученный в разговоре о гребцах, заставил меня смолчать и не спрашивать, как получалось, что некоторые из пловцов догоняли и перегоняли многие байдарки, в которых гребли два-три человека. Здесь, в Парадейсосе, было столько вещей, которым стоило поучиться, столько всего интересного, что я была уверена, что ни Фараг, ни Кремень, ни я никогда не сможем выдать этих людей. Ставрофилахи были правы, говоря, что мы, как и все другие, побывавшие здесь до нас, не сможем причинить им бесполезный вред просто так. Как мы могли допустить, чтобы сюда вломились орды полицейских в форме, чтобы уничтожить подобную культуру? Не говоря уже о том, что потом разные церкви будут ссориться, приписывая себе то, чем было братство и что от него останется, или спорить, как превратить это место в религиозный центр туризма или паломничества. Ставрофилахи и их мир исчезли бы навсегда, несмотря на их тысячашестисотлетнюю историю, и стали бы магнитом для толп журналистов, антропологов и историков со всех концов земли. Если они выкрали Крест, им просто нужно его вернуть. Мы, и я была уверена, что Фараг и Кремень со мной согласятся, никогда их не выдадим.
Наша приятная прогулка продолжалась. В Ставросе было множество театров, концертных и выставочных залов, игровых и развлекательных центров, музеев (естествознания, археологии, пластических искусств…), библиотек… В них в последующие дни, к моему изумлению, я нашла оригиналы рукописей Архимеда, Пифагора, Аристотеля, Платона, Тацита, Цицерона, Вергилия… Плюс первые издания «Астрономики» Манилия, «Медицины» Цельсия, «Естественной истории» Плиния и другие потрясающие инкунабулы. В этих «Залах жизни», как называли их ставрофилахи, было собрано около двухсот тысяч томов, и самое интересное: большинство людей в Парадейсосе могли читать тексты в подлиннике, потому что изучение живых и мёртвых языков было одним из их излюбленных увлечений.
— Искусство и культура преумножают гармонию, терпимость и понимание между людьми, — сказал Гете. — А там, наверху, вы начали понимать это только сейчас.
В конюшнях Уфы, самых больших из пяти имевшихся вблизи Ставроса, кони, кобылы и жеребята в своё удовольствие носились по всей территории. На складе упряжи были сотни недоуздков и самых разнообразных удил и множество сёдел из замечательной тиснёной кожи со странными разноцветными подпругами и деревянными стременами. Уфа угостил нас орехами и поской, напитком из воды, уксуса и яиц, который они употребляли в больших количествах.
Как нам сказали, конный спорт был одним из (многих) популярных спортивных состязаний на Парадейсосе. Высшим искусством почиталось взятие препятствий рысью и галопом. Все очень восхищались всадниками, овладевшими таким мастерством. Ещё тут устраивали скачки или конные состязания в галереях, и существовала любимая многими игра «июсопорта»[80], которая особенно нравилась детям. Но работой Уфы и его страстью была выездка лошадей.
— Кони — очень умные животные, — убеждённо сказал он, легонько поглаживая бока кротко подошедшего к нам жеребёнка. — Достаточно научить их понимать движения ног, рук и звуки голоса, чтобы они начали мыслить, как всадник. Здесь не нужны ни шпоры, ни стеки.
День клонился к концу, а он пустился в длинную лекцию о необходимости категорически исключить тренировку прыжков для предварительно не вышколенных лошадей (что бы это ни означало) и о своём желании с момента, как он стал шастой, ввести обучение выездке в школах, так как, сказал он, это лучший способ изучить естественные движения животного до того, как ездить верхом или править конём.
К счастью, Мисграна тактично прервала его и напомнила, что Хутенптах пришла с нами, чтобы показать систему растениеводства, и что уже становится поздно. Уфа предложил нам лучших коней из своей конюшни, но, поскольку ездить верхом я не умела, нам с Фарагом дали небольшую повозку, на которой мы смогли поехать за всеми остальными до отдалённой от Ставроса местности, на которой на многие гектары простирались чудесно размеченные поля. Во время этой поездки мы с Фарагом наконец смогли побыть наедине, но нам и в голову не пришло терять время за обсуждением тех странных вещей, которые с нами происходили. Мы были необходимы друг другу, и, помню, всю дорогу мы шутили и смеялись. Мы обнаружили, что конные повозки гораздо безопаснее автомашин по той простой причине, что можно долго не смотреть на дорогу, и при этом ничего страшного не происходит.
Хутенптах показала нам свои владения с той же гордостью, с какой Уфа демонстрировал свои конюшни. Приятно было смотреть, как она увлечённо ходит по рядам овощей, кормовых растений, зерновых и всяческих цветов. Глаузер-Рёйст не сводил с неё глаз, зачарованный её словами.
— Вулканические породы, — говорила она, — очень хорошо снабжают корни кислородом, кроме того, они чистые, и вредных насекомых, бактерий и грибков в них нет. В Ставросе под растениеводство выделено больше трёхсот стадий[81]; в других городах эта площадь больше, потому что там используются некоторые галереи. Поскольку плодородной почвы в Парадейсосе нет, чтобы купить продукты, первым поселенцам приходилось выходить на поверхность или доставать их через ануаков, рискуя, что их обнаружат. Поэтому они тщательно изучили систему, которую вавилоняне использовали для создания своих прекрасных висячих садов, и открыли, что земля не нужна…
Только тогда я прислушалась к словам Хутенптах. Мы с Фарагом были захвачены собственным разговором и не обращали внимания на всех остальных, так что я не заметила, что мы действительно идём не по земле, а по камню. Все выращиваемые в Парадейсосе растения помещались в больших продолговатых глиняных вазонах, наполненных только камнями.
— Из образуемых городом органических отходов, — поясняла Хутенптах, — мы готовим питательные вещества для растений и подаём их вместе с водой.
— Снаружи это известно как гидропоника, — заметил Глаузер-Рёйст, внимательно разглядывая зелёные листья какого-то куста, и наконец отошел с удовлетворённым видом. — Всё выглядит замечательно, — изрёк он, — но как же свет? Для фотосинтеза необходимо солнце.
— Электрический свет тоже подходит. Кроме того, для улучшения процесса мы добавляем в питательные вещества определённые минералы и сахаристые смолы.
— Это невозможно, — возразил Кремень, поглаживая корни яблони.
— Тогда, протоспатариос, — очень спокойно ответила она, — у тебя просто сейчас галлюцинация, и ты ничего не трогаешь.
Он быстро отнял руку и — о чудо! — изобразил одну из своих редких улыбок, хотя на этот раз улыбнулся он широко и светло, такого ещё не было. И в этот момент я поняла, откуда я знаю Хутенптах. Нет, я никогда раньше её не видела, но в доме Глаузер-Рёйста на улице Лунготевере-деи-Тебальди, в Риме, было две фотографии девушки, как две капли воды похожей на неё. Вот почему Кремень был под таким впечатлением! Хутенптах, наверное, напомнила ему ту, другую. В общем, оба они пустились в запутанную беседу о сахаристых смолах и их применении в сельском хозяйстве, и, так же, как мы с Фарагом очень невежливо держались от всех в сторонке, они в результате отдалились от Уфы, Мирсганы и Гете.
Наконец уже совсем вечером мы вернулись в Ставрос. Люди гуляли по улицам после длинного рабочего дня, и в парках было полно горластых детей, молчаливых наблюдателей, компаний молодёжи и жонглёров. Больше всего им нравилось подкидывать и ловить разные вещи. Благодаря жонглированию они одинаково разрабатывали правую и левую руки, а благодаря тому, что они одинаково хорошо владели обеими руками, они были замечательными жонглёрами. Неизвестно, знали они об этом или догадывались, но одинаковое использование обеих рук для разных видов деятельности способствует одновременному развитию обоих мозговых полушарий, таким образом увеличивая художественные и умственные способности.
Наконец в атмосфере таинственности Мирсгана, Гете, Уфа и Хутенптах провели нас к последнему месту, которое мы должны были посетить перед возвращением на ужин в басилейон. Несмотря на наши просьбы, они отказались что-либо нам объяснять, и в конце концов мы с Фарагом и Кремнем решили, что и практичнее, и интереснее будет стать послушными и немыми учениками.
Улицы бурлили хаотичной жизнью. Ставрос был городом, где не знали напряжения и спешки, но он вибрировал пульсациями совершенной экосистемы. Люди, те самые ставрофилахи, которых мы так долго преследовали, смотрели на нас с интересом, так как знали, кто мы такие, и дружелюбно здоровались с нами из окон, повозок и с вымощенных мозаиками тротуаров. Помню, я подумала: «Мир навыворот». Или нет? Я крепко сжала руку Фарага, потому что почувствовала, что изменилось так много всего и сама я изменилась так сильно, что мне нужно схватиться за что-то твёрдое и надёжное.
Когда повозка завернула за угол и вдруг оказалась на огромной площади, в глубине которой за небольшим парком виднелось громадное шести- или семиэтажное здание, фасад его был украшен разноцветными витражами, а многочисленные островерхие башенки завершались острыми пинаклями, я поняла, что мы дошли до настоящей цели нашего пути, который мы так бездумно начали столько месяцев назад.
— Храм Креста, — торжественно провозгласил Уфа, следя за нашей реакцией.
Думаю, этот момент был самым величественным и волнующим из всего ранее пережитого. Никто из нас троих не мог отвести глаз от этого храма, мы остолбенели от сознания, что наконец достигли конечной цели нашего путешествия. Я была уверена, что даже у капитана не оставалось намерения потребовать назад реликвии во имя интересов, которые уже ничего для нас не значили, но сам факт, что после стольких усилий, страданий и страхов в сопровождении лишь Вергилия и Данте Алигьери мы добрались до самого сердца Земного Рая, был слишком значителен, чтобы упустить хоть каплю эмоций и ощущений.
Мы вошли в храм, охваченные благоговением от его великолепия: всё было залито ярким светом миллионов свечей, золотивших мозаики и своды, золото и серебро, синеву купола. Это была необычная церковь, исключительная по своему убранству и особенностям: смеси византийского и коптского стилей на полпути между простотой и восточными излишествами.
— Возьмите, — произнёс Уфа, протягивая нам белые покрывала. — Покройте головы. Здесь должно проявлять величайшее почтение.
Схожие с накидками оттоманских женщин, эти большие покрывала набрасывались на голову так, чтобы их незавязанные края спадали впереди плеч. Это была древняя форма выражения религиозного почтения, про которую давно забыли на Западе. Интересно, что здесь с белым покрывалом на голове в храм входили и мужчины. Более того, головы всех, кто находился внутри, даже детей, были почтительно покрыты белым полотном.
И тут, идя по этому огромному сооружению, я увидела его: на противоположном входу конце нефа в стене виднелась ниша, а в ней — красивый деревянный Крест, подвешенный в вертикальном положении. Некоторые люди сидели перед ним на скамьях, некоторые по-мусульмански расположились на коврах на полу, некоторые громко читали молитвы, некоторые молились молча, некоторые будто ставили сценки ауто[82], а некоторые дети отрабатывали недавно выученные коленопреклонения, разделившись на группки по возрасту. Этот подход к религии, даже не к религии, а к храмовому пространству, был достаточно необычным, но ставрофилахи удивляли уже столько раз, что нас уже ничего не пугало. Однако перед нами было Честное Древо, Крест Господень, полностью восстановленный как явный знак того, что ставрофилахи оставались и всегда останутся самими собою.
— Он сделан из сосны, — мягко сказала нам Мирсгана, понимая, как нас переполняет волнение. — Вертикальная часть достигает в длину почти пяти метров, а горизонтальная — двух с половиной, весит Крест около семидесяти пяти килограммов.
— Почему вы так поклоняетесь Кресту, а не Распятому на нём? — вдруг пришло мне в голову.
— Ну конечно, мы поклоняемся Иисусу! — так же любезно, как прежде, сказала Хутенптах. — Но Крест, кроме того, является символом нашего происхождения и символом мира, который мы построили своими усилиями. Наша плоть сделана из Дерева этого Креста.
— Прости, Хутенптах, — смущённо сказал Фараг, — но я не понимаю.
— Ты на самом деле веришь, что это Крест, на котором умер Христос? — спросил его Уфа.
— Ну, нет… Вообще-то нет, — замялся он, но его неуверенность была вызвана не тем, что он хоть на минуту сомневался в явной неподлинности Креста, а тем, что он опасался задеть веру и воззрения сопровождавших нас ставрофилахов.
— Однако это он и есть, — очень уверенно заявила Хутенптах. — Это Истинный Крест, настоящее Святое Древо. Твоя вера слаба, дидаскалос, тебе надо больше молиться.
— Этот Крест, — указывая на него, сказала Мирсгана, — был найден святой Еленой, матерью императора Константина, в 326 году. Мы, братство ставрофилахов, зародились в 341 году для его защиты.
— Правда, так оно и было, — с довольным видом подтвердил Уфа. — В первый день сентября месяца 341 года.
— А зачем вы выкрали реликвии Древа со всего мира сейчас? — с досадой произнёс Кремень. — Почему именно в этот момент?
— Мы не крали их, протоспатариос, — ответила Хутенптах. — Они были нашими. Нам была доверена охрана Честного Древа. Многие ставрофилахи, защищая его, погибли. В нём черпает смысл наше существование. Когда мы нашли приют в Парадейсосе, у нас был самый большой фрагмент Древа. Всё остальное было разделено на более или менее большие куски и рассеяно по церквям и соборам, иногда это были просто маленькие щепочки.
— Прошло семь веков, — заявил Гете. — Пора было уже вернуть Крест и возвратить ему былую целостность.
— Почему бы вам не вернуть реликвии? — с надеждой спросила я. — Если вы это сделаете, вам перестанет угрожать опасность. Подумайте, ведь многие церкви основывали веру своих прихожан на принадлежавшем им фрагменте Честного Древа, — воскликнула я.
— Неужели, Оттавия?.. — скептично спросила Мисграна. — Никто давно не обращал внимания на эти реликвии. К примеру, в соборе Парижской Богоматери, ватиканском соборе Святого Петра и в римской церкви Санта-Кроче-ин-Джерузалемме они давно доживали свои дни в музеях диковинок, которыми называют сокровища или коллекции и за вход в которые надо платить. Сотни христиан поднимают голос, чтобы заявить о фальшивости этих реликвий, и верующих они уже очень мало интересуют. За последние годы вера в святые реликвии очень снизилась. Мы просто хотели дополнить имеющийся у нас фрагмент Святого Древа, третью часть стипеса, вертикального столба, но, увидев, как легко можно получить и всё остальное, мы недолго думая решили вернуть себе Крест целиком.
— Он наш, — упрямо повторил юный переводчик с шумерского. — Этот Крест наш. Мы его не крали.
— А как вам удалось организовать такое масштабное… возвращение реликвий отсюда, из-под земли? — поинтересовался Фараг. — Все они были в разных местах, а после первых кра… возвращений их хорошо охраняли.
— Вы же видели ризничего церкви Святой Лючии, — заговорил Уфа, — отца Бонуомо в Санта-Марии-ин-Космедин, иноков в монастыре Святого Константина Аканццо, отца Стефаноса в базилике Гроба Господня, православных священников в Капникарее и продавца билетов в катакомбах Ком Эль-Шокафы?..
Мы с Фарагом и Кремнем переглянулись. Наши подозрения подтвердились.
— Все они ставрофилахи, — продолжал поклонник лошадей. — Многие из нас решают жить вне Парадейсоса, чтобы выполнять определённые функции или просто из личных соображений. Здесь внизу быть, конечно, не обязательно, но это считается наивысшей славой и честью для ставрофилаха, отдающего жизнь Кресту.
— Ставрофилахов много по всему миру, — весело сказал Гете. — Их больше, чем вы могли бы подумать. Они приходят и уходят, живут с нами какое-то время, а потом возвращаются к себе домой. Как, например, делал Данте Алигьери.
— Возле каждого фрагмента или щепочки Честного Древа всегда были наши люди, один-два человека, — закончила заботящаяся о водах, — так что, по правде говоря, операция оказалась простейшей.
Уфа, Хутенптах, Мирсгана и Гете довольно переглянулись, а потом, вспомнив, где они находятся, набожно преклонили колени перед Честным Древом, которое поражало своими размерами и тщательно продуманной формой представления, и с большим рвением и сосредоточенностью начали проделывать ряд сложных поклонов и коленопреклонений, бормоча старинные литании византийского обряда.
В это время присутствие Бога ощутило и моё сердце. Я находилась в церкви, и как бы она ни выглядела, есть священные места, которые вздымают дух ввысь и приближают его к Богу. Я склонилась на колени и прочитала простую благодарственную молитву за то, что мы добрались сюда, все трое и в полном здравии. Я попросила у Бога благословить мою любовь к Фарагу и пообещала ему никогда не оставлять свою веру. Я не знала, что с нами будет и какие планы у ставрофилахов, но, пока я в Парадейсосе, я каждый день буду приходить молиться в этот великолепный храм, в апсиде которого с невидимых нитей свисает Истинный Крест Иисуса Христа. Я знала, что он не настоящий, что это не тот крест, на котором умер Иисус, потому что распятие было обыденным и частым видом казни, и, когда Он умер на Голгофе, кресты использовались множество раз, пока не приходили в негодность, а потом, изъеденные точильщиками, заканчивали свои дни в солдатских кострах. Так что находящийся передо мной крест не был Истинным Крестом Христовым, но был крестом, найденным святой Еленой в 326 году под храмом Венеры на одном из иерусалимских холмов; это действительно был тот крест, кусочкам которого поклонялись и посвящали любовь миллионы людей на протяжении многих веков; это был тот самый крест, который положил начало братству ставрофилахов; и уж конечно, это был крест, соединивший меня с Фарагом, с язычником Фарагом, с замечательным Фарагом.
Когда мы снова вернулись на ужин в басилейон Катона, освещающий Парадейсос свет стал более приглушённым, создавая ощущение вечера, которого не было, но который тем не менее был изумительно красив. Все мирно возвращались в свои дома, и наши провожатые распрощались с нами перед большими ведущими в басилейон воротами, которые всегда были открыты.
Глаузер-Рёйст и Хутенптах договорились встретиться на следующее утро, вскоре после того, как в городе на рассвете зажгут свет, около сельскохозяйственной зоны, так что Уфа дал капитану коня, чтобы он смог туда доехать. Похоже, на Кремня вопрос сахаристых смол произвёл большое впечатление и, по-моему, прекрасная Хутенптах тоже, поэтому он хотел как следует разобраться во всех деталях. Гете предложил показать нам с Фарагом новые места и особенности Парадейсоса, которые мы не успели увидеть в первый день. Так что, по сути, мы простились только с Уфой и Мирсганой, хотя обещали им обязательно зайти в гости.
Ужин был намного спокойнее обеда. В другой комнате, поменьше и поуютнее, чем огромный зал, где мы были днём, старец Катон CCLVII снова выполнял роль хозяина, и компанию ему составляла только шаста Ахмоз, которая оказалась не только мастерицей по изготовлению стульев, но и одной из его дочерей, и Дариус, шаста, занимавшийся административными делами и бывший канонархом[83] Храма Креста. Подавал нам блюда к столу опять Кандас, и снова звучала тихая музыка, напомнившая мне народные средневековые мелодии.
По ходу нашей беседы, которая опять была и насыщенной, и непростой, я попыталась воплотить в жизнь то, что узнала в обед о вкусах и запахах. Я поняла, что для того, чтобы быть в состоянии различить такое количество мелочей и насладиться ими, есть и пить нужно очень медленно, так медленно, как ставрофилахи. Но то, что для них в силу привычки было простым, требовало от меня нечеловеческих усилий, потому что я привыкла быстро жевать и сразу глотать. Мне очень понравился незнакомый напиток, которым нас угостили и который пили только по вечерам, за ужином: «эвкрас», чрезвычайно вкусный отвар перца, тмина и аниса.
Катон CCLVII хотел узнать, какие у нас планы на будущее, и пустился в подробнейшие расспросы по этому поводу. Нам с Фарагом было совершенно ясно, что мы хотим вернуться на поверхность, но Кремень непонятно почему колебался.
— Я хотел бы остаться здесь подольше, — неуверенно сказал он. — Здесь много чему можно научиться.
— Но, капитан! — всполошилась я. — Мы не можем вернуться без вас! Вы что, не помните, что чуть ли не все церкви мира ждут от нас новостей?
— Каспар, вам нужно вернуться с нами, — с очень серьёзным видом подтвердил Фараг. — Вы работаете на Ватикан. Вам нужно перед ним отвечать.
— И вы нас выдадите? — мягко спросил Катон.
Это был очень серьёзный вопрос. Мы попали в сложную ситуацию и знали об этом. Как нам сохранить тайну ставрофилахов, если сразу же по возвращении нас забросают вопросами монсеньор Турнье и кардинал Содано? Мы не можем как ни в чём не бывало возникнуть ниоткуда и сказать, что с самого момента нашего исчезновения в Александрии шестнадцать дней назад мы резались в карты.
— Конечно, нет, Катон, — поспешил заверить его Фараг. — Но вы должны помочь нам придумать правдоподобную историю.
Катон, Ахмоз и Дариус засмеялись, словно это проще простого.
— Я позабочусь об этом, профессор, — вдруг сказал Кремень. — Не забывайте, что это моя специальность. Меня обучал этому сам Ватикан.
— Возвращайтесь с нами, капитан, — попросила я его, глядя ему прямо в серые глаза.
Но воспоминание о работе в Ватикане, похоже, подхлестнуло в нём ещё более горячее желание остаться в Парадейсосе. На его лице появилось более решительное выражение.
— Пока нет, доктор, — заявил он, качая головой. — Мне надоело подчищать грязные дела церкви. Это мне никогда не нравилось, и настал час сменить работу. Жизнь даёт мне новую возможность, и было бы просто глупо ею не воспользоваться. Я её не упущу. Поэтому я остаюсь, по крайней мере на какое-то время. Снаружи для меня нет ничего интересного, и мне хочется поработать с Хутенптах над посевами хотя бы несколько месяцев.
— А что же мы скажем? Как объясним ваше исчезновение? — растерянно спросила я.
— Скажите, что я умер, — не колеблясь, ответил он.
— Вы с ума сошли, Каспар! — сердито воскликнул Фараг. Катон, Ахмоз и Дариус внимательно прислушивались к нашему разговору, но не вмешивались в него.
— Я дам вам чистую легенду, которая обезопасит вас от расспросов церквей и позволит мне, не возбудив подозрений, вернуться через несколько месяцев.
— Мы можем помочь вам, протоспатариос, — сказала Ахмоз. — Этим мы занимаемся уже много веков.
— Каспар, ты твёрдо решил остаться на время здесь? — поинтересовался Катон, смакуя ложку молотой пшеницы с корицей, сиропом и изюмом.
— Твёрдо, Катон, — ответил Глаузер-Рёйст. — Я не говорю, что ваши идеи и верования меня убедили, но буду признателен, если вы позволите мне отдохнуть здесь, в Парадейсосе. Мне нужно подумать над тем, какую жизнь я хочу вести в будущем.
— Не нужно было тебе делать то, что так тебе не нравилось.
— Катон, ты не понимаешь, — возразил Кремень с тем же решительным видом. — Там, наверху, люди не всегда делают то, что больше всего им нравится. Скорее как раз наоборот. Моя вера в Бога крепка, и она поддерживала меня все те годы, когда я работал на церковь, ту церковь, которая забыла о Евангелии и, чтобы не утратить своих привилегий, лжёт, обманывает и способна по своей надобности толковать слова Иисуса. Нет, я не хочу возвращаться.
— Каспар Глаузер-Рёйст, ты можешь оставаться с нами столько, сколько тебе заблагорассудится, — торжественно провозгласил Катон. — А вы, Оттавия и Фараг, можете уйти отсюда, как только захотите. Единственное — дайте нам несколько дней на то, чтобы организовать ваш отъезд, а потом можете вернуться наружу. В Парадейсосе вы всегда будете желанными гостями. Это ваш дом, так как, в конце концов, может, вы об этом еще и не думали, но вы — ставрофилахи. Свидетельством этому являются шрамы на ваших телах. Мы дадим вам информацию о контактных лицах снаружи, чтобы вы могли с нами связаться. А теперь, с вашего позволения, я удаляюсь молиться и спать. Мои многие годы уже не позволяют мне поздно ложиться спать, — с улыбкой пояснил он.
Катон CCLVII вышел за дверь, медленно шагая и опираясь на палку. Перед его уходом Ахмоз поцеловала его, а потом вернулась к нам.
— Не бойтесь, — сказал Дариус, глядя на наши с Фарагом и Кремнем лица. — Я знаю, что вы обеспокоены, и это нормально. Христианские церкви — крепкий орешек. Но с Божьей помощью всё выйдет хорошо.
В этот миг вошёл Кандас с уставленным бокалами с вином подносом. Ахмоз улыбнулась.
— Я знала, что ты принесёшь нам немного лучшего на Парадейсосе вина! — воскликнула она.
Дариус быстро протянул руку. Ему было пятьдесят с небольшим лет, и у него были седые редкие волосы и очень маленькие ушки, такие маленькие, что их едва было видно.
— Выпьем, — предложил он, когда все мы взяли в руки чаши из прекрасного алебастра. — Выпьем за протоспатариоса, чтобы он был счастлив среди нас, и за Оттавию с Фарагом Босвеллом, чтобы они были счастливы даже вдалеке от нас.
Мы все улыбнулись и подняли бокалы.
Гайде и Заудиту приготовили мне комнату и в ожидании меня поправляли цветы и драпировки. Всё было очень красиво, и свет нескольких зажжённых свечей придавал комнате волшебный вид.
— Оттавия, что-нибудь ещё тебе нужно? — спросила Гайде.
— Нет, нет, спасибо! — ответила я, стараясь скрыть волнение. Когда мы выходили из столовой, Фараг спросил меня, может ли он прийти ко мне в комнату, когда нас оставят в покое. Отвечать мне не пришлось. За меня ответила улыбка. Чего нам ещё ждать? Всё закончилось, и моим единственным желанием было быть с ним. Часто, глядя на него, мне приходила в голову глупая мысль, что, даже если бы у меня было больше одной жизни, мне не хватило бы времени, чтобы побыть с ним, так что зачем ждать? Некоторые вещи каким-то непонятным образом сами становятся очевидными, и ночь с Фарагом была одной из них. Я знала, что если не сделаю этого, то буду долго упрекать себя за страх, и я уже не могла бы быть так уверена в новой Оттавии. Я была совершенно влюблена, совершенно слепа и, быть может, поэтому не видела ничего плохого в том, что собиралась сделать. Тридцать девять лет целомудрия и воздержания — вполне достаточно. Бог это поймёт.
— Наверное, дидаскалосу не терпится прийти к тебе, — нескромно вмешалась в мои мысли Заудиту. — Он кружит по своей комнате, как лев в клетке.
Комната Фарага была на другом конце коридора.
— Заудиту! — упрекнула её Гайде. — Прости её, Оттавия. Она слишком молода, чтобы понять, что там, наверху, у вас принято совсем другое.
Я улыбнулась. Ничего другого я сделать не могла, не могла даже говорить. Я хотела лишь, чтобы они ушли и пришёл Фараг. Наконец обе они направились к дверям.
— Доброй ночи, Оттавия, — широко улыбаясь, пожелали они и исчезли.
Я медленно подошла к зеркалу и посмотрела в него. Я была не в лучшем виде и выглядела не ахти. Моя голова напоминала бильярдный шар, а брови плавали, как острова в голом море. Но глаза мои блестели, а с губ не сходила глупая улыбка, которую я никак не могла согнать. Я была счастлива. Парадейсос был несравненным местом, очень отсталым в материальном плане, но очень далеко шагнувшим во многих других вещах. Тут не знали спешки, тоски, ежедневной борьбы за выживание в полном опасностей мире. Жизнь текла спокойно, и люди умели ценить то, что имели. Хотелось бы мне унести из Парадейсоса эту чудесную способность наслаждаться всем вокруг, каким бы незначительным оно ни было, и я собиралась начать практические занятия сегодня же ночью.
Мне было страшно. Сердце билось так сильно, что казалось, что оно вот-вот выскочит у меня из горла. Оно стучало мне в грудь, как испуганный зверёк. «Не делай этого, Оттавия, не делай», — нашёптывал какой-то голосок в моей голове. Было ещё не поздно отступить. Почему обязательно сегодня ночью? Почему не завтра или когда мы вернёмся на поверхность? Почему бы не подождать церковного благословения?
— Почему бы вообще не выбросить это из головы и вообще никогда не делать? — вслух сказала я с упрёком в голосе себе самой.
«Ну же, Оттавия, — попробовала я взбодрить себя. — Ты этого хочешь, до смерти хочешь, чего же ты боишься?» Моё сердце забилось ещё сильнее, и по всему телу побежал пот. Только этого не хватало. Сама того не зная, я всю свою жизнь ждала этого момента, а теперь, распутав столько узлов, пережив столько вещей, оставив позади тесные доспехи, в которые я упрятала своё тело когда-то в прошлом, теперь мне настолько повезло, что я встретила самого замечательного в мире мужчину, который плюс ко всему желал завладеть мною и вручить мне свою любовь. Почему я так боюсь? Фараг сделал меня свободной и с бесконечной нежностью ждал, пока я не порву со своей прежней жизнью. Когда он целовал меня, в его губах было твёрдое обещание, столь сильное ощущение страсти, что оно затягивало меня в неведомые мне места, как буря затягивает судно. Если я могу затеряться в его губах, как не затеряться в его теле?
В дверь трижды тихонько постучали.
— Заходи, — весело и взволнованно сказала я. — Осторожничать излишне. Если они захотят нас услышать, то услышат.
— И то правда, — смущённо согласился он, входя в комнату. — Я всё время забываю, что они читают наши мысли.
— Ну, прямо-таки!.. — ответила я, шагая к нему навстречу и обхватывая руками его шею. Фараг нервничал не менее меня, это было видно по глазам — они беспрерывно моргали, а голос его дрожал.
Он очень медленно поцеловал меня.
— Ты точно уверена, что хочешь, чтобы я остался? — растерянно спросил он. Куда девался Казанова?
— Конечно, я хочу, чтобы ты остался, — сказала я, снова целуя его. — Я хочу, чтобы ты остался со мной всю ночь. Все ночи.
Я утратила ощущение времени и утратила своё сердце, которое навсегда слилось с его. Я была не я, я перестала быть Оттавией Салина, которой была раньше, чтобы превратиться в нескончаемый сполох страсти и любви. Не помню, как я попала на кровать, потому что вкус его поцелуев был таким ярким, что мне показалось, что это вкус самой жизни, которая сосредоточилась для меня в губах Фарага Босвелла.
Проходила ночь, а я, соединившись с его телом, слившись кожей с его кожей в бесконечной вспышке вечности, превратившись в поток ощущений, которые, как приливы и отливы, переходили от самой нежной ласки до самого яростного безумия, открыла для себя, что то, что я делаю, не может быть тем ужасным, что по непонятной причине все религии клеймили многие века. Они с ума, что ли, сошли? Что плохого в том, чтобы понять, что полнота и совершенное счастье возможны в этом мире? Его сильное рослое тело стало всем, чего я желала. Я почувствовала, что перерождаюсь в кого-то нового и трепещущего, кто теперь всегда будет жадно ждать этих минут бесконечной любви и бесконечного безумия. Вначале неуверенность связала меня невидимыми узами, но потом, чувствуя, как струится у меня по коже пот и как бешено колотится моё сердце, я поняла, что в постели мы с Фарагом не одни, что вместе со мной, сковывая меня, двигались лживые табу и глупое лицемерие, в которых меня воспитали. Эта мысль быстро мелькнула у меня в голове, но значение её было велико. Нагая, я села на постели на колени и взглянула на Фарага, который с любопытством смотрел на меня, усталый и счастливый.
— Знаешь что, Фараг?
— Нет, — усмехнулся он, — но от тебя всего можно ожидать.
— Любовь — самое чудесное занятие в мире, — уверенно провозгласила я, он снова тихонько рассмеялся.
— Я рад, что ты это узнала, — прошептал он, беря меня за руки и привлекая к себе, но я высвободилась и, усевшись ему на ноги, погладила его грудь. Что там говорил в начале расследования Глаузер-Рёйст о том, что в первобытных племенах Африки и среди современной молодёжи скарификация имеет большую эротическую нагрузку и является сексуальным соблазном? Проводя пальцами по линиям на теле Фарага, я подумала, что весьма вероятно, что во всём этом есть доля правды.
— Знаешь я уже не представляю себе жизни без тебя. Конечно, это звучит пошло и всё такое, но это правда.
— Ну, значит, всё в порядке, теперь мы квиты.
Каким красивым он был без одежды!
— Ты уже понял, как сильно я тебя люблю? — прошептала я, склоняясь, чтобы снова его поцеловать.
— А ты? — ответил он. — Ты поняла, как сильно я тебя люблю?
— Нет, не поняла. Скажи мне это снова.
Он сел и, обняв меня за талию, принялся вновь и вновь целовать меня, пока желание не охватило нас таким же могучим порывом, как в начале. Снова вернулась магия, и наши тела снова преисполнились друг в дружке и слились так же страстно. Нам было мало ночи, и, когда нас застал новый день, мы не спали и так и не сомкнули глаз всю ночь.
За две недели, проведённые в Парадейсосе, мы недоспали столько, что нам пришлось отсыпаться целых два месяца.
На тринадцатый день нашего пребывания в стране ставрофилахов по возвращении из Эдема и Круциса (в Лигнуме мы были уже несколько раз) нас призвали в басилейон Катона, чтобы дать нам последние инструкции перед отъездом. Подготовкой его занималась группа шаст, которой помогал Глаузер-Рёйст, когда у него оставалось свободное от гидропонной агрономии и прекрасной Хутенптах время.
Нас провели по коридорам, где мы до сих пор не были, и мы попали в огромный прямоугольный зал с высочайшими потолками, в котором, разделившись на два ряда по обе стороны зала, нас ждали шасты. Впереди, под фреской, изображавшей ставрофилаха Дионисия из Дары в одежде знатного мусульманина, стучавшего в двери скромного домика Никифора Пантевгена с реликвией Честного Древа в руках, сидел Катон CCLVII, как всегда, опираясь на свой тонкий посох. Во взгляде у него светились гордость и удовлетворение.
— Проходите, проходите… — сказал он нам, увидев, что мы замешкались в дверях. — Мы уже закончили с последними приготовлениями. Каспар, пожалуйста, сядь рядом со мной. А вы, Оттавия и Фараг, займите кресла, стоящие в центре.
Кремень поспешно уселся рядом с Катоном, подхватив полы гиматиона, как настоящий ставрофилах. Подумать только, как этот бывший капитан швейцарской гвардии вписался в повседневную жизнь Парадейсоса. Он настолько быстро всё воспринимал, что скоро во всём стал походить на местных. Я уже говорила Фарагу, что тут не обошлось без влияния Хутенптах, но он упрямо, как осёл, продолжал твердить, что капитан просто стирает прошлое и придумывает себе будущее, то есть привыкает к новой жизни. Как бы там ни было, Кремень уже казался ставрофилахом до мозга костей, и, помимо того, что он занимался Хутенптах, посевами и помощью в организации нашего отъезда, он также ходил в начальную школу на преподаваемые в Парадейсосе предметы.
— Вы выедете отсюда завтра утром, в рассветный час, — начал объяснять нам Катон. Я увидела справа от меня во втором ряду Мирсгану и поздоровалась с ней. — Так вы увидите, где именно находится Парадейсос, — улыбнувшись, добавил он. — Вас будет ждать группа ануаков, которые проведут вас в Антиохию, откуда вы снова пуститесь в плавание с капитаном Мулугетой Мариамом, чтобы в обратном порядке проделать ваш путь сюда. Мариам доплывёт по Нилу до самого устья и высадит вас в безопасном месте рядом с Александрией. С этого момента вы можете упоминать о существовании этого места только между собой и никогда не должны делать этого в присутствии других людей. Теодрос, теперь говори ты.
Сидевший в первом ряду слева Теодрос встал.
— Последний контакт новых ставрофилахов, — это он о нас? — с христианскими церквями произошёл в Александрии 1 июня сего года, ровно месяц назад. С этого момента снаружи ничего не знают о Каспаре, Оттавии и Фараге. Судя по дошедшим до нас сведениям, египетская полиция сверху донизу обшарила катакомбы в Ком Эль-Шокафе и, естественно, ничего не нашла. Поэтому в данный момент церкви собираются послать ещё одну группу исследователей, которая будет использовать полученную Каспаром, Оттавией и Фарагом информацию, чтобы продолжить путь с того места, где его оставили они. Конечно, эта попытка будет безуспешной, — с довольным видом заметил Теодрос, — но сделанное ими троими, — сказал он, указывая сперва на Кремня, а потом на нас двоих, — вынуждает нас прекратить испытания инициации до тех пор, пока мы не сможем продолжить их в условиях полной безопасности.
— Почему бы их не изменить или просто не отменить? — спросил кто-то за нашей спиной.
— Надо следовать традициям, Сизигамбис, — произнёс Катон, поднимая голову и снова опуская её, чтобы опереть о ладонь.
— Так что в ближайшие десять — пятнадцать лет испытаний больше не будет, — продолжал Теодрос. — Мы уже разослали необходимые сообщения, чтобы живущие снаружи братья стёрли все следы и были готовы к возможным расспросам. Двери в Парадейсос запечатывают. Осталось сказать только о предлоге, под которым Оттавия с Фарагом вернутся наружу, но это сделает Шакеб.
Молодой Шакеб, тот, у которого были кольца на толстых пальцах, встал со своего места в двух креслах от Мисграны, а Теодрос снова сел, изящным жестом подобрав полы гиматиона.
— Оттавия, Фараг, — сказал он, обращаясь прямо к нам. Несмотря на чересчур круглое лицо, он был очень красив благодаря большущим живым и выразительным чёрным глазам. — Когда вы вернётесь в Александрию, пройдёт уже полтора месяца с момента вашего исчезновения. Значит, придётся объяснить, где вы были и что делали в течение этого времени и, разумеется, что произошло с капитаном Глаузер-Рёйстом.
Напряжённое ожидание в зале стало осязаемым. Все хотели знать, какую легенду придётся отчаянно отстаивать мне с Фарагом, чтобы защитить их маленький мир. Мы тоже волновались.
— Наши братья в Александрии начали рыть в катакомбах Ком Эль-Шокафы поддельный туннель, заканчивающийся в далёком уголке озера Мареотис, около древней Цезарии. Вы скажете, что на третьем уровне Ком Эль-Шокафы вас похитили, что вас чем-то ударили и вы потеряли сознание, но до этого смогли разглядеть вход в туннель. Мы дадим вам простую карту, которая поможет вам его найти. Вы скажете, что очнулись в месте под названием Фарафра, это оазис в египетской пустыне, добраться до которого очень нелегко. Скажете, что капитан не очнулся, что похитившие вас сказали, что он умер, когда ему вырезали такие кресты и буквы, как у вас, но не позволили вам увидеть тело; таким образом, мы оставляем возможность для его возвращения через несколько месяцев. Вы опишете это место как селение, очень похожее на Антиохию, так у вас не будет противоречий. Поскольку оазис Фарафра даже отдалённо на неё не похож, вы их очень запутаете. Не называйте никаких имён, только имя бедуина, который трижды в день носил вам еду в каморку, где вы были заперты: Бахари. Это имя достаточно распространено в Египте и ничего не прояснит. Для описания этого Бахари вы можете использовать внешность старейшины Берехану Бекелы, хотя не забудьте, что кожа его должна быть посветлее. — Он набрал воздуха и продолжил: — После того, как злобные ставрофилахи столько времени продержали вас взаперти, — тут все засмеялись и зашумели, — и после многочисленных угроз, что вас могут убить в любой момент, наконец в такой день, как сегодня, 1 июля, вас снова усыпили и бросили у входа в туннель у озера Мареотис, предупредив, чтобы вы ни слова не говорили обо всём происшедшем. Вы, конечно, отказываетесь продолжать расследование, так что, когда допросы кончатся, отыщите себе для жизни незаметное местечко как можно дальше от Рима, а ещё лучше — от Италии, и исчезните. Мы будем рядом и будем следить, чтобы с вами ничего не случилось.
— Нам нужно будет искать работу, — заметила я, — так что…
— В этом плане мы, ставрофилахи, хотим сделать вам прощальный подарок, — прервал нас тут Катон, поднимая руку. Мы с Фарагом увидели, что Кремень загадочно улыбается нам. — Я уже говорил, что надо следовать традициям, и так оно и есть, но нужно также уметь отказываться от них и их менять. Во время испытаний семи смертных грехов, так же, как это происходит со всеми инициируемыми, вы, Оттавия и Фараг, окончательно и бесповоротно изменили свои жизни. Работа, страна, религиозные обязательства, верования, образ мышления… Чтобы вы смогли попасть сюда, всё развеялось в прах. Сейчас снаружи у вас не осталось почти ничего, но вы готовы вернуться, чтобы построить такую жизнь, какую вы хотите. Фараг мог бы вернуться на работу в Греко-Римском музее Александрии, но Оттавия никоим образом не сможет снова ступить в ватиканский Гипогей. Однако у неё есть академический опыт, который легко открыл бы ей многие двери, но… Что, если мы подарим вам нечто, что позволит вам абсолютно свободно выбрать своё будущее?
Я почувствовала, как Фараг сжал мне руку, и помню, что мышцы шеи у меня напряглись от волнения. Кремень так улыбался нам, что были видны оба ряда его зубов.
— Искупление греха жадности, проходившее в Константинополе, будет перенесено. Мы попросим братьев из этого города, чтобы в ближайшие годы, не меняя его содержания, они устроили испытание с ветрами в другом месте города, чтобы вы могли «открыть» мавзолей и останки императора Константина Великого. Вот наш прощальный подарок. Надеемся, вам он понравится.
Мы с Фарагом на несколько мгновений остолбенели, а потом медленно повернули головы и переглянулись. Я не выдержала первой: я так подпрыгнула от радости, что потянула за собой дидаскалоса и только чудом не выдернула ему руку. От мысли о Константине я отказалась с того самого момента, как узнала ставрофилахов, и более того, на удивление, я совсем забыла о нём: всё происходило настолько быстро, что моему разуму приходилось освобождать место для следующей минуты, стирая предыдущую, и со мной случалось слишком много интересного, чтобы терять время на воспоминания о Константине. Так что, когда Катон сказал, что дарит нам открытие мавзолея с останками императора, передо мной вдруг открылись небеса, и я поняла, что нам с Фарагом преподнесли будущее на блюдечке с золотой каёмочкой.
Мы обнимались, целовались, обнимали и целовали Кремня и перешли из зала для важных заседаний в большую трапезную басилейона, где Кандас с товарищами приготовили для нас настоящий пир для всех чувств.
До самого рассвета играла музыка, танцы затянулись допоздна, но когда охмелённые спиртным и праздником шасты и служители басилейона вышли с нами на улицы Ставроса, чтобы искупаться в водах тёплого Колоса (Катон ушёл в свои покои уже несколько часов назад), мы увидели, что люди выходят из домов и присоединяются к празднику с ещё большим энтузиазмом, чем мы. Снова зажглись огни, и повсюду появились дети и жонглёры. Час нашего отъезда настал, когда веселье было в самом разгаре, но Кремень и Хутенптах предупредили нас, что нам пора, что ануаки уже пришли и ждать больше нельзя.
Мы распрощались с сотнями людей, которых не знали, раздавая поцелуи направо и налево, так что в конце мы уже не понимали, кого целуем. В конце концов опять же Кремень и Хутенптах с помощью Уфы, Мирсганы, Гете, Ахмоз и Гайде вырвали нас из рук ставрофилахов и вытащили из праздника.
Всё было готово. Повозка с нашими немногочисленными пожитками уже ждала у входа в басилейон. Уфа сел на облучок, чтобы быть нашим возницей, а мы с Фарагом уселись сзади, не выпуская рук капитана Глаузер-Рёйста.
— Береги себя, Каспар, — сказала я, впервые обратившись к нему на «ты» и чуть не плача. — Мне было очень приятно с тобой познакомиться и поработать.
— Не ври, доктор, — пробормотал он, скрывая улыбку. — В начале у нас была масса проблем, уже забыла?
И тут, когда речь зашла о воспоминаниях, мне в голову пришёл один вопрос, который я обязательно должна была ему задать. Без этого я не могла уехать.
— Кстати, Каспар, — взволнованно сказала я, — правда, что форму швейцарской гвардии придумал Микеланджело? Что ты об этом знаешь?
Это было важно. Речь шла о старом неудовлетворённом любопытстве, которое мне уже не удастся удовлетворить самостоятельно. Кремень рассмеялся.
— Нет, доктор, их придумал не Микеланджело и не Рафаэль, как утверждают некоторые. Но это один из наиболее охраняемых секретов Ватикана, так что нельзя рассказывать то, о чём я тебе скажу, всем подряд.
Наконец! Сколько лет я этого ждала!
— Эту броскую форму для церемоний на самом деле придумала безымянная ватиканская швея в начала нашего века, в 1914 году. Тогдашний Папа, Бенедикт XV, хотел, чтобы его солдаты носили оригинальную одежду, поэтому попросил швею придумать парадную форму. Похоже, эту женщину вдохновили некоторые картины Рафаэля, на которых изображены яркие одежды и рукава с разрезами, следующие французской моде XVI века.
На несколько секунд я онемела от разочарования, глядя на капитана так, словно он воткнул в меня кинжал.
— Значит… — неуверенно проговорила я, — их придумал не Микеланджело?
Глаузер-Рёйст снова засмеялся.
— Нет, доктор, не Микеланджело. Их придумала женщина в 1914 году.
Может, я слишком много выпила и слишком мало спала, но я рассердилась и нахмурилась.
— Лучше б ты мне этого не говорил! — раздражённо воскликнула я.
— А теперь чего вы сердитесь? — удивился Глаузер-Рёйст. — Вы же только что говорили, что вам было приятно со мной познакомиться и работать!
— Знаешь, Каспар, как она тебя зовёт за глаза? — выдал тут Иуда-Фараг. Я так наступила ему на ногу, что и слон бы зашатался, но он даже глазом не моргнул. — Она зовёт тебя Кремень.
— Предатель! — сердито глядя на него, отрезала я.
— Ничего, доктор, — засмеялся Глаузер-Рёйст. — А я всегда называл тебя… Нет, лучше не скажу.
— Капитан Глаузер-Рёйст! — крикнула я, но в этот самый миг Уфа поднял поводья и шлёпнул ими по лошадиным спинам. — Немедленно скажите! — завопила я, удаляясь.
— Пока, Каспар! — крикнул Фараг, махая одной рукой и толкая меня на сиденье другой.
— Пока!
— Капитан Глаузер-Рёйст, немедленно скажите! — продолжала бессмысленно надрываться я, пока повозка удалялась от басилейона. В конце концов, униженная и побеждённая, я с расстроенным видом уселась рядом с Фарагом.
— Придётся как-нибудь вернуться, чтобы всё разузнать, — утешил меня он.
— Да, и чтобы его прибить, — заявила я. — Я всегда говорила, что это очень неприятный тип. Как он осмелился дать мне прозвище?.. Мне!
С момента нашего отъезда из Парадейсоса прошло пять лет — пять лет, на протяжении которых, как это и предполагалось, нас допрашивали полицейские всех стран, в которых мы побывали, и начальники служб безопасности нескольких христианских церквей, в особенности — сменивший Кремня некий Готтфрид Шпиттелер, тоже капитан швейцарской гвардии, который ни на йоту не поверил всей нашей истории и в результате стал нашей тенью. Несколько месяцев мы провели в Риме, столько, сколько понадобилось для того, чтобы расследование было закрыто и я закончила все свои дела с Ватиканом и моим орденом. Потом мы отправились в Палермо и провели несколько дней с моей семьёй, но отношения не сложились, и мы уехали раньше, чем планировали: хотя внешне все мы были прежними, между нами образовалась глубочайшая пропасть. Я решила, что единственно возможный вариант — уехать от них подальше, оказаться на безопасном расстоянии, на котором они перестанут причинять мне боль. После этого мы вернулись в Рим, чтобы вылететь оттуда в Египет. Несмотря на свои убеждения, Бутрос принял нас с распростёртыми объятиями, и спустя несколько дней Фараг вернулся к своей работе в Греко-Римском музее Александрии. Мы хотели привлекать к себе как можно меньше внимания, ведя, как советовали нам ставрофилахи, спокойную обыденную жизнь.
Шли месяцы, и я принялась за работу. Я разместилась в кабинете Фарага и связалась со старыми знакомыми и друзьями из академического мира, которые тут же начали присылать мне предложения по работе. Однако я соглашалась только на те исследования, публикации и работы, которые могла проводить из дома, из Александрии, и которые не вынуждали меня удаляться от Фарага. Я начала учить арабский и коптский языки и страстно влюбилась в египетские иероглифы.
С самого начала мы были счастливы здесь, абсолютно счастливы, и было бы неправдой утверждать обратное, но в первые месяцы постоянное присутствие поблизости проклятого Готтфрида Шпиттелера, который приехал за нами из Рима и снял дом в том же районе Саба Факна, прямо рядом с нашим домом, превратилось в настоящий кошмар. Однако постепенно мы поняли, что всё дело в том, чтобы не обращать на него внимания, делать вид, что он невидим, и уже скоро год, как он полностью исчез из нашей жизни. Наверное, вернулся в Рим, в казармы швейцарской гвардии, наконец убедившись — или нет — в том, что история про оазис Фарафра — правда.
Однажды, вскоре после того, как мы поселились на улице Мохаррем-бей, к нам явился необычный гость. Это был торговец животными, который принёс нам красивого кота, «дар Кремня», как было написано в сопровождавшей его короткой записке. Я так и не поняла, почему Глаузер-Рёйст прислал нам этого кота с огромными острыми ушами и коричневой шёрсткой с тёмными пятнами. Торговец сказал нам с Фарагом, боязливо рассматривавшим зверя, что это ценный экземпляр абиссинской породы. С тех пор это неугомонное животное гуляет по дому словно хозяин и завоевало сердце дидаскалоса (но не моё) своими играми и потребностью в ласке. Мы назвали его Кремнем в память о Глаузер-Рёйсте, и иногда от присутствия Тары, собаки Бутроса, и Кремня, кота Фарага, мне кажется, что я живу в зоопарке.
Недавно мы начали подготовку поездки в Турцию. Мы уехали из Парадейсоса пять лет назад и до сих пор не забрали наш «подарок». Пора было уже это сделать. Мы продумывали, как «случайно» попасть в мавзолей Константина, минуя фонтан омовений Фатих Джами. До сегодняшнего утра всё наше внимание было поглощено этим проектом, но сегодня тот самый торговец, который вручил нам кота Кремня, принёс нам — наконец! — конверт с длинным письмом от капитана Глаузер-Рёйста, написанное им собственноручно. Поскольку Фараг был на работе, я обулась, накинула куртку и пошла к нему в музей, чтобы прочитать письмо вместе с ним. Мы уже так давно ничего не слышали о Глаузер-Рёйсте!
Но, судя по письму, Кремень в курсе всех наших дел. Он знает, что мы ещё не были в Константинополе, и советует не затягивать поездку, потому что «всё уже улеглось», и сообщает, что уже пять лет живёт с Хутенптах. К несчастью, старый Катон скончался. Катон CCLVII покинул этот мир пятнадцать дней назад, и теперь новый, двести пятьдесят восьмой по счёту, Катон уже избран и через месяц будет торжественно представлен в Храме Креста в Ставросе. Кремень просит и умоляет, чтобы в этот день мы приехали в Парадейсос, потому что, по его словам, Катону CCLVIII будет несказанно приятно, и он будет просто счастлив, если мы сможем присутствовать на церемонии. Этот день, пишет он, должен быть самым полным в жизни Катона CCLVIII, но он не будет таковым без нашего присутствия.
Я оторвала взгляд от бумаги, той же толстой шероховатой бумаги, на которой ставрофилахи оставляли нам подсказки во время испытаний, и вопросительно посмотрела на Фарага.
— Да, кто бы это ни был, он жаждет нас увидеть! — недоумевая, заметила я. — Кто же этот новый?.. Уфа, Теодрос, Кандас?..
— Посмотри на подпись, — запинаясь, сказал Фараг с насмешливой улыбочкой и широко открытыми от изумления глазами.
Письмо капитана Глаузер-Рёйста, написанное капитаном Глаузер-Рёйстом и с именем капитана Глаузер-Рёйста на конверте, было подписано Катоном CCLVIII.
1
Евсевий (260–341) — епископ Цезареи. История церкви; О мучениках Палестины.
2
Расположенная рядом с палермским портом тюрьма «Карчери джудициарие» является самой надежной и самой охраняемой во всей Италии, в ней отбывают наказание члены мафии.
3
«Золотая легенда» («Legendi di sancti vulgari storiado») написана в 1264 году доминиканцем, епископом Генуи Иаковом из Ворагина. Это знаменитый сборник житий святых, очень популярный в свое время и в последующие века.
4
«Если б видел Христос» (ит.).
5
18 миллионов евро.
6
На латыни: Lignum Crucis, то есть «Древо Креста». Так называются все реликвии Честного Древа — Креста Господня.
7
листы, согнутые (сфальцованные) пополам.
8
сложенные вдвое листы пергамента (греч. diploma — «сложенный вдвое»).
9
заглавные буквы с кривыми чертами и углами, которые было легче писать.
10
«Дуктус» — латинский термин, обозначающий порядок, последовательность и направление движений писца при написании букв.
11
По церковной иерархии дьякон — чин ниже пресвитера или священника, они помогают священнику при отправлении церковной службы и выполняют административные функции.
12
Греческий биограф и эссеист (около 46–125).
13
Луций А. Сенека. О постоянстве мудреца, II
14
Валерий Максим. VI, 2, 5.
15
Знаменитые карманные путеводители, выпускаемые в Германии с 1829 года.
16
Здесь и далее стихи «Божественной комедии» Данте цитируются в переводе М. Лозинского. — Примеч. пер.
17
«P» — начальная буква латинского слова «peccatum» («грех»). — Примеч. пер.
18
Чистилище, песнь девятая, 112–114.
19
Для лучших вод подъемля парус ныне,
Мой гений вновь стремит свою ладью,
Блуждавшую в столь яростной пучине,
И я второе царство воспою,
Где души обретают очищенье
И к вечному восходят бытию.
20
Святая Лючия.
21
землекопатели, специализировавшиеся на рытье галерей катакомб.
22
Гипнос — Сон.
23
Танатос — Смерть.
24
Греческий вариант имени Иаков.
25
«Калос кекосметаи» — фонетическая транскрипция греческого «καλως κεκοσμεται» («прекрасно украшен»).
26
Первое блаженство Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом…» (Мф; 5,3).
27
Распространенная в Италии фамилия, означающая «добрый человек».
28
«И все-таки она вертится» — знаменитая фраза, сказанная в 1632 году Галилеем после того, как церковь заставила его отрицать, что Земля крутится вокруг Солнца, как утверждал Коперник и как доказал он сам.
29
По-итальянски: «Vedea», «O», «Mostrava». — Примеч. пер.
30
«Мы были на последней из ступеней, там, где вторично срезан горный склон, ведущий ввысь стезею очищений» (песнь XIII, стихи 1–3).
31
«Вина у них нет» — слова, звучавшие на свадьбе в Кане.
32
Обычная практика в соколиной охоте, применяющаяся для приручения птиц.
33
платок, которым покрывают голову арабы.
34
обычно чёрного цвета шнур, который придерживает кафию на голове.
35
Марк, 6, 40.
36
Эфиопский атлет, прославившийся тем, что бегал босым. Стал победителем марафонских забегов на олимпиадах в Риме (1960) и Токио (1964).
37
Мария поспешила к своей двоюродной сестре Елизавете, узнав, что та беременна.
38
пюре из икры чёрной кефали и картофеля.
39
похожее на лазанью блюдо, слои в котором образованы баклажанами, картофелем и острым мясным фаршем, а затем залиты соусом бешамель и посыпаны подрумяненным сыром.
40
пергаментные конвертики с кусочками запечённого козьего мяса.
41
Афинский порт.
42
Пс. 118, 25: «Душа моя повержена в прах».
43
Публий Папиний Стаций (50–96 гг. н. э.).
44
«Passu longu e vucca curta» — главный девиз омерты, кодекса мести сицилийской мафии. С помощью этой фразы мафиози напоминают друг другу о знаменитом «законе молчания».
45
На жаргоне «Коза Ностры» так называют мафиози, живущих в сельской местности.
46
По-итальянски: Sciarra и Salina. — Примеч. пер.
47
Дон — старейший глава кланов, входящих в «Коза Ностра».
48
Капо — главы мафии.
49
Лупара — обрезная двустволка, заряжаемая дробью.
50
Изогнутая корма судна.
51
императорская корона.
52
декоративные подвески к императорской короне.
53
императорская диадема, иногда украшавшаяся гребнем из павлиньих перьев.
54
туника, являющаяся частью византийской императорской атрибутики.
55
оплечье с драгоценными камнями, который могли носить лишь императоры и особы императорского рода.
56
шелковый мешочек с пылью, одна из отличительных принадлежностей императоров.
57
соус или белая паста из кунжута.
58
пирожные из молока, орехов, изюма и кокоса.
59
пирожное из слоёного теста с мёдом.
60
пирожное из слоёного теста с сахаром, фисташками и кокосовым орехом.
61
пирожные из дроблёной пшеницы, молока, орехов, изюма и розовой воды.
62
Статья Дугласа Джела, опубликованная в «Нью-Йорк таймс» и воспроизведённая в газете «Эль Паис», в разделе «Общество», от понедельника, 22 марта 1999 года.
63
Арабское приветствие.
64
Элий Спартиан. Жизнеописания Августов. Антонин Каракалла (13, 6, 2–4).
65
Кадуцей. Увенчанный двумя крыльями посох, вокруг которого обвились две змеи. Он был символом бога Гермеса, посланника богов.
66
Озеро на севере Египта, в западной части дельты Нила. Александрия расположена на полосе земли между этим озером и Средиземным морем.
67
Окарина — род флейты, духовой музыкальный инструмент со свистковым устройством. — Примеч. пер.
68
Река Нил образовывается на слиянии Белого и Голубого Нила в Хартуме, столице Судана. Истоки Белого Нила находятся в центральной Африке, и он даёт лишь 22 % водной массы, а Голубой Нил зарождается в озере Тана на Эфиопском плоскогорье и вливает в Нил оставшиеся 78 % воды.
69
Греческое приветствие, означающее «здравствуй».
70
По-гречески «рай».
71
По-гречески «дворец».
72
По-гречески «учитель, профессор».
73
византийское воинское звание, соответствующее рангу капитана.
74
музыкант, играющий на лире.
75
Названия городов в Земном Раю означают «Крест» (греч. «ставрос»), «Крестный» (лат. «круцис», родительный падеж слова «крест»), «Эдем» и «Древо» (лат. «лигнум»). — Примеч. пер.
76
По-гречески «туника».
77
резчик по драгоценным камням.
78
Английский писатель и искусствовед (1819–1900).
79
По-гречески «усеченный».
80
Очень популярная в Византии игра. Две команды всадников, разделённые линией, должны поймать друг друга после того, как в воздух подбрасывался помеченный с одной стороны камень. Этот камень определял, какая команда первой бросается за противником.
81
Стадий в Византии равнялся 1/8 римской мили, то есть приблизительно 185 метрам.
82
род драматических представлений на религиозные или аллегорические сюжеты. — Примеч. пер.
83
Канонарх — монах-регент, который в византийских и православных монастырях руководит пением псалмов и призывает монахов к молитве ударами деревянного бруса.