Книга: Кем вы ему приходитесь?
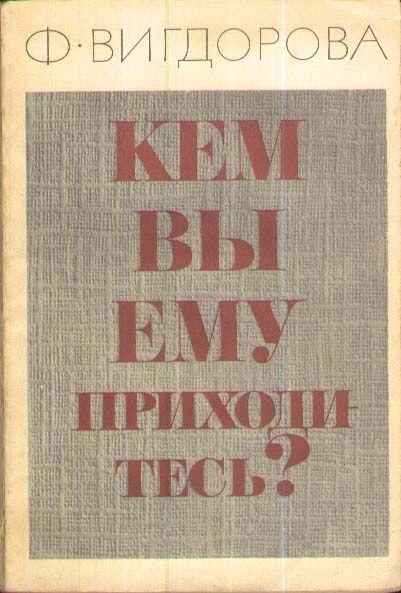
Кем вы ему приходитесь?

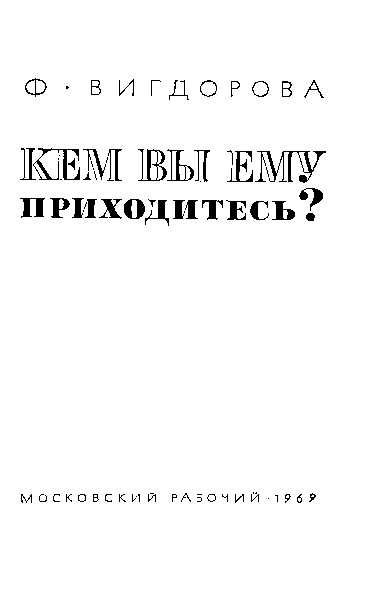
Фрида Абрамовна Вигдорова, известная писательница и журналистка, пришла в литературу из педагогики. Она была учительницей, и ее работа в школе дала ей большой материал для раздумий и наблюдений, понимания сложных характеров и сложных жизненных конфликтов — всего, что отличает ее книги «Мой класс», «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка», «Семейное счастье», «Любимая улица».
Еще работая в школе, Ф. Вигдорова стала печататься в газетах и скоро приобрела широкую известность писателя-публициста.
Она была легка на подъем и отправлялась в путь, подчас совсем нелегкий, всякий раз, когда ее звал сигнал тревоги и гражданский долг. Журналистские командировки, работа депутата (последние два года жизни она была депутатом районного Совета) дали ей огромный жизненный материал. Вслед за ней мы с вами оказываемся то в общежитии молодых рабочих, то в колхозной избе; вместе с ней слушаем разговор в дальнем автобусе или присутствуем на пионерском сборе. Она была человеком богато одаренным, обладавшим и верным глазом, и точным слухом. Серьезность мысли и горячность чувств, свойственные ее статьям, сочетаются с живостью и яркостью изложения.
Писала ли Вигдорова о внутреннем мире ребенка, о столкновении сердечности и бессердечия, рассказывала ли о трудной судьбе парня, попавшего за решетку, или о светлых людях (у нее был редкий дар писать о хороших и добрых людях), — ее слово всегда было правдиво и точно. Она была мужественным человеком в жизни и литературе. Недаром теме мужества посвящены ее лучшие работы.
В этой книге собраны очерки и статьи Ф. Вигдоровой, публиковавшиеся в разное время на страницах газет и журналов. Материал расположен в хронологическом порядке, по годам его написания. Этот хронологический принцип дает возможность показать, как мужал и креп с годами талант писательницы, как первоначальная «педагогическая» тема, сама по себе, конечно, очень важная, становилась все шире и глубже, перерастая в тему общенравственную и гражданскую. Достаточно сравнить ее ранние статьи, такие, как «Отцовский долг» или «Они все разные», написанные в сороковых годах, с работами, созданными десятилетием позже, такими, как «Костер без пламени» или «Пресная вода резонерства», чтобы почувствовать силу этого мужания и роста.
Читателю легко убедиться, что статьи и очерки Ф. Вигдоровой, собранные в настоящей книге, ни в малейшей степени не утеряли своей яркости и не перестали быть актуальными.
В прошлом Елена Николаевна была учительницей. Теперь болезнь сердца принудила ее оставить работу. Но в начале этого года к ней зашла мать ее бывшего ученика Вани Петрова и попросила заняться с мальчиком арифметикой. Елена Николаевна согласилась. Ваня стал приходить к ней, и вскоре она с недоумением убедилась, что перед нею новый, совсем незнакомый ребенок. За последнее время неузнаваемо изменился его облик, манеры, самый его характер. Она помнила его живым, смышленым мальчиком; теперь он мог подолгу сидеть неподвижно, насупясь, почти не слушая ее объяснений. Елена Николаевна пробовала расспрашивать, как он живет, что делает дома, — он отвечал неохотно, почти грубо, чего прежде не бывало, а однажды швырнул на пол учебник, лег головой на стол и расплакался.
После долгих, терпеливых расспросов Елена Николаевна поняла, наконец, в чем дело: уехал отец. Уехал и не пишет вот уж четвертый месяц.
Елена Николаевна поговорила с матерью Вани. Та сдержанно подтвердила: да, муж командирован на работу в другой город. В ближайшем будущем, вероятно, возьмет семью к себе. Деньги он присылает аккуратно, но писем действительно не пишет.
— Тогда, знаете, собралась я с духом и написала ему, — рассказывает Елена Николаевна. — Мы не знакомы, но я ведь не зла ему желаю, правда?
И она написала. Написала мягко, деликатно, чтобы не задеть, не оскорбить незнакомого человека. Рассказала, как огорчает мальчика отсутствие писем, осторожно напомнила, что отцовский долг состоит не только в регулярной присылке денег.
Некоторое время спустя она получила ответ. Офицер Г. писал так:
«Уважаемая Елена Николаевна! У меня сохранено чувство отца в той степени, как это требуют условности нашего времени.
Мой сын Ваня — мальчик большой силы воли и темперамента. Для вас, педагога, анализы характера и темперамента чрезвычайно необходимы. По вашей специальности имеется «бог» Ф. И. Буслаев. Он в «Педагогических началах» пишет: «Педагог должен развивать, образовывать и упражнять способности учащихся…» (Библиотека учителя. Ф. И. Буслаев. «О преподавании отечественного языка». Учпедгиз, 1941 г.).
Вы чудесный человек и преподаватель и следуете лучшим заветам русских воспитателей… Прошу Вас принять все меры к тому, чтобы уменьшить страдания матери из-за Вани:
а) научите его хорошо знать таблицу умножения,
б) решать задачи, начиная с простых,
в) уважать маму.
И наконец, разрешите Вам крепко, дружески пожать руку. Надеюсь, в скором времени встретиться с Вами и лично поблагодарить… Г.»
Вот как ответил этот отец учительнице своего сына! Свысока он поучает ее и для большей убедительности цитирует Буслаева, который, кстати, «бог» не столько в педагогике, сколько в лингвистике, и к вопросам воспитания, каковыми будто бы интересуется Г., имеет не столь уж прямое отношение. Он снисходительно указывает учительнице на ее обязанности, перечисляя по пунктам: обучить таблице умножения — это на первом месте, научить уважать мать — это на третьем…
К кому обращены эти барственно-покровительственные наставления? Что за человек Елена Николаевна? Читатель не знает ее. Пусть же он не посетует, что мы предлагаем его вниманию еще два письма.
В одном из них отец некой девочки по имени Оля пишет Елене Николаевне, находившейся тогда в Рязани, что девочка во что бы то ни стало хочет учиться у нее. Отец готов отправить Олю вместе с матерью в Рязань и спрашивает только, считает ли Елена Николаевна их приезд целесообразным.
На этом письме стоит дата — 16 августа 1941 года: в первые недели войны, когда каждому приходилось решать судьбу свою и своей семьи, отец Оли заботится о том, чтобы его девочка продолжала учиться у своей любимой учительницы, хотя это и связано с трудностями, с поездкой…
Второе письмо написано крупным, еще не вполне установившимся почерком:
«Здравствуйте, дорогая Елена Николаевна! Сегодня мама пришла домой и сообщила мне большую радость. Оказывается, она встретила Вас. Елена Николаевна, я Вам очень благодарен за то, что Вы не забыли своего старого ученика, который учился у Вас во втором и третьем классах. Елена Николаевна, меня очень расстроила Ваша болезнь. Очень благодарю Вас за совет, Ваши слова для меня закон… Елена Николаевна, я никогда не забуду Вас и Вашу работу за два года учения. Желаю Вам выздоровления и дальнейшей счастливой жизни. Целую Вас крепко. Ваш ученик Володя Одинцов».
Этому юноше уже шестнадцать лет, много времени прошло с тех пор, как он учился в классе Елены Николаевны, но вот какие горячие, сердечные слова находит он для своей бывшей учительницы. В этом письме, как и в письме отца Оли, в полный рост отразился человек, к которому они обращены: умный, добрый, чуткий, человек, которого с искренней любовью, с неподдельным уважением помнят долгие годы.
Благодарная людская память не дается даром, ее надо заслужить. А ведь у Елены Николаевны своя нелегкая судьба, свое горе. Уже давно она осталась одна с тремя детьми, одна, без чьей-либо помощи воспитывала их. На это нужно было немало сил физических и душевных. И, однако, эти силы, внимание, время щедро отдавались еще и чужим детям, в том числе и сыну офицера Г. Елена Николаевна сумела увидеть, что у мальчика лежит на душе какая-то тяжесть, и постаралась помочь ему. Она обратилась к его отцу, и мы видели, с каким высокомерием он ответил ей.
Иному может показаться, будто в письме офицера Г. ничего плохого, неуважительного нет: налицо и признание, что Елена Николаевна «чудесный человек и преподаватель», и выражение благодарности. Но вдумайтесь, вглядитесь пристальнее. Человек пишет: научите моего сына таблице умножения, научите его решать задачи. Превосходно — это прямой долг Елены Николаевны, и, поскольку она взялась за это дело, Ваня, несомненно, будет успевать по арифметике. Но кто, если не сам офицер Г., прежде всего должен научить своего сына уважать мать? Трудно тут что-либо сделать кому-то третьему, потому что всего лучше и убедительнее живой пример, а мальчик видит, что отец пренебрегает семьей, не пишет, не проявляет на деле ни любви, ни уважения.
Возмущает первая же фраза в письме офицера Г. Что это за «условности нашего времени» и какую именно «степень» отцовской любви они диктуют? Как видно, температура этой любви у Г. весьма невысока, если она подвержена влиянию «условностей», если все ее проявления ограничиваются посылкой денег, при полном невнимании к внутреннему миру сына, к его печали и радости.
Попробуем понять, что же в конце концов произошло? Были отец и сын. Отец — это очень много для ребенка, его место в семье ничем не заполнить, его авторитет, вера в его силу и правоту у ребенка непоколебимы. И вот отец уехал. Уже самая разлука тяжела для мальчика. А отец ничего не сделал, чтобы облегчить сыну эту тяжесть, он не делает даже самого простого и естественного: не пишет. Проходит четыре месяца — писем нет, и мальчик, замкнувшись в себе, с горечью ищет объяснений.
Ищем их и мы. Каковы бы ни были условия («условности») нашего времени, о которых упоминает офицер Г., остается непонятным: неужели за все четыре месяца он совсем не думал о сыне? Не скучал о нем? Не хотелось ему знать, что теперь делает мальчик, как его успехи в школе? Странный отец, которому даже не любопытно, чем увлекается его сын на досуге, как развиваются его способности, крепнет мысль, складываются собственные мнения и пристрастия, — отец, которому неинтересно, каким человеком обещает стать его ребенок, и у которого нет желания своей рукой поддержать и направить этот драгоценный человеческий рост.
Кто же должен думать и заботиться об этом, если не отец? Мать? Смешно и нелепо было бы спорить: огромно материнское влияние на ребенка, важно и весомо слово материнского упрека или ласки. Но это не все, и особенно для ребят постарше: они нуждаются в поддержке, влиянии, примере отца.
Нет, именно в наших сегодняшних условиях, как никогда, ни один отец не имеет права забывать о своих отцовских обязанностях. И остается только пожалеть того бедного душой отца, который не понимает, что эти отцовские обязанности не только хлопотное, долгое, утомительное дело, но и большая радость, не понимает, что это приносит подлинное счастье, делает жизнь человека богатой, осмысленной и полной.
Не «условности», не внешняя форма, а условия нашего времени всегда диктовали и диктуют одну «степень» отцовского, родительского чувства: самую высокую. Долг отца — не только обеспечить ребенка материально, но и заботиться о его развитии, о его характере, воспитать его хорошим, достойным человеком, полезным и деятельным. И напрасно думает офицер Г., что всем этим обязан заниматься за него кто-то другой, кого можно в благодарность снисходительно похлопать по плечу.
Этот пример — не исключение. Многие родители полагают, что они вправе начисто отделаться от всех нематериальных обязанностей по отношению к детям, полностью передоверить дело воспитания школе: дескать, я — отец, я кормлю и одеваю своего ребенка, а вы — педагоги, вот вы и воспитывайте, и если что-нибудь не так, я же к вам приду с претензиями. Отсюда и этот надоевший припев: «И чему их только в школе учат!», который слышишь ежедневно от взрослых, недовольных поведением ребят на улице, в общественных местах. Недовольство это почти всегда справедливо, но что сделали сами взрослые — отцы и матери, чем помогли школе воспитывать своих детей?
В долгой беседе с нами Елена Николаевна рассказала, между прочим, такой характерный случай: отец одной из ее учениц, у которой не все было благополучно с успехами, упорно не отвечал на записки Елены Николаевны и не явился в школу, несмотря на все просьбы. Елене Николаевне пришлось позвонить в одиннадцать учреждений (маленькая девочка не знала, где работает отец), пока она, наконец, разыскала этого папашу и смогла поговорить с ним о его дочери.
Справедливо считают, что педагог должен знать, как живут его ученики в семье, знать их быт, их домашние условия. И каждый хороший, чуткий воспитатель, как только явится надобность, постарается зайти домой к ученику, побеседовать с родителями. Но можно ли требовать, чтобы он обошел все сорок домов? Не легче ли, не проще ли родителям время от времени заглянуть в школу, где учится их ребенок, и поговорить с учителем? Труд учителя — это в полном смысле слова святой, благородный и притом очень тяжелый труд. И прямой долг каждого из нас — уважать учителя, воспитателя наших детей, и всеми силами помогать ему в его большом и прекрасном деле. Постыдно, уродливо, недостойно отношение к учителю, как к слуге, барское пренебрежение, которое позволяет себе офицер Г.; постыдно, уродливо его равнодушие к сыну.
1946 г.
Мише восемь лет, он уже школьник. Но ходит он в школу неохотно, рассказывает о ней скупо. Между тем у него молодая учительница, и остальные дети любят ее: веселая, интересно рассказывает, читает ребятам книжки. Но Миша никак не может освоиться с классом. На уроках он напряженно слушает и как будто все понимает. Когда учительница спрашивает: «Что же мы узнаем во втором вопросе задачи?» — он вместе с другими поднимает руку. Но едва Зоя Константиновна останавливает на нем свой взгляд, Миша тотчас начинает тереть себе глаз, словно только потому он и поднял руку, что глаз зачесался…
Миша плохо успевает. Он хорошо решает задачи дома — и становится в тупик перед самой простой задачей в классе. Он твердо знает, что, если слово женского рода кончается шипящей согласной, нужно поставить мягкий знак, но в диктанте он старательно вывел: «мыш», «рож». Учительница предупредила мать: Мишу, очевидно, придется оставить на второй год. Мать рассказала о том, каков мальчик дома: он и старателен, и соображает неплохо, но вот беда — застенчив очень, может быть, потому и в классе теряется… Учительница ответила:
— У меня их сорок, я не могу знать каждого в отдельности.
Нам захотелось побывать у нее в классе, понять, чем продиктован этот ее ответ: равнодушием? холодностью? безразличием?
…Это был хороший урок. Ребята по очереди читали, задавали вопросы. В следующий час разбирались ошибки недавнего диктанта, и ребята охотно, наперебой придумывали предложения. Зоя Константиновна вела себя просто и непринужденно, видно было, что и ей интересно вести урок. В классе была приятная, оживленная атмосфера дружной работы. И мы все чаще поглядывали в тот угол, где молча сидел застенчивый Миша. Почему он молчит? Потом мы поговорили с Зоей Константиновной. Она преподает второй год. Работа очень нравится ей, увлекает. Что ей было трудно на первых порах?
— Научить ребят решать задачи. Еще — научить устному счету. И правописание безударных гласных — тоже трудная штука.
— Ну а ребята у вас хорошие?
— Очень хорошие!
— Скажите, вон тот, на первой парте, — что он за мальчик?
— О, прекрасный мальчик. У него одни пятерки. Очень развитой и смышленый.
— А тот черноглазый, в голубой рубашке?
— Это троечник. Средний ученик. Но дисциплинированный.
— А вот тот, курносый, с веснушками?
— У этого вообще четверки, но по арифметике ниже пяти не бывает.
И вдруг все эти ребята — черноглазые и голубоглазые, смуглые, светловолосые, веснушчатые — все стали на одно лицо, и уже только одно отличало их: четверочник, троечник, двоечник, отличник…
Зоя Константиновна молодая учительница, она работает в школе только два года. Она на хорошем счету: четко работает, хорошо объясняет. И никто ей не скажет: «Но ведь это еще не все! Почему вы не посмотрите вглубь, не попытаетесь разобраться в характерах своих ребят? Разве можно охарактеризовать школьника одними отметками?»
Если спросить любого опытного педагога: что всего важнее для учителя? — он скажет: любить ребенка и знать его. Это первое правило, общеизвестный и неоспоримый закон. Так почему же молодая учительница, которая хорошо окончила одно из лучших московских педагогических училищ и, видимо, искренне любит свою работу, — почему она так спокойно произносит противоестественную в устах учителя фразу: «У меня их сорок, я не могу знать каждого»? Как же тогда работать с учениками, если не знать их? Как обучать их орфографии и таблице умножения? Как учить ребят, если не понимаешь: вот тот мальчуган, что поднял было руку, а теперь смущенно почесывает глаз, — он делает это от застенчивости, и твой строгий взгляд лишил его последней веры в свои силы.
Почему, когда эту молодую учительницу спрашиваешь, какие трудности встретила она на первых порах своей работы, она вспоминает и об устном счете, и о безударных гласных, и о многозначных числах, и об умножении в пределах ста, но ни словом не упоминает о характерах своих учеников? Ведь все они разные, эти мальчишки, — стоит только взглянуть на их лица, чтобы увидеть: есть среди них порывистые и вялые, неподатливые и мягкие, есть непоседы, упрямцы и добродушные увальни. А для учительницы все они — только троечники или пятерочники. Как будто отметка может исчерпать человека, будь он даже всего восьми лет от роду!
Думается, это очень опасно и для молодой учительницы, и для ее учеников. Пройдет еще год-два, ребята подрастут, резче, определеннее в хорошем и дурном станут их характеры. Учительница неминуемо натолкнется на новые, непредвиденные препятствия, и тогда ей будет гораздо труднее преодолевать их.
В 636-й московской школе преподает в младших классах Наталья Андреевна Митина. Она учительствует уже сорок лет. Когда разговариваешь с Натальей Андреевной о ее учениках, кажется, что и тебе давно хорошо знаком каждый из них. Список фамилий оживает. Узнаешь о ребятах такие подробности, какие могут быть известны только самому близкому человеку, — пожалуй, только умной и наблюдательной матери.
Примечательно: с особенным оживлением и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших, примерных учениках, но о тех, с которыми трудно. Вот этот два года прожил в оккупированной местности. Однажды немец для чего-то велел ему принести топор. Мальчуган испугался: «Зарубит!» — и лишился речи. И ноги у него тоже отнялись. Выздоровел он не сразу: речь вернулась, но мальчик остался заикой. В первый класс он поступил с двухлетним опозданием — ему уже минуло девять лет. На уроках сидел молчаливый, безучастный и со слезами на глазах смотрел в окно, ожидая, пока за ним придет мать. Чувствовалось также: он очень стесняется того, что он такой большой, — не только старше, но и гораздо выше всех ростом.
Наталья Андреевна стала подчеркивать это как достоинство: «Вот Витя у нас самый высокий, он поможет повесить картину», «Витя, ты выше всех, помоги мне достать книги с верхней полки». Зная, что мальчик мучительно смущается, когда к нему обращаются на уроке, она старалась заранее предупредить его о том, что скоро спросит — или просто взглядом, или какой-нибудь случайной фразой: «Напишем сейчас вот это предложение, а потом Витя расскажет нам…» И Витя успевал внутренне подготовиться к необходимости заговорить.
Так постепенно, неуловимо для постороннего взгляда учительница завоевала мальчугана. Ни одна его удача не осталась незамеченной, ни одна буква, которую Витя сегодня написал красивее, чем вчера. Исподволь, шаг за шагом, Наталья Андреевна заставила мальчика самого поверить в свои силы.
Теперь Витя кончил третий класс. Читая его дневник-характеристику, — Наталья Андреевна ведет подробные записи о каждом из своих ребят, — можно узнать все, что произошло с ним за эти три года. Мальчик выравнялся, подружился с учительницей, но все еще стоял в стороне от товарищей: мешало самолюбие; он видел, что другие лучше учатся, бойчее, свободнее себя чувствуют. Надо было как-то поднять его в глазах класса. Нашелся повод и для этого: Витя очень удачно нарисовал в тетрадке зимний лес и испуганного, скачущего во всю прыть зайца. Наталья Андреевна предложила мальчику перерисовать это на отдельном большом листе; затем картину повесили на доске и всем классом придумывали к ней рассказ: что тут изображено, что было до того, как заяц так испуганно помчался, что случилось с ним потом… Раза два Наталья Андреевна заметила: «Это Витя хорошо нарисовал, выразительно. Посмотрите, какие у зайца испуганные глаза, как он прижал уши. Мы давно уже не рассказывали по такой хорошей картинке». И одноклассники посмотрели на Витю с интересом и уважением, а человек становится сильнее, когда в него верят другие.
Если в Вите Наталья Андреевна должна была поддерживать каждую едва заметную попытку расправиться, поднять голову, оглядеться, то с Валей пришлось поступить совсем по-иному. Этот мальчуган пришел в школу с твердым убеждением: «Я самый лучший. Я самый умный. Все, что я делаю, хорошо». Конечно, это единственный сын. («У меня в классе семнадцать единственных», — со вздохом говорит учительница.) Тут корень зла не в самом Вале, но в Валиной маме, — это она убеждена в превосходстве своего мальчика над всеми остальными.
В подобных случаях Наталья Андреевна приглашает родителей в школу. Им очень полезно побывать на уроках и воочию убедиться, что их ребенок не лучше и не хуже других; полезно узнать, что некоторые дети читают более бегло и лучше считают в уме. Самого Валю Наталья Андреевна не одергивает, не твердит: «Не зазнавайся!», но и не позволяет ему стать над одноклассниками. Вот он насорил и хочет, чтобы за ним убрал товарищ, но нет, пусть уберет сам! Вот он решил задачу раньше всех и победоносно оглядывает класс, а Наталья Андреевна спокойно, не повышая голоса, напоминает: он забыл сделать поля, написал небрежно, посадил две кляксы, тетрадка у него помятая, неопрятная… С таким мальчуганом работать, может быть, еще сложнее, чем с робким и замкнутым Витей. Но Наталья Андреевна неутомимо воспитывает его, пристально следит за всеми проявлениями этого неровного и заносчивого характера, чтобы вовремя выправить его, пока все эти углы и колючки еще не успели отвердеть, чтобы Валя не вырос плохим товарищем, плохим работником, плохим членом общества.
Это так называемые трудные случаи. Ну, а те, кто учится хорошо, благополучные дети, успевающие ученики? У Саши и Мити в тетрадях одно и то же — пятерки. Табели одинаковые. Но ребята разные. Сашин сосед опрокинул чернильницу, залил парту. Саша заставил его все вытереть и вымыть, а учительнице ничего не сказал. Митя то и дело тянет руку: «Наталья Андреевна, Коля измазал свою тетрадку! Наталья Андреевна, Коля просил у вас учебник, а у него есть свой!»
— Разве ты Коля? — спокойно спрашивает Наталья Андреевна. — Коля мне все сам скажет, если захочет.
Наталья Андреевна знает, кто из ребят с кем дружит и кто с кем поссорился. Она знает, кто как живет, о чем думает, чем увлекается, знает, кто кем мечтает стать в будущем. Сорок ребят — сорок разных характеров, нет двух похожих, которые можно было бы спутать друг с другом. И Наталья Андреевна просто не может сказать: «У меня их сорок, не могу же я знать каждого!» — ибо она не сможет сделать ни шагу, если не будет знать. Не знать каждого из ребят — значило бы для нее обречь себя на работу вслепую, без малейшей надежды на успех.
И те, кого учила, растила, воспитывала Наталья Андреевна Митина, не забывают свою учительницу. Бывшие ученики нередко навещают ее. А после войны, когда подчас так сильно желание оглянуться на прошлое, заново пересмотреть свою жизнь, в школу началось настоящее паломничество. Приходили взрослые, семейные, приходили, чтобы увидеть ту, которая учила их очень давно, в их первые школьные годы. След, оставшийся в их сердце, в их сознании с тех далеких лет, неизгладим. Они помнят не только то, что учительница научила их читать и писать. Помнят и другое: она научила понимать, что хорошо и что плохо. Это благодаря ей стали омерзительны ложь, криводушие. Благодаря ей впервые открылась тебе неисчерпаемая радость узнавать с каждым днем все больше. Благодаря учительнице еще тогда, в детстве, ты впервые понял, что горячо любишь свою родную страну и хочешь многое для нее сделать. Все самое светлое, чем ты дорожишь с детства, — пробуждение твоего ума и сердца, все лучшее в тебе самом — накрепко, незабываемо связано с этим человеком, учившим тебя видеть и понимать жизнь.
Скажут: но можно ли так беззаветно, безраздельно отдать себя детям, школе?
Да, правда: такая работа отнимает много сил и времени. Ей нельзя отдавать себя вполовину, формально, «от сих и до сих». Но если ты сказал себе: «Я буду учителем», — ты тем самым принял на свои плечи большую, тяжелую ношу. Ты учитель — это значит: неустанный труд. Постоянное напряжение всех душевных сил. Упорное, безостановочное движение вперед. Это значит — ни часа самоуспокоенности и самодовольства, когда могло бы притупиться внимание, ни минуты, когда можно сказать себе: вот, все хорошо, все достигнуто, все сделано. Это значит — огромная, ни с чем не сравнимая ответственность: за растущих людей, за их ум и характер, за их будущее. И это — такое же огромное, ни с чем не сравнимое счастье. Но оно может быть подлинным и полным только тогда, когда ты действительно знаешь и любишь тех, чей будущий человеческий облик во многом зависит сейчас от твоих усилий, внимания, труда, — твоих учеников.
1947 г.
В одной ленинградской школе учится девочка Оля. Олина классная руководительница Мария Ивановна В. с самых первых дней заметила, что Оля не в ладах с арифметикой и русским языком, а также с географией, ботаникой и другими предметами. Девочка прежде училась в другой школе и пришла сюда только нынешней осенью, поэтому Мария Ивановна не знала Олиных родителей и решила, не откладывая дела в долгий ящик, познакомиться с ними.
— Попроси маму, чтобы пришла ко мне завтра, — сказала она Оле.
— Мама отдыхает, она в Сочи, — последовал ответ.
— Тогда пускай папа придет.
Девочка вздохнула. На другой день, пряча глаза и запинаясь после каждого слова, она сказала учительнице:
— Папа велел… Папа велел сказать… — И вдруг, словно бросаясь в холодную воду, докончила: — Он сказал, если надо, сама придет…
Видно, Оле очень хотелось смягчить отцовские слова. Но она еще не владела искусством оттенков и не сумела этого сделать. Слова эти прозвучали с той первобытной грубостью, какую вложил в них Олин отец.
Мария Ивановна решила так: важнее всего — ребенок, самолюбие — потом. И она написала Олиному папе такую записку: «Уважаемый Андрей Михайлович, настоятельно прошу Вас зайти в ближайшие дни. Мне очень нужно побеседовать с Вами об Олиной успеваемости».
На сей раз уважаемый Андрей Михайлович тоже решил обратиться к эпистолярному жанру. И он ответил воспитательнице своей дочери слово в слово так:
«Вам должно быть известно, что я занимаю достаточно высокий пост и являюсь ответственным работником. У меня физически нет времени на хождения в школу, это ваша обязанность посещать детей на дому».
Мария Ивановна долго размышляла над этой запиской. Друзья уговаривали ее немедля отослать этот любопытный документ в то самое учреждение, где Андрей Михайлович занимает столь высокий пост. Но она не сделала этого, потому что привыкла всякий свой шаг и всякий поступок сообразовывать с главным: хорошо ли это для той, во имя которой и затеяны столь сложные переговоры, хорошо ли это для Оли? И Мария Ивановна, сдержав гнев и возмущение, пошла домой к своей ученице.
Андрей Михайлович обедал, когда в дверь постучали.
— Войдите! — сказал он.
В комнату вошла женщина лет пятидесяти, седая, в скромном платье.
— Андрей Михайлович? Здравствуйте. Я учительница вашей дочери, — сказала она.
— Чем могу служить? — осведомился Андрей Михайлович, разрезая отбивную котлету и не приглашая гостью сесть.
Так, стоя, женщина объяснила Андрею Михайловичу, что привело ее к нему в дом. Андрей Михайлович слушал ее, не прерывая обеда, потом сказал:
— Вот жена приедет, она займется этим вопросом. А вообще я ведь не прошу, чтоб вы мне помогали в моей работе. Полагаю, что вы со своей работой тоже должны справляться самостоятельно.
Эти слова, видимо, и стали той каплей, которая переполнила чашу. Вернувшись домой, Мария Ивановна написала письмо, в котором сдержанно и гневно рассказала о случившемся.
«Не в моей обиде дело, хоть обида моя и глубока, — писала Мария Ивановна. — Я считаю, что он, оскорбив меня, оскорбил все учительство. Разве воспитание его дочери — только мое дело? Как он может говорить: «У меня физически нет времени» — ведь он не говорит, что у него нет времени пить и есть, а воспитание своего ребенка разве не такая же естественная обязанность и необходимость? Кто освободил его от ответственности за Олю? Кто возложил эту ответственность только на мои плечи? Если Вы будете писать об этом случае, не сообщайте его имени — дело не в нем, я утверждаю, что так ведет себя не он один. Моим товарищам, таким же учителям, как и я, нередко приходится сталкиваться с неуважением и грубостью со стороны родителей».
Как ни горько, Мария Ивановна права. То, о чем она пишет, не исключение, как не исключение и сам Андрей Михайлович.
Но бывает еще и по-другому.
В пьесе С. Михалкова «Красный галстук» есть такая сцена: демобилизованный офицер Кочубей (имени и отчества автор ему не дал) приходит к Кузьме Емельяновичу Вишнякову и говорит:
«— Я к вам, товарищ Вишняков, пришел не как к депутату, а как к родителю.
Вишняков. Простите, не понял. Почему к родителю?
Кочубей. Я ведь учитель. Педагог. Так вот, сейчас я вернулся к своей основной профессии.
Вишняков. Понимаю.
Кочубей. Я работаю в 21-й школе. Руковожу шестым классом «Б», в котором учится ваша дочь Марина. Я по поводу нее. В будни вы очень заняты, поэтому я решил зайти к вам в воскресенье. Меня беспокоит успеваемость вашей дочери…
Вишняков (перебивая). Пройдемте в другую комнату. Здесь нам будут мешать.
Кочубей. Пожалуйста. (Уходят.)»
Некоторое время спустя они возвращаются.
«Вишняков. Очень хорошо сделали, что зашли. А Мариша у меня выправится. Ей многое с трудом дается, но, мне кажется, то, что она выучила, это уже на всю жизнь.
Кочубей. Да. Другой тебе ответит быстро и гладко, а спросишь его о том же через неделю — он уже все забыл. Вы извините, что я вас задержал.[1]
Вишняков. Хорошо сделали, что зашли. Вообще, не стесняйтесь, заходите…»
Никак нельзя понять, кто кому здесь оказывает услугу. Почему Кочубей так смиренно извиняется перед Вишняковым? Ведь он пришел не ради себя, он пришел сообщить отцу, что дочка его не успевает в ученье. За что же тут извиняться? И почему Вишняков так барственно-снисходительно, словно похлопывая учителя по плечу, заявляет: «Хорошо сделали, что зашли. Вообще, не стесняйтесь, заходите». Почему, собственно, Кочубей должен стесняться? Разве он пришел просить себе каких-то льгот и поблажек? Нет, он пришел помочь Вишнякову. Уж если кому следует стесняться в этой сцене, так депутату Вишнякову. Он не потрудился познакомиться с человеком, которому доверено воспитание его дочери. Почему Кочубей должен ходить к Вишнякову, а не Вишняков к Кочубею? Потому что Кузьма Емельянович — ответственный работник? Потому что он очень занят? А разве у учителя много свободного времени? Кочубей и впрямь «хорошо сделал, что зашел», но это никак не исключает того, что и Вишняков должен бывать в школе и знать, как учатся и как ведут себя его дети. А уж если он, отец, не сделал этого и учитель пришел к нему, то не учитель, а нерадивый отец должен бы извиниться и поблагодарить за внимание и заботу о своей дочери.
Надо сказать, что картина, нарисованная С. Михалковым, довольно типична. Жаль только, что поведение Вишнякова явно нравится драматургу: вот, мол, какой демократичный этот товарищ Вишняков! На самом же деле эта сцена, вопреки желанию драматурга, разоблачает Вишнякова, рисует его барином, который унижает и оскорбляет учителя, хотя, впрочем, Кочубей, извиняющийся за то, что он осмелился отнять у депутата Вишнякова несколько минут, сам унижает себя.
Да, Вишняков ведет себя не так откровенно по-хамски, как позволил себе «ответственный» отец Оли. Но суть поведения Вишнякова та же: неуважение к учителю.
Однажды Иван Кузьмич Новиков, директор 110-й московской школы, рассказал мне такой случай.
В девятом классе учился мальчик, которому такие понятия, как «дисциплина», «порядок», «обязанность», казались нелепой выдумкой. Он с легкостью обходился без них — в школе и дома. Дома с этим мирились, считая Володю драгоценным исключением, которому все позволено. В школе мириться не хотели, справедливо полагая, что большие способности отнюдь не освобождают от обязанностей.
Иван Кузьмич вызвал Володиного папу в школу. Володин папа ответил почти так же, как Олин: «Если я нужен директору школы, пускай придет ко мне в министерство».
Здесь настало время сообщить, что Володин папа был министром, и времени у него действительно было мало. Однако Иван Кузьмич поднял телефонную трубку, набрал номер Володиного папы и сказал:
— Для своих сотрудников вы министр. Для меня вы отец Володи. Я вызываю вас в школу и прошу приехать незамедлительно.
К чести Володиного отца, надо сказать, что он больше не ссылался на свое высокое служебное положение и в тот же день сидел в кабинете у Ивана Кузьмича. Иван Кузьмич был великодушен и отказал себе в удовольствии напомнить министру, что человек никогда не утверждает, будто ему некогда дышать — он попросту дышит. (А воспитание сына не такая ли необходимость для отца, как дыхание?) Нет, он был великодушен и не сказал этого. Он прямо начал с дела: как быть с Володей?
Иван Кузьмич на своем веку многих выпустил в большую жизнь, и он умел заставить прислушаться к своему слову. В его кабинете человек забывал о том, что он министр или директор завода, кинорежиссер или уборщица, и помнил только о том, что у него есть дети…
Замечательная московская учительница Лидия Алексеевна Померанцева сказала однажды задумчиво:
— Вот впервые приходит в школу семилетний малыш — открытый, доброжелательный, готовый поделиться с товарищем и игрушкой и книгой. Вот приходит другой первоклассник: он кладет руку на свой букварь, на свой карандаш и хмуро говорит: «Не дам!» И я, еще не будучи знакома с их семьями, уже догадываюсь, каковы они. Так в тысяче мелочей, в отношении к учителю, к товарищам, к школе, к книге, в каждом слове и шаге обнаруживается то, что дала своему ребенку семья.
Каждый учитель, даже самый неопытный, знает, как это верно. Знает — и поэтому, желая глубже вникнуть в характер своего питомца, лучше понять его, непременно познакомится с семьей. А уж если у ребенка что-нибудь не ладится — с одноклассниками не дружит, учителю грубит или задачи никак не решаются и почерк плох, учитель непременно пригласит родителей в школу или сам придет на дом к ученику. Придет, взглянет, постарается понять: что приносит отсюда школьник? Каким воздухом дышит? Чем питается здесь душа ребенка, его мысль? А заодно и посоветует, как исправить почерк, как быть с упрямой задачей. Учитель находит для этого время, несмотря на то что его работу поистине ни на каких весах не взвесишь. Это труд, от которого нет отдыха ни в будни, ни в праздники, — труд ежечасный, требующий непрестанного душевного напряжения. Учитель приносит домой не только десятки тетрадей, которые надо проверить; не только заботу о завтрашних уроках, к которым надо подготовиться; он приносит мысль и тревогу о каждом ученике — об их характерах, о недостатках и достоинствах, об их дружбе и размолвках, — постоянную заботу об их сегодняшнем дне и их будущем. Решение, принятое сегодня, может завтра оказаться неверным: дети постоянно меняются, растут, требуют неотступного внимания и неустанно работающей мысли воспитателя.
Если говорить о высоких постах, — какой же пост выше учительского? Если говорить о человеке: «ответственный работник», — то не относится ли это прежде всего к учителю? Ему доверены дети — наше будущее. Может ли быть ответственность выше?
Откуда, из какого источника может возникнуть неуважение к учителю, хамское, грубое к нему отношение?
В младших классах школы детей учат писать письма. Им объясняют, что начинать надо с обращения, и, думается, Андрей Михайлович, о котором рассказано в начале этой статьи, когда пишет по начальству, уж, наверное, не забывает поставить в первой строке: «Уважаемый Иван Иванович!» Почему он забыл об этом простом правиле, когда писал учительнице своей дочери?
Почему этот отец считает, будто учительнице легче обойти своих сорок учеников, чем ему, у которого одна-единственная дочь, прийти в школу?
Почему он (и он далеко не единственный) забывает, чем обязан своему собственному учителю, который некогда научил его читать и писать, без чего Андрей Михайлович, по всей вероятности, не смог бы ныне занимать свой высокий пост?
Да, школа отвечает за обучение и воспитание детей. Но в такой же мере отвечают за детей и родители. Неужели это надо доказывать? И никакой ответственный пост не оправдает отца, если ребенок вырастет плохим, никчемным или безграмотным человеком.
1955 г.
Дул ветер, мело снегом, прохожие ускоряли шаг. Но шесть или семь мальчишек самозабвенно вопили, столпившись на тротуаре у небольшого каменного дома.
— Сколько дал за него?
— Три рубля!
В голосе лобастого, румяного паренька восторг и нежность; он прижимает к груди лохматого щенка.
— Возьми в долю! Вот рубль! Будет общий!
Мальчишка покосился на рубль и еще крепче прижал к себе щенка.
— Хозяин должен быть один!
Все согласны с этим, но каждый хочет быть причастен к делу.
— Как назовешь? Назови Черныш!
— Лучше Карай! Есть книжка, там пес Карай, он какого хочешь преступника отыщет!
Все кричат наперебой, но больше всех разоряется смуглый, курносый мальчик в ушанке — это он хотел вступить в долю.
Хорошо бы дослушать и узнать, как же в конце концов назовут щенка, но ровно в час начнется сбор совета дружины, а я обещала прийти. Когда я подхожу к школе, меня обгоняет парнишка в ушанке. Он мчится, как реактивный самолет, со свистом разрезая воздух.
И когда я вхожу в комнату, где заседает совет пионерской дружины одной из челябинских школ, он сидит среди других ребят, уже без ушанки, конечно, в школьной форме и в тщательно выглаженном пионерском галстуке.
— Ну вот, мы все в сборе, — говорит старшая вожатая. — Предоставим слово для отчета председателю совета отряда седьмого класса.
Встает худенькая, аккуратная девочка в очках и говорит:
— Мы провели вечер музыки и шахматно-шашечный турнир.
— А какая у вас дисциплина? — спрашивает вожатая.
— Плохая.
— Чем объяснить?
Молчание.
Встает другая аккуратная девочка, только без очков, и спрашивает:
— А что было предпринято, чтоб повысить успеваемость?
— Мы поговорили с некоторыми — не помогло.
— А какие меры были приняты к нарушителям дисциплины?
— Мы им сколько раз говорили и в «Колючке» продергивали.
— Надо говорить «писали», а не «продергивали», — поправляет вожатая. — Послушаем отчет пятого класса.
Встает мой курносый знакомый и бойко сообщает, что в пионерском отряде пятого класса провели шахматно-шашечный турнир.
— А какая работа ведется в звеньях?
— Готовится монтаж, но только ребята не остаются на репетиции. Не хотят, — угасая, отвечает мальчик.
— А план вы составили?
— Да.
— А вы его выполняете?
— Нет.
Нипочем не поверила бы, что это он вопил, спорил, мечтал о щенке. Да разве он может мечтать! Вон у него в глазах какая тусклая, привычная скука!
Вслед за ним встает председатель совета отряда четвертого класса, вихрастый мальчик. Он бойко и весело сообщает:
— Мы хотели провести шахматно-шашечный турнир, да все никак не соберемся. «Колючку» выпустили, да никак не повесим. Лежит себе в шкафу, и дело с концом. Иванов нарушает дисциплину, а когда мы всем звеном хотели пойти к нему на дом, он сказал вроде того, что не ходите, а то всех вас отлупим. Мы и не пошли.
Мальчик садится на место. Встают еще дети и рассказывают о том, что у них много нарушителей дисциплины и много неуспевающих. Потом старшая вожатая — совсем молоденькая и тоже похожая на аккуратную, исполнительную школьницу — подводит итоги:
— Как видите, плохое впечатление осталось от отчетов. В чем причина?
— Причина в том, что неинтересно, — говорит вихрастый — он, как видно, еще не утерял чувства юмора.
— Верно, — подтверждает вожатая, — неинтересно. А почему бы не сделать так, чтобы было интересно? Почему бы не провести викторину? Почему бы не посмотреть диафильм? Есть очень много интересных мероприятий, а вы их не используете. Если на переменах будете проводить игры, дисциплина улучшится. Вот, например, на большой перемене можно устроить конкурс на лучшего отгадчика загадок — и хулиганству не будет места.
— Ну да, станет Иванов отгадывать загадки, делать ему нечего, — говорит вполголоса кто-то позади меня.
— А кто это Иванов? — спрашиваю я.
— А такой… Лупит всех.
…На совете дружины сидел актив, то есть послушные, дисциплинированные дети, и поэтому они сидели смирно, чинно. Один зевал, другой тоскливо перекладывал ручки и карандаши в своем пенале. Все томились, но никто не шумел. Скука нависла над этим сбором, чинная, беспросветная скука. Она была осязаема, ее можно было пощупать — такая она была плотная, тяжелая, непробиваемая.
В городке Катав-Ивановске Челябинской области пионервожатая Нина Владимировна рассказала мне о сборах отрядов в своей дружине. Там тоже был сбор, на котором загадывали и разгадывали загадки… Сбор, на котором устроили шашечный турнир… Сбор, на котором поставили доклад об учебе и пьеску о вежливости… И наконец, сбор, на котором пионеры соревновались: кто скорее почистит зубы и вымоет руки.
Неужто ребята двенадцати — четырнадцати лет придумают такое? Да никогда в жизни! И, право же, не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, что все эти «развлекательные мероприятия» выдумали не дети, а заботливые взрослые.
Очень часто жизнь пионерского отряда состоит из нескончаемых заседаний, изредка перемежаемых шашечным турниром, художественной самодеятельностью или конкурсом на лучшую елочную игрушку. Но даже если допустить, что все сборы очень хороши и очень увлекательны, то все же никак нельзя примириться с тем, что пионерская работа превращается в цепь сборов, хотя бы и очень интересных. Ребятам нужно действие — благородное, по-настоящему полезное, им нужно сознательно и с толком приложить свои силы. Пусть они что-то делают, видят плоды своего труда. Пусть почувствуют, что в меру своих сил приносят окружающим пользу.
Это хорошо понимал Гайдар. Его «Тимур» не только прекрасное художественное произведение, но и умная, педагогически глубокая книга. И хоть говорят, «кто старое помянет, тому глаз вон», невольно вспоминается: вскоре после того, как вышла в свет книга Гайдара, стали поговаривать, что тимуровские команды «подменяют пионерскую организацию». Книга, влившая в работу пионеров свежую струю, едва не была осуждена потому, что это новое не укладывалось в привычную схему, в привычное представление о том, как эта работа должна идти. Во время войны Тимур совершил поистине победное шествие по стране. Для споров не оставалось места — жизнь показала, как глубока и действенна мысль Гайдара. Тимуровцы помогали и семье погибшего воина, и в госпитале, у постели раненого бойца — повсюду.
И сегодня в планах пионерских «мероприятий» вы непременно найдете пункт о тимуровской работе. Но, думается, из мысли Гайдара вынуто главное, она обескровлена, она увяла. Гайдар знал ребят и знал, что такое для тринадцатилетнего подростка игра, романтика, тайна. Мы же об этом забываем. Мы воображаем, что можно насытить голову и сердце подростка длинными заседаниями и пьеской о вежливости. Мальчишки покупают щенка и уже видят, как этот пес ловит преступника, охраняет границу, вытаскивает детей из огня, спасает людей в снегах, а этим мальчишкам говорят: давайте поставим пьеску о вежливости или устроим конкурс, кто скорее вымоет руки. С веселой, увлекательной и благородной игрой, которую придумал Гайдар, сделали самое плохое и непоправимое, что можно было сделать, — ее лишили таинственности, она стала такой же отлакированной, парадной, как торжественные сборы и заседания.
Представьте себе гайдаровского Тимура, который говорит на собрании: «За отчетный период мы охватили вниманием целый ряд старушек…» Нет, этого вообразить себе нельзя. А теперь активисты-тимуровцы пышно отчитываются в своей работе на пионерских сборах, им выносят благодарности, о них пишут в газетах.
На XII съезде комсомола было сказано во весь голос, что пионерская работа забюрократизирована, засушена, что нарушен принцип самодеятельности. Сказано было, но что же за этим последовало? Что было придумано? Предпринято?
Ничего! И если что-нибудь возникает новое, свежее, этому немедленно подыскивается недоброжелательный ярлычок. Если в пионерском отряде ребята работают весело и интересно, это называется «голое развлекательство». Если много занимаются спортом, есть наготове ярлычок пострашнее — «бойскаутизм». Если ребята делают что-нибудь втайне, — значит, их затея «подменяет собой пионерскую организацию».
Директор 610-й московской школы Лидия Алексеевна Померанцева рассказывала когда-то, что в одном из детских домов, которые ей пришлось обследовать, обнаружилось «тайное общество пяти мушкетеров».
Тому из мушкетеров, кто носил имя д’Артаньяна, было от роду двенадцать лет, и был он, не в пример отважному гасконцу, курнос, белобрыс и веснушчат. Он-то и руководил «обществом».
На счету пяти мушкетеров числились подарки девочкам к 8 Марта (разумеется, тайные): в партах, под подушкой, в тумбочках девочки находили в этот день фигурки из пластилина и глины. Арамис хорошо рисовал и лепил, поэтому многие начинания мушкетеров вдохновлены были музами. Впрочем, одно их мероприятие не имело отношения ни к живописи, ни к скульптуре, ни к какому-либо иному искусству: однажды ночью мушкетеры завернулись в простыни и до полусмерти напугали кастеляншу…
В тумбочке Портоса нашли мушкетерский устав и кодекс чести. Это была неслыханная мешанина из романа Александра Дюма, «Дубровского», «Красных дьяволят» и «Макара-следопыта». Среди девизов были и такие: «Защищать слабых», «Служить народу до последней капли крови», «Бить фашистов»».
— Все взрослые были возмущены, — рассказывала Лидия Алексеевна, — много говорили об утрате бдительности, о мелкобуржуазном бойскаутизме, о политической близорукости руководителей детдома, спрашивали, почему подарки девочкам понадобилось готовить тайно, а не сообща, на сборе звена, и никому в голову не пришла простая мысль, что эти «мушкетеры» — укор взрослым. И верно: почему никто не подумал, что работа в пионерском отряде не насыщает ребят, что им хочется живого дела, интересного, увлекательного, захватывающего?
Сколько бы ни говорилось о том, что пионерская организация самодеятельная, едва только ребята сами начинают придумывать себе дело, как появляется еще один ярлык: «Пустить все дело на самотек».
А в сборнике «Классные руководители о своей работе с пионерами и комсомольцами» один из классных руководителей пишет: «Совместно с вожатой отряда мы проверяли планы и конспекты выступающих с сообщениями и беседами. При этом давали соответствующие указания, советы, помогали подобрать материал, сделать правильные выводы из сообщений… Яркое выступление на определенную тему… завязавшаяся… задушевная беседа являлись важным средством идейно-политического воспитания пионеров…»
Я не верю, чтобы после всех этих «соответствующих указаний», советов и проверок завязалась «задушевная беседа».
Общеизвестно, что малыш начинает ходить только тогда, когда перестают следить за каждым его шагом. Он шлепнется, всплакнет, встанет, снова шлепнется и только потом пойдет самостоятельно. Если с самого начала много придумывать за пионеров, «давать соответствующие указания», «помогать делать выводы», инициативы от них не жди.
Скажут: что же, совсем не руководить? Не интересоваться тем, что будут пионеры говорить? Надо и руководить, и интересоваться, однако надо больше доверять ребятам. Я была на сборах, где выступали дети с речами о скромности, о дружбе, подвиге. Эти речи можно было хоть сейчас печатать, но никогда вокруг них не завязывалась «задушевная беседа», и не потому, что тут сидел посторонний человек, а потому, что все это были отвлеченные слова, целый Монблан слов, никакого отношения не имевший ни к жизни класса, ни к самим ребятам. Это были «мероприятия», не отражавшие ни живой жизни, ни повседневных интересов ребят, ни тех горячих споров, которые вспыхивают во дворе, на чердаке, дома да и в школе, когда «задушевную беседу» не организуют, а она рождается сама.
В Ленинграде я попала на заседание совета дружины, которое вел мальчик с мягким ежиком волос и умными, острыми глазами. Он осторожно позевывал, но заседание вел очень квалифицированно. Обсуждали работу председателя совета отряда одного из седьмых классов. Этот мальчик требовал, чтобы его освободили от занимаемого почетного поста и, не жалея себя, рассказывал о том, как плохо он справляется со своими обязанностями:
— Ничего не обсуждаем, ничего не готовимся! — объявлял он победоносно.
— Почему же ты так безобразно работаешь? — спросил председатель, глотая зевок.
Обвиняемый защищался вяло:
— А раз никто не слушается.
С поста председателя его не сняли, и тогда он упрямо заявил:
— Как хотите, а я работать не буду!
Было видно, что все это — и загадки, и отгадки, и елочные украшения — надоело ему хуже — горькой редьки. Точно так же, как ребятам из челябинской школы. И еще многих школ — не только Челябинска и Ленинграда.
В одной школе пионер Саша, член совета дружины, устроил выставку ко дню 8 Марта. После выставки подводили итоги.
Одна девочка сказала:
— Саша правильно сделал, что собрал подарки наших пионеров, и подарки мамам были очень красивые. Но почему, Саша, ты не организовал дежурства у этих подарков? Некоторые из них пропали. В следующий раз нужно учесть, чтобы на выставке были дежурные.
Так и постановили: «Совету дружины учесть в будущем, чтоб на выставках были дежурные».
Все заметили непорядок и решили этот непорядок устранить. Но никому в голову не пришло обратить внимание на то, что среди ребят есть вор и что главная забота не в том, чтоб уберечь подарки на следующей выставке с помощью стражи, а чтоб вора не было. Об этом никто не подумал.
И это естественное, неизбежное следствие холодной парадности, которая царит в работе многих пионерских отрядов. Отчего это происходит? Ведь не первый раз бьют тревогу, статьям об этом нет числа, об этом написаны тома гневных слов, но как же не писать об этом опять и опять?
Очень скучны немолодые люди, которые лишь без конца твердят, будто в годы их юности все было хорошо, «не в пример нынешнему». А ведь это верно, что в пору нашего детства, в первые пионерские годы (да и не только первые!) пионерская жизнь била ключом, была наполнена живым и ярким содержанием, не только занимала досуг, но составляла зерно и смысл нашего существования, радовала и увлекала. Почему не задуматься над тем, как это было? Почему не взять оттуда, из тех далеких лет, то, что может быть полезно и важно сейчас? К примеру, летом мы не расставались и привозили из лагеря окрепшую дружбу — окрепшую в работе, походе, игре. Разве можно сравнить это с нынешними лагерями, куда приезжают ребята из разных школ и дружат «на скорую руку» в наскоро сколоченных отрядах, чтоб через три недели расстаться и не встретиться вновь?
Прежде отряды были при заводах, учреждениях — хорошо это или плохо? Что думает об этом педагогическая наука? Что думает об этом ЦК ВЛКСМ? У пионеров тех лет было много недостатков. Мы часто занимались не своим делом, мы нередко забывали об ученье и больше были озабочены мировыми проблемами. Мы тоже, грешным делом, произносили подчас громкие речи, но наши лагеря никогда не были санаториями; мы не знали, что такое электрический костер, мы всегда искали приложения своим силам в жизни, мы хотели быть ее участниками и были ими.
Организация, призванная воспитывать детей, чем она сейчас занимается? Собраниями, заседаниями, разговорами. Сколько же мы будем об этом говорить и когда же перейдем от слов к делу?
Пока пионерская работа будет сводиться к сборам, речам, докладам, пока горят электрические костры вместо настоящих, тех, что с дымом, с треском искр, с пламенем, которое обжигает, пока не будет живого дела, не будет романтики, до тех пор мы будем наталкиваться на всякие неожиданности, вроде «общества пяти мушкетеров», до тех пор за пределами пионерской организации будут оставаться ребята, которые «всех лупят». Ведь чтоб отвлечь их от драки, мало прочитать им лекцию о дружбе или доклад о вежливости. Надо занять их голову и мысли, их руки интересным делом, игрой, надо, чтобы пионерская организация воистину стала самодеятельной.
1957 г.
«Дорогая редакция, уважаемые товарищи, пожалуйста, помогите. Я прошу: не отвечайте по почте, позвоните, вызовите меня, сделайте это скорее. Мой ученик попал под суд и приговорен к пяти годам заключения. Я прошу вас: выслушайте меня. Я приду и все расскажу вам. Скорее!
Было ли совершено преступление? Да, было. Виктор Петров, семнадцати лет, ученик девятого класса московской школы, украл из сарая двух кур, кролика и пару валенок. Незадолго перед этим он украл у жителя поселка Солнцево велосипед. Вскоре после этого Виктор гулял вместе со своим приятелем Зикуновым по улице. Навстречу им шла женщина. Внезапно Зикунов кинулся к ней и вырвал у нее из рук сумку. Виктор не только не вступился за женщину, но бросился бежать следом за Зикуновым. Виктора Петрова предали суду. И приговорили к лишению свободы сроком на пять лет.
Итак, преступление было совершено. Виктор Петров действительно виновен.
— Да, виновен. И все-таки поверьте мне: он хороший человек. Ему надо помочь, его надо выручить. Колония его погубит.
— Кем вы ему приходитесь?
Этот вопрос Инна Яковлевна Кленицкая слышит не в первый раз: кем вы ему приходитесь? Вы столько души кладете, защищая его. Вы с таким жаром говорите о нем. Так сильна ваша надежда, ваше желание помочь. Кем же вы ему приходитесь?
Родство, существующее между Инной Яковлевной и Виктором, не всякий признает родством.
И все-таки оно есть. Оно велико и ответственно. Может быть, оно самое прочное и высокое из всех, что есть на свете. Оно самое бескорыстное.
Инна Яковлевна — Витина учительница. В течение трех месяцев она заменяла заболевшего преподавателя литературы в том классе, где учился Витя. Но трех месяцев оказалось достаточно, чтобы зацепиться мыслью за подростка, который смотрел исподлобья, отвечал неохотно, а подчас и дерзко. Инна Яковлевна помнит урок, на котором она говорила о Пьере Безухове. На перемене Виктор подошел к ней и сказал:
— Вот вы говорите, что надо жить так, как жил Пьер, — для людей, для большой цели. А я вам скажу: мне семнадцать лет, а я за всю свою жизнь не видел такого человека. Покажите мне хоть одного, который вступился бы за другого, для которого хорошее дело — главное в жизни. Таких нет. Все думают только о себе.
Учительница не услышала в этих словах вызова. Она услышала горечь. И боль. Она не стала произносить речей. Она попыталась понять, дознаться, чем вызвана эта горечь. Она хотела знать, какие у Виктора друзья. Что он любит, что ему дорого? Она познакомила его с людьми, которых любила сама. Познакомила своего ученика со своими друзьями — книгами. Она увидела, что друзей-книг у Виктора, в сущности, не было. То, что преподавали в школе, он учил, выучивал, отвечал. За это выводили отметку, но книга не становилась помощником и другом. Она узнала: два года назад умер Витин отец. У него вырвали зуб, началось заражение крови, и он умер. Из-за недосмотра. Из-за равнодушия. Из-за того, что врачи не пришли вовремя на помощь.
Так бывает: большое горе, которое пришло в твой дом, заслоняет весь мир. Оно мешает видеть и слышать. Все становится темным. Если равнодушие возможно в таком святом деле, как врачебное, где же правда? Где же хорошие люди? Где они — те, которые могут бескорыстно помочь? Виктор был уверен: таких нет. Он очень любил отца и никому не хотел простить его смерти. Он во всем изверился.
Но Инне Яковлевне он поверил. Он все чаще оставался после уроков, чтобы поговорить с ней о прочитанной книге, чтобы узнать, нравятся ли ей стихи Мартынова и верно ли поступил писатель, заменив сложный и, может быть, трагический конец своей книги благополучным концом в кинокартине: он читал «Не ко двору» Тендрякова и видел фильм по этой повести. Однажды он сказал:
— Мне все равно, а только хороших людей мало на свете.
Она ответила:
— А прежде вы говорили, что их совсем нет. И если бы вам было все равно, вы не пришли бы ко мне и не стали бы говорить об этом.
— Да, правда, — согласился он.
…Настало лето. Виктор уехал в поселок Солнцево, в домик, который поставил еще отец, — он был плотником. Старшая сестра уехала в экспедицию. Виктор жил в домике вдвоем с постояльцем Степаном Васильевичем.
Этим летом все и случилось. Кража. Суд. Колония.
Я хочу верить учителю, друзьям, семье. Я верю им. Но я не могу написать о «деле Виктора Петрова», если не пойму, что с ним случилось. Человек сложен. Сложен и юный человек. И ребенок. Каждый может однажды совершить такой поступок, какого от него никто не ждет. Но что все-таки заставило сына честной и доброй семьи украсть?
…Стучат колеса поезда. Ночь. Далекие огни в темноте. Сутки, другие. Поезд. Катер. Самолет. Грузовик. Дрезина. И вот передо мной бывший ученик московской школы Виктор Петров. Темная спецовка, голова обрита наголо. Глаза опущены.
— За вас вступаются ваша учительница, ваши товарищи. Они говорят, что вы хороший человек. Но все, что они говорят, разбивается о то, что было. Помогите же понять, что это было?
— Я жил один. Без матери, без сестры… Без присмотра… — медленно, с усилием цедя слово за словом, отвечает Виктор.
— Разве семнадцатилетнему человеку нужен присмотр?
Он поднимает голову. И медленно поднимает глаза:
— Это вы верно говорите… И мне оправдания нет. Я просто считал, что все на свете подлецы. И наш постоялец смотрел на жизнь так же… Он…
Я понимаю: то, что я хочу сказать, — жестоко. И все-таки говорю:
— Можно думать о мире все, что угодно. Но из этого не следует, что надо сбивать замки с чужих сараев.
— Вы правы. Но я же сказал: я и не хочу оправдываться. Я хочу объяснить. Хочу объяснить вам, что мне стало все равно. Мне жить не хотелось. Он говорил: все подлецы и сволочи. Даже про Инну Яковлевну он сказал: «Выслужиться она хочет перед начальством. А до тебя ей дела нет. Никому ни до кого нет дела, понимаешь?» Вот так он говорил. И Зикунов считал так же… Он был уже осужден условно за кражу, Зикунов. Он много пил и всегда приглашал меня. И я ходил с ним. Были у меня друзья — Зина Лебедева и Юра Громов, но я с ними в то время поссорился. И я стал выпивать с Зикуновым и с постояльцем нашим. Я знаю: я слабый, безвольный. Но, кроме того, мне все стало безразлично. И когда меня позвали на кражу, я пошел…
Этот разговор — один на один — был долгий. Нам никто не мешал, мы могли говорить обо всем, и мы говорили.
Удивительно, причудливо, иной раз непостижимо учит человека жизнь. Когда круг замкнулся, когда жизнь повернулась к Виктору самой темной своей стороной — скамьей подсудимых, колонией, — перед ним забрезжил свет:
— Вот поверите ли, мне все равно было: засудят, оправдают, дадут условный срок. Безразлично. И вдруг на суде смотрю — Инна Яковлевна! Откуда? Как она узнала? Ведь она давно уже нас не учила. Мы столько времени не виделись. Я никого не просил ее известить. А вот пришла. Она и в суде-то никогда, наверное, не была, долго не понимала, куда встать, уж в зале даже начали смеяться. Ну, адвокат ей помог, поставил лицом к судье и заседателям. А я смотрю на нее и думаю: пришла. Никто не звал, а она пришла. Я хотел только одного: не расплакаться бы. И, хотите верьте, хотите нет, я ушел с суда — ну, счастливый, может, и не счастливый, но с радостью в душе: я не звал, а она пришла. Просто пришла помочь. И вы скажите ей, чтоб не волновалась, — я не пропаду. Это я твердо решил. Ни на кого не хочу сваливать свою вину, ни на постояльца нашего, ни на Зикунова. В семнадцать лет надо и свою голову на плечах иметь. Я знаю, из колонии часто пишут: я, мол, все понял и обещаю исправиться. Но я это твердо решил.
«Твердо решил…» Эти слова Виктор повторяет часто. Можно ли верить в твердость этого нового решения?
Много испытаний есть в человеческой жизни. Испытание бедой, может, и не самое страшное, но и оно велико. Оно обрушилось на слабые плечи, но человек сжал зубы и сказал себе: «Не пропаду».
Передо мной не преступник. Передо мной в темной спецовке, положив голову на руки, сидит оступившийся подросток, который давно и до конца понял свою вину и горько о ней сожалеет.
Здесь есть школа. Виктор работает и учится в девятом классе. Хорошо работает и хорошо учится. И как бы ни повернулась его судьба, сколько бы ему ни предстояло оставаться здесь, он кончит десятый класс и получит аттестат зрелости. Так он решил. Твердо.
Мы прощаемся. Я выхожу из колонии и оборачиваюсь напоследок. Только выйдя за этот забор, понимаешь слова: «воля», «на воле». Вон те сосны — это воля. Прямая, как стрела, дорога через лес — воля. Высокое небо, цветущая верба, молодая березовая роща — воля, воля, воля…
«Я не видел человека, который вступился бы за другого», — говорил Виктор своей учительнице. Он в своей жизни еще никому не успел помочь, он сам еще никогда ни за кого не вступился. Но когда он попал в беду, за него встали стеной.
В редакцию пришли Зина Лебедева и Юра Громов:
— Его нельзя, нельзя засудить, он там пропадет. Он честный, но слабый, его надо выручать.
В суд пришла Инна Яковлевна Кленицкая.
— Я ручаюсь за него, он будет хорошим человеком, я обещаю, я отвечаю за это, — говорила она.
Директор школы, где работает Инна Яковлевна, согласился взять Виктора на поруки, сказал, что зачислит его в десятый класс. Он верил, что, пережив случившееся и попав в хороший коллектив, Виктор сумеет загладить свое прошлое. Он не знал Виктора, но он знал учительницу Кленицкую и верил ей.
Кем приходятся Виктору Юра и Зина?
Товарищами.
Кем приходится Виктору Инна Яковлевна?
Учительницей.
Кем ему приходится директор школы?
Никем. Он чужой человек. Он просто человек. И он тоже учитель.
Суд вершит великое и важное дело правосудия. Он ограждает общество от преступников. Виктор украл и должен был быть наказан. Тут не может быть спора, не должно быть недомолвок. И все-таки суд должен был прислушаться к слову учителя. Учитель не хотел сваливать со своих плеч ответственность. Он готов был нести ее, готов был отвечать. Директор школы и учительница хотели взять Виктора на поруки. Это не пустые слова, и им надо было довериться. Ведь недаром с такой горячностью, с такой убежденностью встала Инна Яковлевна на защиту своего ученика: она угадала в нем живую душу и хотела сберечь и взрастить все доброе, что в нем увидела. Она понимала, что колония может сломать то, что только-только начало жить в этой душе. И судьи должны были прислушаться к голосу учителя, потому что всякий человек, отвоеванный у колонии, — это победа судей.
Ну, а мы кем приходимся Виктору Петрову, мы, которые живем рядом, пишем, учим, воспитываем? Мы тоже в ответе за него. Кончается ли наша ответственность за человека, когда за ним захлопнулась тюремная дверь? Нет, не кончается, она вырастает безмерно. И всем нам — каждому! — надо о многом задуматься.
Когда я спросила Виктора, как же за один месяц рухнуло все, чему его учили школа, книги, родители, он ответил:
— Не за месяц… За семнадцать дней.
За семнадцать дней подростка, который не украл ни полушки, уговорили сбить замок с чужого сарая. За семнадцать дней подростка, который никогда не пил, споили. За семнадцать дней юношу, который никогда не просил у матери денег («не покупай мне новую рубаху, прохожу в этой»), этого юношу соблазнили чужими деньгами — он украл велосипед и продал его.
Почему Зикунов, уже судившийся человек, которому ничто не дорого, почему он оказался сильнее школы, учителя? Почему сильнее оказалась водка, соблазн легкой жизни, почему семнадцать дней, брошенные на чашу весов, перетянули семнадцать лет?
Может быть, если б сестра Валя не уехала в экспедицию, ничего не случилось бы. Может, окажись рядом мать, — ничего не случилось бы. Может, не поссорься Витя со своими друзьями — Зиной и Юрой, он не подружился бы с Зикуновым, не стал бы слушать речей постояльца Степана Васильевича, не стал бы пить с ним водку. Если бы, если бы…
Но чего же стоит чистота, которую надо так оберегать? Чего стоит твердость, которую надо так ограждать? Разве дело в том, чтобы оберегать и ограждать? Надо, чтобы яд, который источают Зикунов и Степан Васильевич, не мог подействовать на человека. Оградить хоть и трудно, но можно. Но что толку — ограждать? Надо научить сопротивляться, надо создать такую «душевную химию», чтоб само собой возникло противоядие.
Можно твердить: не водись с этим мальчиком, не водись с этой девочкой, они научат тебя плохому. Но ведь когда-нибудь человек уйдет из дому. Он будет открыт всем непогодам, на него могут обрушиться горести и беды, которых никто не в силах ни угадать, ни предвидеть. И кто же его тогда обережет, если он еще дома, еще в школе не научится понимать, что хорошо, что плохо? Если здесь не родилась в нем та твердость, которая окажется сильнее Зикунова?
Литература не просто предмет в ряду других предметов, литература строит душу. Это хорошо, если ученик может толково охарактеризовать образ Пьера Безухова или Андрея Болконского. Но гораздо, неизмеримо важнее, чтобы персонажи, художественные образы стали друзьями или недругами, чтобы мысль писателя будила душу и совесть подростка. Тогда он будет сильнее, тогда он будет тверже. Семнадцать лет Виктор мало и плохо думал, вот почему семнадцать дней оказались сильнее семнадцати лет.
Нет поступков, не оставляющих следа. Нет и людей, которые прошли бы через нашу жизнь бесследно. Когда Виктор украл велосипед, он продал его Леониду Андреевичу Николаеву, который много лет исполнял обязанности народного судьи в солнцевском суде. Николаев сосед Петровых. Он не мог думать, что вдова, получающая скромную пенсию, подарила сыну новенький дорогой велосипед. Он понимал, что покупает краденую вещь. Почему он не сказал мальчишке: «Ты украл. Верни велосипед. Боишься? Пойдем вместе, я помогу тебе признаться».
Но он не сказал этого. Он предпочел купить новый велосипед за треть цены.
Зикунов, вор, уголовник, тащил Виктора с собой, спаивал, хотел сделать из него подручного. Он олицетворял собой активное зло, и его вина ясна всем. Но разве не так же виноват и Николаев? В его силах было остановить Виктора, предотвратить будущее преступление. А он вместо того, чтобы вытащить мальчишку из ямы, толкнул в нее.
Были на пути Виктора люди, которые помогали ему, боролись за него. Были и другие, они толкали его вниз. Были и такие, что смотрели равнодушно, и они тоже виновны. Прислушаемся же к тем, кто не равнодушен. Прислушаемся к голосу учителя, который говорит:
— Я верю в него. Он будет хорошим человеком и работником. Ему колония не нужна, он выпрямится на воле.
1959 г.
«Дорогая редакция, я хочу написать вам про случай в нашем дворе. У нас есть девочка Зоя. Мы с ней вместе готовим уроки, ходим в кино. Ребята меня за это дразнят. А Левка сказал: «Ты девчатник». Я ему ответил: «Какой же ты пионер?» А он говорит: «Я тебе как дам, ты отлетишь!» Я так решил: пусть я девчатник, а с Зоей все равно дружить буду. Он всех ребят во дворе подговорил, и они меня дразнят. Как мне быть теперь?
Дорогой Валера!
Редакция «Пионерской правды» дала мне твое письмо и попросила на него ответить. Я прочитала письмо и подумала: что же отвечать? Ты и сам все понимаешь. И, по-моему, каждый человек должен дружить с тем, кто ему по душе. И я всегда очень удивляюсь, когда слышу, как ребятам говорят:
— Ты с Колей не дружи. Ты лучше подружись с Юрой: он хороший мальчик.
Может, Юра и правда очень хороший мальчик. Но ведь когда дружишь с человеком и любишь его, начинаешь видеть в нем то, чего другие не замечают. Как будто и ничем не лучше других, а вот мил тебе этот человек.
А уж насчет того, с кем лучше дружить — с мальчиком или девочкой и вообще можно ли дружить мальчику с девочкой, — такой вопрос мне попросту непонятен. Когда я была маленькая, мы все дружили между собой — девочки и мальчики. Конечно, и среди нас всегда находился такой, что кричал про жениха и невесту, но мы на это внимания не обращали.
Ты пишешь: «Пусть я девчатник, а с Зоей все равно дружить буду».
А как же иначе? Чего бы ты стоил, если бы отказался сейчас от дружбы с Зоей? Ведь это было бы трусостью и предательством. Хороши бы мы были, если бы отворачивались от своих друзей, лишь бы нам жилось спокойнее. Нет, если сейчас, в школьные годы, не научиться дорожить дружбой, беречь ее и отстаивать, потом уж трудно будет стать верным, надежным другом. Ты поступил правильно! Дружи с теми, кто тебе по душе, и не обращай внимания на тех, кто тебя дразнит.
Видишь, я сказала только то, что ты понимал и прежде. Но хочется мне написать письмо другому человеку: Леве, который обозвал тебя девчатником.
Итак, Лева, ты считаешь, что с девочкой дружить стыдно. Что ж, не хочешь — не дружи! Осуждать тебя за это нельзя, можно только пожалеть.
Если человек слеп и не видит ничего вокруг, если человек глух и не слышит человеческого голоса — его можно горько пожалеть. Но если человек нарочно завязал себе глаза, или заткнул уши, или решил: я не буду ходить двумя ногами, как все, я буду всю жизнь прыгать на одной ножке, или вдруг пришла ему в голову странная мысль: жить, скажем, только в городе и никогда ни на час не выйти за пределы его улиц, не видеть поля, леса, речки, — что можно сказать о таком человеке? Пожалуй, его тоже жалко. Но ты уж извини, жалеют его… за глупость, за недомыслие. Скажут: вот чудак, сам себя обокрал! И забудут о нем.
«Разве девочки могут быть как мальчики?» — пишут в редакцию «Пионерской правды» Шура С. и Хосан В.
А зачем им быть «как мальчики»? К чему всем быть одинаковыми? Иногда дружат люди похожие, а чаще — непохожие характерами, потому что им интереснее друг с другом. И незачем девочкам стараться быть «как мальчики». Каждый должен быть самим собой.
В 1944 году я ездила на Украину, в село Покровское, где в годы фашистской оккупации возникла подпольная пионерская организация. Там я познакомилась с членами подпольного отряда. Девочки, как и мальчики, работали бесстрашно, мужественно. Они прятали оружие, спасали девушек от фашистской неволи, разбрасывали листовки и делали все это ничуть не хуже, чем мальчики.
Девочек было пять, мальчиков семеро. Они никогда не; ссорились, постоянно помогали друг другу и потому так великолепно делали свое трудное, опасное дело.
А что было бы, если б они рассуждали, как Алик Ю., который пишет в «Пионерскую правду»:
«Дорогая редакция, я пришел к заключению, что Валерке Михалеву лучше бросить дружить с Зоей, а подружиться с ребятами. Да с девочкой и не найдешь такого разговора, как с мальчишкой. С мальчишкой и про голубей поговоришь, и погоняешь их, и про коньки, и лыжи, да и вообще».
Девочек-голубятниц я и правда не встречала. Но неужто только и свет в окошке, что голуби? И мальчишки не все голубями увлекаются, и есть еще тысячи интереснейших занятий. А что до коньков и лыж, то среди моих учеников были девочки, которые куда лучше мальчиков бегали на коньках, катались на велосипеде и плавали.
Бегать на коньках, ходить на лыжах можно научиться: все это дело наживное. Мне кажется, не менее важно, чтобы человек много знал, чтобы он понимал книгу и любил ее. Тогда найдется, о чем поговорить, поспорить, подумать. И, честное слово, уметь думать не менее интересно, чем гонять голубей!
Давно уже нет разговору о том, что есть специальные девчоночьи занятия. Известно, что и солдат и моряк, например (уж какая профессия требует большего мужества!), должны уметь и пришить, и заштопать, и постирать, и сготовить.
«Валерка, присоединяйся к ребятам!» — так заканчивает свое письмо Алик Ю. Валерка бы и рад, но ведь ребята сами отвернулись от него. Ведь ты, Лева, не только сам дразнил его, но и остальных ребят во дворе подговорил не дружить с Валерой. И вот с этим-то и связано главное, о чем я хотела тебе написать.
Не хочешь дружить с девочками? Не дружи! Но почему все должны поступать, как ты? Откуда у тебя такая уверенность, что ты всех умнее и твои поступки самые правильные? Нет ничего хуже самодовольного человека, который уверен, что только его вкусы и взгляды достойны уважения и подражания.
На имя Валеры в «Пионерскую правду» пришло письмо ученицы третьего класса Нади Кузнецовой. Она пишет:
«Раз пошли мы из школы домой — я и мальчик из нашего класса Коля Батурин. А девочки из нашего класса собрались гурьбой и напали на нас с Колей и начали кричать: «Жених и невеста!» Так и кричали до самого дома. На другой день эти же девочки — Оля и Наташа — подговорили Веру, Таню, Галю и других девочек. И опять напали на нас с Колей. И били нас портфелями. А Оля взяла по дороге большущую березовую палку и гнала нас с Колей до дома; Дома я заплакала от боли и обиды».
Вот к чему приводит тупая уверенность, будто только ты один прав. Когда человек уверен, что только он один понимает, что хорошо, а что плохо, как надо и чего не надо, — это непременно кончается тем, что он силой заставляет другого поступать так, как ему кажется вернее. И ведь, смотри, как подло, бесчестно поступали эти девочки: напали целой толпой на двоих. То, что сделали эти девочки, очень похоже на то, что сделал ты. Они только пошли чуть дальше: не помогло слово — схватили палку. А зачем палка между людьми?
Разве мешало Оле то, что Коля и Надя шли вместе? Что плохого в Надиной и Колиной дружбе? Почему надо их дразнить и силой заставлять раздружиться?
Вот и тебе зачем-то нужно, чтобы Валера и Зоя не дружили. А зачем? Нет, тут только одно можно сказать: не хочешь дружить с девочками, это твое дело. Другим не мешай. А Валере я хочу повторить то, что написал в своем письме Миша Жуков из Архангельской области: «Дорогой Валера! В дружбе с девочкой нет ничего плохого! Дружи на здоровье!»
1959 г.
«Дорогая редакция!
Моя мать тяжело больна. Болезнь такая: очень тяжелое дыхание, кашель. С наступлением зимы ей очень трудно. В этом году я был в отпуске после трех лет службы и не узнал своей матери, так состарили ее эти годы. Обняла она меня при встрече, заплакала. Никогда не забуду ее слов, которые она вымолвила вместе со слезами: «Сынок, Петя, как не хочется умирать».
Как я понял, этими словами она просила помочь ей, вылечить ее. Не мог я этого сделать и не мог также сделать и того, что, казалось бы, проще простого.
Мои родители живут в селе Ивановке, живут одни: детей раскидало по разным городам, а я в армии. Конечно, им очень нужна была моя помощь, поэтому они и попросили мое командование отпустить меня в отпуск тогда, когда я принесу больше пользы по хозяйству. Как и следовало ожидать, командование пошло навстречу моим родителям.
Как только я приехал, то сразу заметил, что нашу крышу нужно перекрыть, так как солома сгнила, и во время дождя в избе вода. Я поинтересовался у отца, почему такая плохая крыша, неужели нельзя попросить в колхозе соломы? Он мне ответил, что не дает соломы начальник участка с. Ивановки Утешев Петр Иванович.
Когда я пришел первый раз к Утешеву, он сразу сказал, что вопрос о соломе решает председатель колхоза «Россия» Соколинский и что надо обращаться к нему.
Соколинский оказался хорошим, внимательным человеком. Он выслушал меня и посоветовал, чтобы я от своего имени написал заявление в правление колхоза «Россия». Так я и сделал: написал заявление, передал его Утешеву и стал ждать результатов. А дни идут, отпуск приближается к концу. Потом, после заседания правления, Утешев сообщил, что мое заявление рассмотрено, солому дадут. Я попросил: нельзя ли пораньше, ведь я помог бы отцу перевезти солому с поля. Но моим словам Утешев не придал никакого значения. Я решил еще раз сходить к Соколинскому. Кстати, там же я застал и Утешева. Увидев меня, Соколинский пригласил меня в кабинет и сказал Утешеву: «Матрос просит дать солому поскорее, отпуск у него кончается, а он хочет помочь родителям». На это Утешев ответил, что сейчас он не может заниматься соломой, что у него дела поважнее.
Изба осталась неперекрытой. А пройдет зима, настанет весна, оттепель, снег будет таять, и в избе вода, а как это для больного человека? Да и для здорового нехорошо. А ведь Соколинский говорил мне: «Езжай, матрос, служи спокойно, а мы поможем твоим старикам».
Я очень люблю свою мать. Если бы я был с ней вместе, то ни с чем не посчитался, а отправил ее на юг, хотя на зимнее время, ведь ее болезнь в летнее время переносится сравнительно легче, но сейчас у меня нет такой возможности, домой я вернусь еще нескоро.
Дорогая редакция, по-моему, в тех краях никогда не приходилось бывать кому-либо из вас, а как мне хотелось, чтобы вы сами убедились, прав я в вышенаписанном или нет, и заодно побывали у моих родителей. Моя мать, Голышкина Марфа Андреевна, и отец, Голышкин Александр Васильевич, живут по адресу: Тамбовская область, Избердеевский район, Ново-Ситовский сельсовет, село Ивановка.
В Ново-Ситовском сельсовете полутемно, электричество еще не включили, а на дворе сумерки. Петр Иванович Утешев берет мое командировочное удостоверение и подходит к окошку. Он очень высок, плечист и загораживает чуть ли не все окно — в комнате становится еще темнее. Он рассматривает удостоверение долго, придирчиво. Потом возвращается к столу и говорит хриплым, надорванным голосом:
— Слушаю вас.
Я рассказываю ему про письмо моряка. Он слушает в пол-уха, роется в ящике с бумагами, звонит по телефону. Когда я умолкаю, снова заглядывает в удостоверение, потом переводит глаза на меня:
— Из Москвы, значит?
— Да.
— Из-за соломы?!
В голосе его безмерное удивление, недоверие и, пожалуй, насмешка. Петру Ивановичу мерещится какой-то подвох. Он попросту не верит, что из-за такого пустяка, как чья-то дырявая крыша, можно приехать из Москвы в Ивановку. И он даже не дает себе труда толком отвечать на мои вопросы.
Больны ли старики Голышкины? Да мало ли больных на свете! Солому он им давным-давно дал, «сам морячок ее и перевез». Немного погодя он уже утверждает, что кровля у Голышкиных вполне терпима и покрыть-то там нужно «только самую макушку». И наконец:
— Эх, товарищ, товарищ, из-за такого дела ехали! Да разве всех болящих ублаготворишь?
Разные бывают болезни. Одни мучаются астмой, у другого порок сердца. А есть люди, страдающие глухотой души. Это болезнь тяжелая, трудноизлечимая, пораженные ею люди не понимают, что кто-то способен почувствовать чужую боль, как свою: «Все равно всех не ублаготворишь!»
Во время войны слова «семья фронтовика» звучали как призыв: помоги, не дай в обиду! И теперь, в мирное время, люди помнят: в этой семье сын в армии, и окружают эту семью заботой. Без напоминания спросят, нет ли какой нужды? Не надо ли чем-нибудь помочь? Иначе быть не может, иначе быть не должно!
Прочитав иное письмо, думаешь: надо бы проверить, правду ли пишет человек. Но в письме моряка Петра Голышкина каждое слово дышит правдой, тревогой за больную мать, горечью от того, что он далеко и не может ей помочь: вдвойне сильна любовь и тревога, когда ты вдалеке от близких и не можешь сам о них позаботиться.
…А крыша в хате Голышкиных, что и говорить, дырявая. И Марфу Андреевну мучает жестокая астма. Рука у Александра Васильевича Голышкина сломана, ему самому крышу не перекрыть. А сын в море. Он надеялся, что все это примут во внимание — и болезнь стариков, и то, что его отпустили с корабля помочь им. Но для глухих душ такие обстоятельства не существенны: «Всех не ублаготворишь!»
Ну, а Василий Гаврилович Соколинский? Правду написал Петр Голышкин: Василий Гаврилович человек доброжелательный, вежливый и, несомненно, хочет людям помочь. Но ведь вежливость и доброта сами по себе еще не решают дела. Они тогда хороши, когда покоятся на твердости, а если твердости нет, выходит так, как решил Утешев, а не так, как хотел бы добрый, вежливый Соколинский.
Я думаю, что сейчас семья моряка Голышкина получит наконец солому. Только старикам не сладить с починкой. Хорошо, если бы ивановские комсомольцы помогли им и потом с чистой совестью написали Петру Голышкину: «Служи спокойно, мы о твоих стариках позаботились».
…Я уезжала из Ивановки к вечеру. Лошадь шла тихо: дорогу замело снегом. Недалеко от Избердея нам повстречался грузовик. В кузове на морозном ветру жалась закутанная в платок женщина. В теплой кабине сидел Утешев…
1959 г.
В Ереване на улице Налбандяна живет мальчик. У него есть тетрадь, на обложке которой написано «Собственноумные мысли».
Тетрадь оправдывает свое название. Там есть немало собственных умных мыслей («Друг — это все», «Главное в человеке — это справедливость»), но есть и такая запись: «Но время, но опыт — единственные права, чтоб дружбу признать истинною. Что значит иметь друга — это я знаю; что значит ошибиться в человеке — и это я знаю, это кусок мяса, отодранный от своего сердца, горячий и кровавый».
Я сказала:
— Но ведь это не твоя мысль? Это слова Герцена.
— Но я тоже так думаю! — был ответ. — Разве Герцен неправду говорит? Он говорит в точности, как я думаю, вот я и записал.
Я не знаю, как нашел двенадцатилетний мальчик эти слова — прочитал ли переписку молодого Герцена с его невестой Натальей Александровной Захарьиной или вычитал их где-нибудь в чужой тетрадке. Но он недавно поссорился с другом, с которым дружил всю жизнь (с первого класса!). И эти слова поразили его своей верностью, он ощутил их, как свои, и поэтому переписал в тетрадку наравне со своими собственными мыслями.
И взрослые и старые люди ведут дневники. Но, пожалуй, чаще всего ведут их подростки и юноши. Юности свойственно страстное стремление понять себя, разобраться в своих мыслях. И в книге она тоже ищет отклика на свои раздумья. Подросток слышит слово учителя, воспитателя. Но гораздо сильнее в нем желание все найти самому, самому понять и разобраться. Юность не любит, чтоб ее наставляли, поучали. «Воздействовать на духовную деятельность силой все равно, что ловить лучи солнца, — говорит Толстой в своем дневнике, — чем бы ни закрыли их, они будут сверху». А книга — она не ищет тебя, ты сам ее ищешь или находишь случайно. Она не требует: читай. Ты сам прочел, и не ее вина, что ты ощутил удар в сердце, что в чужой мысли нашел свою, узнал в ней себя.
У мысли, выраженной точно и верно, есть то свойство, что она становится твоей. Тебе кажется — только мгновения недоставало, чтоб ты сказал то же самое, слово в слово. И чужая мысль становится твоей опорой. Проходит время — она крепнет, растет вглубь, и настанет минута — она из девиза превратится в поступок, станет действием.
Работая над повестью о Зое и Шуре Космодемьянских, я встречалась с матерью Зои и Шуры, с их учителями, с товарищами Зои по партизанскому отряду, с фронтовыми друзьями Шуры. Они рассказали очень много о семье Космодемьянских, без этих драгоценных рассказов не было бы книги. Но все время не хватало чего-то важного. Что это было — взгляд изнутри? Письмо? Дневник? Да, хоть несколько слов от первого лица: «Мне кажется»… «Я думаю»… «Я хочу»…
Школьные сочинения? Да, они сохранились. Но они предполагали читателя, обсуждение, отметку. Не хватало Зои наедине с собой. И тогда на помощь пришла Зоина записная книжка. Она сохранилась в архиве Петра Александровича Лидова, военного корреспондента «Правды», впервые написавшего о Зое Космодемьянской вскоре после ее гибели.
Это была маленькая книжечка в коричневой клеенчатой обложке, в ней то карандашом, то чернилами торопливым почерком или четко, старательно были записаны названия книг, которые читала Зоя. Крестиком или птичкой она отмечала уже прочитанное, и меж заглавиями статей и книг вдруг появлялась строчка стихов, короткая выписка из Толстого, Горького, Чехова. И хотя это был не дневник и редко-редко мелькало «я думаю», но сквозь строчки чужих стихов, сквозь чужие мысли все отчетливее и отчетливее вырисовывался облик сначала девочки, потом подростка и молодой девушки.
Эта записная книжка была чистым зеркалом. Оно отражало все, о чем думала, чем была взволнована и задета Зоя.
«Рана от кинжала излечима, от языка — никогда». Эта запись подтверждала рассказы о девочке, которая тяжелейшую операцию вынесла без стона, без единой жалобы, а от резкого слова могла сжаться и надолго уйти в себя.
А вот другая запись: «Хорошо о Сереже»: «Ему было девять лет, он был ребенок, но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу». Эта запись яснее всяких пространных излияний выдает душу застенчивую, скрытную и любящую.
Но автора одной записи я не знала. Это было всего несколько слов: «Найти волшебный ключ. Пройти через жизнь в шитом звездами плаще». Кто это написал? Не Блок ли?
Несколько лет спустя я прочла письма Розы Люксембург. В тонкой брошюрке, изданной году в двадцатом, были собраны письма, которые Роза Люксембург писала из тюрьмы жене Карла Либкнехта. Эти письма поразили меня. Добрые, жизнелюбивые, написанные из тюрьмы, они могли служить опорой и утешением человеку, который был на свободе. Узница была сильнее, свободнее той, которая жила на воле.
«…И в скрипе сырого песка под медленными, тяжелыми шагами часового, — писала она, — тоже поется маленькая прекрасная песня о жизни, если только уметь правильно слушать. В такие минуты я думаю о Вас, я бы так хотела поделиться с Вами этим волшебным ключом, чтобы Вы всегда и во всяких положениях находили красоту и радость жизни. Я не думаю кормить Вас аскетизмом, надуманными радостями. Я предоставляю Вам все настоящие чувственные радости. Я хотела бы только передать Вам мою неисчерпаемую внутреннюю радостность, чтоб я была спокойна, что Вы проходите сквозь жизнь в шитом звездами плаще».
Так вот откуда они, эти слова: «Найти волшебный ключ. Пройти сквозь жизнь в шитом звездами плаще». Среди мыслей, чувств, надежд, которые лепили растущую душу Зои, была и эта мысль, это стремление. Зерно жизнелюбивой мысли дало росток, стало девизом, и девиз этот был оправдан короткой, но чистой и мужественной жизнью.
Много хороших книг на свете, книг-учителей, книг, которые пробуждают мысль, переворачивают ум и сердце. Но почему строчка, слово из письма действует так сильно, так берет в плен, так глубоко проникает в душу? Ведь письмо не книга, не повесть. Страничка, иногда несколько слов. В чем секрет иных писем, написанных подчас небрежно, наспех?
Когда-то Герцен писал: «Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям и которых больше нет…
Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают другое лето, его зной, его теплые ночи и то, что оно ушло на веки веков; по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим».
Каково бы ни было чувство, вызвавшее переписку, — дружба, любовь, гнев, — в письмах оно выражается без румян, без прикрас, в письмах бывает закреплено и помечено — пусть наскоро — самое глубокое и заветное, что не всегда и скажется даже в разговоре один на один.
Да, письма сближают нас с писавшим, с помощью писем прошлое становится живым и близким. И живыми становятся для нас те, кто их писал. Лучший пример тому письма самого Герцена. Эти письма — Н. А. Захарьиной ли, Огареву ли, детям ли — являют собой исповедь, где любовь, гнев, страдание предстают перед читателем в совершенной искренности.
У нас любой школьник, приводя пример дружбы великих людей, непременно назовет Герцена и Огарева, но чаще всего оказывается, что знает он только о клятве на Воробьевых горах. А давно, давно бы следовало издать для юношества переписку Герцена и Огарева, потому что, думается мне, нигде они не встают так во весь рост, как в этих письмах.
Не знаю, есть ли металлы, которые не плавятся ни при какой температуре, но были, есть и всегда будут люди, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не изменят себе, не перестанут быть самими собой.
В 1852 году умерла жена Герцена Наталья Александровна. Умерла, оставив троих детей — Сашу, Тату и Олю. Старшему, Саше, было двенадцать лет, младшей, Оле — два года. Перед смертью, предчувствуя, что скоро уйдет из жизни, Наталья Александровна не раз говорила, что хотела бы доверить воспитание детей Наталье Алексеевне Тучковой. Жена Герцена любила ее, называла ее «моя Консуэло» («консуэло» — по-итальянски «утешение») и верила, что только Наталья Алексеевна сумеет заменить мать осиротевшим детям.
Через несколько лет после смерти Натальи Александровны в Англию, где жил тогда Герцен с детьми, приехал Огарев с женой Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой.
И тут произошли события, которых никто предвидеть не мог: Наталья Алексеевна полюбила Герцена и вскоре стала его женой.
Огарев был горячо привязан к Наталье Алексеевне, и все происшедшее было для него тяжким ударом. Казалось бы, между Огаревым и Герценом должна возникнуть непроходимая пропасть, неодолимое препятствие. Но, читая их письма той поры, понимаешь: всегда, в любых обстоятельствах оставаться людьми — во власти самих людей.
Надежды, которые возлагала покойная Наталья Александровна на свою молодую подругу, не оправдались. Наталья Алексеевна искренне хотела посвятить себя воспитанию детей, но она не сумела их полюбить, а без любви нет разумения, нет понимания. Она не смогла заменить им мать, она была мачехой — несправедливой, подозрительной, сварливой.
Когда отношения Герцена и Натальи Алексеевны зашли в тупик («Какое глубокое и плоское несчастье!» — восклицает Герцен в письме Огареву), когда семья была разрушена, разобщена, когда и дети Герцена и сам Герцен были отравлены ядом постоянных ссор с Натальей Алексеевной, ее подозрениями и упреками, Огарев говорил в одном из своих писем Герцену. «Ты иногда мне намекал, что ты внес в мою жизнь горечь. Это неправда! Я, я в твою жизнь внес новую горечь. Я виноват».
Письма Огарева к Наталье Алексеевне, письма, в которых он напоминает ей об их общей ответственности за детей Герцена, об их долге перед памятью умершей Натальи Александровны Герцен, — это письма, в которых воплощены честь и высота человеческой души.
Могут сказать: зачем же приводить примеры из семейной жизни, из семейных неурядиц, когда и без того известно, что Герцен и Огарев рыцари без страха и упрека? Это верно. Но ведь верно и то, что иной раз оставаться крупным человеком легче в крупном, чем в мелком, повседневном. И другое: нелепо и непростительно область дружеских или семейных отношений низводить до степени неважных, несущественных.
Когда вы читаете о жизни великих людей, вы хотите знать обо всем: не только о великих свершениях, но и о поисках, находках, ошибках. Об ошибках — не для того, чтобы злорадно сказать: э, да и они как все! — а для того, чтобы понять, как человек становится Человеком, как он духовно крепнет, как он остается самим собой и в крупном и в повседневном, в горе и в счастье, и в минуты «грозно-торжественные» и в ежедневной суете.
Никакие уроки морали, никакие самые высокие наставления не скажут нам того, что найдем мы в простых и глубоко человечных письмах Ивана Петровича Павлова. Многие наизусть помнят его предсмертное письмо. Но с тем Павловым, который предстает в этих письмах, мы незнакомы. А жаль!
Не так давно в «Новом мире» был воспроизведен журнал под названием «Попался». Журнал этот Павлов вел для девушки, которую полюбил. Он был очень интересен, этот журнал, но показался мне рационалистическим, пожалуй, даже немного резонерским. Что-то сковывало писавшего, что-то мешало ему писать просто и непосредственно. А вот передо мной другие его письма, которые Павлов писал той же девушке, но когда она уже стала его невестой.
Застенчивость, неуверенность в ответном чувстве рассеялись, человек освободился от всего, что его стесняло, сковывало прежде. Он и теперь говорит иногда о том же, что в журнале «Попался», но просто, открыто, освобождение, не резонерствуя, а как бы думая вслух.
Мы немало знаем о Павлове — ученом, о его прямоте, о его требовательности к себе и другим. Но как важно, как интересно увидеть, насколько он всегда и во всем остается самим собой. И если в юности учатся думать, то редкая книга даст лучший толчок мысли, чем эти письма. Главная мелодия в них: «Я плох, но я хочу быть лучше». И еще: жажда доверия, равенства в любви. Жажда совершенной правды всегда, во всем.
«Дорогая Сара, — пишет Иван Петрович, — может, тебе очень не по сердцу вечные мои промахи и следующие за ними раскаяние, просьба о прощении. Может, скажешь: «уж если не можешь обойтись без спотыка, по крайней мере не канючил бы». Когда же это кончится? Я плох и хочу быть лучше — и вижу к этому теперь средство, случай в нашей любви…
Вчера с Сережей я был на рубинштейновском концерте. И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки?.. Я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказывали мне: «нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своею помощью, — правда». И почувствовал я к этой правде любовь страшную — и вдруг сделался силен, как будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни».
И чуть позже в другом письме: «Людям естественно сбиваться, на то и люди. Лишь бы поднялись, воротились на истинный путь. А я верю в это. Что там жизнь ни делала со мной, а я все-таки всей душой за правду, за разум, за труд, за любовь».
И опять, и снова: «Мы опять один человек, твоя радость — моя радость, твое горе — мое горе. Опять между нами светло, хорошо. Ведь так, мое утешение? Это ведь верно? Мы всегда будем говорить правду друг другу? Мы оба искренне признали над собой одного судью — правду!..
Мне не передать в письме то, что чувствуется, думается об этом предмете. Мне не передать тебе, как велика надо мной сила правды и как бесконечно законно каждое твое справедливое желание, требование, чувство… перед каким-либо посягательством с моей стороны. Мне не сказать тебе, как беспокойно начинает биться сердце при одной мысли, что мелочные столкновения могут иметь место в нашей общей жизни».
За всю историю рода человеческого много было сказано слов любви. Как будто уже не осталось несказанных, таких, которые заново задели бы душу, — и, однако, это неверно, потому что у простого, от сердца идущего слова есть свое волшебство, своя власть, и старое, знакомое, оно звучит, как открытие, как сказанное впервые. И письма, в которых Павлов говорит, что надо беречь любовь, беречь от мелочей, от второстепенного, от того, что Герцен называет «плоским несчастьем», написаны с такой взволнованностью, которая никого не оставит равнодушным.
Как-то Серафима Васильевна написала Ивану Петровичу с упреком:
«Ты забыл… что у меня есть своя воля и что я никогда не соглашусь подчиниться руководителям». Эти слова повергают его в смятение. Для него нет мелочей в любви, он знает, уверен, что подозрительность, недоверие, невысказанный упрек подточат любовь, уничтожат ее, поэтому ответ исполнен тревоги и предостережения:
«Как могла ты написать это? Выходило, как будто я уничтожаю твою волю. Я давал программу твоего поведения? Я передавал мои впечатления, мои думы, мой опыт. Но приведи хоть слово с намеком на желаемое подчинение. Разве не всюду подразумевалось: вот как я думаю, а ты сделаешь, как решит твоя мысль? Скажи, как же бы можно было высказаться моему участию в твоем деле? Чтобы я руководил? Ничего не может быть несвойственнее моей душе. Может быть, это ее даже порок. Всегда только сказать свое мнение, но никогда не брать на себя ответственности за чужую мысль, чужую волю — вот я…
Ты поймешь теперь, Сара, что три страницы того письма твоего действительно выбрасывали из моей души все сознательное содержание моей любви к тебе… Она жила как чувство без слов, без лица. Мне ничего не мечталось ни о твоей деятельности, ни о нашей будущей жизни, потому что все эти мечты мои твое письмо или заподозрило, или отняло у них всякую почву. Эти мечты разогнаны из души — и смотри, как медленно возвращаются, — на твои последующие письма.
Сара, обрати внимание на эту мою черту: мы ведь должны приноравливаться друг к другу… Пойми как следует эту мою исповедь. Этим свежим случаем я сам напуган. Наша любовь мне так дорога. А она подверглась опасности. Странно! Я ведь вовсе не злился на тебя эти дни, но как-то глубоко чувствовал, что между нами порвались связи, что мы негодны, не сойдемся для общей жизни.
Довольно! Уж очень поздно! Завтра поутру припишу еще. Целую тебя, моя так неосторожная, невоздержанная, но моя хорошая, дорогая Сара!»
Наверное, никого нельзя научить быть счастливым. И никому нельзя сказать: «Вот программа твоей жизни. Следуй ей, и все будет хорошо». Нет, этому не научишь. Но научить мыслить можно. Умение думать рождается и от встречи с чужой мыслью, с чужим раздумьем, сомненьем, с тревогой другого человека. Встреча с письмами Павлова есть встреча с живым Павловым, с его мыслью, тревогой, раздумьем — прекрасная, драгоценная встреча…
Год назад в Москве скончался Николай Павлович Анциферов, в прошлом учитель, затем историк литературы, автор прекрасных, задушевных и умных книг. В своих книгах и устных рассказах он воссоздавал живой облик людей и событий. Он говорил о людях, давно умерших, как о друзьях или недругах. Живыми представали в его рассказах братья Гракхи, герои греческой мифологии, или деятели русской истории и литературы. Только так и можно проложить дорогу к уму и сердцу читателя, слушателя. Мы же часто пренебрегаем этим, нам кажется, что жизнеописание великого человека — это только перечень его трудов и открытий. И, рассказывая классу о жизни Владимира Ильича Ленина, преподаватель добросовестно перечисляет:
— В таком-то году вышла книга «Материализм и эмпириокритицизм»… В таком-то году появились Апрельские тезисы… Владимир Ильич обладал сильной волей и твердым, непреклонным характером…
Недавно — уж и не знаю в который раз — привелось мне слышать это из уст педагога. Я слушала его, смотрела на лица десятиклассников. И понимала: все, что сообщает им учитель, важно, но насколько важнее было бы на пороге их новой жизни напомнить молодым людям, например, о том, как семнадцатилетний юноша вскоре после смерти отца, после казни горячо любимого старшего брата окончил гимназию с золотой медалью и стал опорой семьи. Мне думается, что этот пример оказался бы много убедительнее, чем отвлеченное определение: «сила воли», «твердость характера». Я сказала об этом учителю.
— Беллетристика! — последовая сухой ответ.
Вот почему в перечне книг, которые советуют читать подростку, никогда не найдешь дневников или писем. Вот почему биографии великих людей превращаются в череду сухих дат: тогда-то родился, тогда-то учился, изобрел, открыл, стал во главе…
Беллетристика! Семья, друзья, рост души — беллетристика! Но ведь такая «беллетристика» и есть тот свежий зеленый лист, который не только напомнит о могучем дереве, а заставит увидеть его и полюбить.
Однажды писательница Александра Яковлевна Бруштейн сказала:
— Почему актеры и режиссеры детских театров так любят, когда в зрительном зале аплодируют, кричат или смеются? Почему считается, будто аплодисменты и смех — признак интереса и волнения? Я больше всего люблю в зрительном зале тишину. Тишина означает: зритель думает. Он взволнован. И вот это раздумье, это волнение и есть признак того, что пьеса хорошая.
Минуты тишины, проведенные за чтением дневников и писем, часы раздумья — им нет цены. Они накладывают неизгладимый отпечаток на душу читателя. Все лучшее, что было в прошлом народа, в прошлом человечества, оживает для него. Лучшие люди прошлого, наша гордость и слава, становятся близки и понятны и живым своим примером учат думать, чувствовать, жить.
1959 г.
Не так давно я была на комсомольском собрании, где разбирали персональное дело двух юношей. Вступаясь за них, одна девушка сказала:
— Они хорошие, добрые люди.
И тогда кто-то из присутствующих сердито и с презрением возразил:
— Доброта? А зачем это качество человеку коммунистического общества?
Вы скажете: зачем обращать внимание на эти нелепые слова? Здесь нет никакой проблемы, все и без того ясно. Между тем проблема есть. И серьезная. Иные наши критики, едва услышав слово «добро», настораживаются, другие тотчас бросаются в бой, словно перед ними опаснейший противник, которого надо уничтожить, не медля ни минуты, пренебрежением, насмешкой или просто ударом наотмашь.
В повести Нины Ивантер «Снова август» один из персонажей, человек, испытавший много трудного на своем веку, говорит: «… в те годы, когда человек активнее всего занимается самовоспитанием, я считал для себя необходимым вырабатывать в себе железную стойкость, стальную решимость и тому подобные металлические качества. Что же касается доброты, чуткости, деликатности, то все это я относил к той категории человеческих свойств, которыми я, как мне казалось, мог обзавестись в любую минуту. Захочу — и буду добрым, подумаешь, добродетель! И в себе и в других людях я ценил иное. Вот сколько должно было пройти лет, чтоб я вдруг уразумел, что человеческая доброта — прекрасная, необходимейшая в жизни вещь».
Критик. Я. Эльсберг тотчас откликается на эти слова, он пишет в журнале «Знамя»:
«…доброта, гуманизм, не опирающиеся на идейную последовательность, на активное участие в политической идейной жизни, в борьбе, отличаются явной ограниченностью.
В буржуазном обществе, где нередко преследуется и такой гуманизм, он еще способен обладать некоторым общественным значением, если он видит зло этого строя. Но у нас такой гуманизм, выражаясь в отдельных добрых поступках, никак еще не определяет линию общественного поведения человека.
Когда же такая доброта противопоставляется политике и идейной последовательности (а приведенные здесь слова могут быть истолкованы так), то она становится пропагандой мещанской филантропии».
Сама по себе мысль о том, что доброту не надо противопоставлять политике и идейной последовательности, совершенно справедлива. Но какое это имеет отношение к повести Нины Ивантер?
Как и всякую другую книгу, повесть «Снова август» можно и должно критиковать. Но зачем «вписывать» в книгу то, чего в ней нет и быть не может?
Повесть Нины Ивантер посвящена становлению молодого человека. Горячо, страстно говорится в ней именно об идейной стороне жизни. Герой повести, Борис Башкиров, — человек общественный, его глубоко занимает все, что он видит вокруг. Он принимает активное участие в политической, идейной жизни, в борьбе.
«Я хочу, — говорит Борису парторг цеха Аристов, — чтобы из тебя борец получился. Борец против всякой дряни, а не ворчун с цитатами. Понятно? А борьба, она всюду идет. И все, что мы делаем, каждый шаг — это борьба. За что? Да за коммунизм, вот за что! Вот Моргунов вчера сцепился с Горошкиным насчет выпивки — что это такое? Иной скажет: петухи. Нет, это тоже борьба — за чистую жизнь. Вот мой пацан, Володька мой, дал в ухо мальчишке, тот девчонку скверно обозвал… По мне, и это не просто драка… И что нам, понимаешь, надо? Чтобы мы всегда за правду дрались во всем, в малости какой-нибудь, а не глядели бы со стороны: как, мол, это у них получается. Понимаешь ты это или не понимаешь? А?»
Борис понимает это не только рассудком, но всем сердцем. Он думает в ответ на слова парторга: «…Да, Аристов прав, борьба идет каждый день, каждую минуту… И вся штука в том, чтобы бороться и никогда не устать. И я не устану. И я буду, буду коммунистом. Я говорю не о партийном билете (вдруг меня не примут!), а о том, что я всегда, везде буду бороться, сколько станет моих сил. И будет мне от этого хорошо или плохо — все равно…»
Где же здесь противопоставление доброты — идейной последовательности и политике? Где здесь пропаганда мещанской филантропии? И зачем «истолковывать» ясные и понятные слова героя, ведь книга не сон, чтобы ее истолковывать. И каждому, кто читал «Снова август», ясно, что стойкость, решимость, принципиальность — качества, глубоко ценимые героями повести, их-то и стремится воспитать в себе Борис, ими в высокой степени обладает произносящий эти слова Борис Петрович. При желании всегда можно приписать словам не только второй, но и десятый смысл. Откуда берется это желание? Чем оно продиктовано?
На этот вопрос ответить трудно, однако факты — вещь упрямая: слово «добро» или другие, чем-то напоминающие десять заповедей, крайне возмущают иных товарищей. И есть случаи, когда в своем пренебрежении к простым и ясным понятиям они доходят до кощунства.
В журнале «Москва» опубликована статья В. Бавиной, и в этой статье есть такие слова: «Но, к сожалению, рассказов на современные темы в «Пионере» все еще мало. И большинство из них посвящено мелким, частным, незначительным проблемам (подчеркнуто мною. — Ф. В.), это даже и не проблемы, а лишь моральные сентенции, вроде: «человеку надо доверять» («Первый взлет» И. Дика, «Счастье» С. Георгиевской), «честным быть хорошо, а нечестным плохо» («Находка» И. Дика), «надо ценить чужой труд» («Георгиновый сад» Е. Судаковой), «не жадничай» («Несчастный случай» М. Яровой)… и т. д. Конечно, все эти сентенции сами по себе весьма правильны, они отвечают требованиям «пионерских ступенек», но художественная-то литература не может быть всего лишь иллюстрацией к такого рода сентенциям!»
Бесспорно, художественная литература не может быть всего лишь иллюстрацией к какой-нибудь мысли, даже самой правильной. Но как может критик детской литературы одним взмахом пера, в сущности, зачеркнуть все, что не только «соответствует пионерским ступенькам», но является душой и смыслом детской книги?
Итак, честность, доверие к человеку, уважение к чужому труду — это все мелкие, частные, незначительные проблемы. Это даже не проблемы, а моральные сентенции!!!
Но что же тогда значительно? И что же тогда проблема? И почему автор статьи не упрекнул Маяковского за его стихи «Что такое хорошо и что такое плохо»? Подумать только, о каких пустяках говорит Маяковский с детьми: нехорошо быть неряхой, надо быть чистоплотным; нехорошо быть драчуном, надо заступаться за младших; нехорошо быть трусом, надо быть храбрым. Почему В. Бавина не вспомнила об этих стихах? Потому что поэт защищен своей смертью и большим именем?
В. Бавина не говорит, что названные ею рассказы плохи, она утверждает, что они мелки, незначительны по теме. Что ж, возьмем наугад рассказ Е. Судаковой «Георгиновый сад».
Братья — Сергей и Валерка — опустошили в чужом саду георгиновую клумбу и потащили цветы на дальний базарчик. Торговля идет бойко, в карман мальчишкам так и сыплются хрустящие пятерки, трешки, потертые, кожаные на ощупь, рубли. И вдруг у лотка останавливается девушка: «А кто утверждал, что «Жар-птица» есть только у знаменитой бабки? Вот она сидит!»
Оказывается, у цветов есть имена: «Катенькой» звали фиолетовый георгин с белым, встопорщенным воротником. Тут был «Капитан Гастелло» — пурпуровый, он переливался, как знамя на ветру. «Пограничник» цветом напоминал солдатскую звездочку, а цветок с розовыми перьями назывался «Орленок».
«Валерке неудержимо хотелось спросить: ну как, ну как их делают, разные? Но она удивится: как это он не знает? И поймет все.
Она так доверчиво поглядывала ему в глаза. «Не знает, что мы украли…»
— У вас чудесные цветы! — радостно восхищалась девушка.
Валерка тупо уставился в ведро и затравленно поддакивал».
Братья уходят с базара. Пробегая мимо давешнего сада, они видят клумбу, которая напоминает корабль после бури, без парусов, с лежащими мачтами: «Надорванные цветы повисли… Привядшая листва казалась больной. А ведь только вчера здесь колыхались георгины невиданных расцветок, тяжелые, огромные, как праздничные блюда, а диковинная, вытянутая клумба напоминала корабль с пестрыми парусами…»
В. Бавина увидела в этом рассказе только одну сентенцию: «Надо ценить чужой труд». На самом деле рассказ гораздо глубже, в нем есть и другие «сентенции». Это рассказ о честности, о человеческой мысли, об умении видеть красоту и любить ее… В рассказе не сказано: не воруй, уважай чужой труд, люби красоту… Но когда Валерка падает в траву и плачет, мы знаем, что с ним случилось. До него дошли, — не словами, но чувством, образом, — глубоко, навсегда запали в душу все эти жалкие сентенции: будь человеком, уважай чужой труд — эта красота родилась оттого, что была освещена мыслью, полита потом, ты разрушил труд десятилетий, труд мысли и старых рук.
Детгиз выпустил книгу Ричи Достян «Нежданный друг». В обращении к маленькому читателю говорится: «События, о которых рассказано в этой повести, могут показаться незначительными».
«Такими они и показались», — восклицает писатель Сергей Воронин на страницах газеты «Литература и жизнь».
О чем же рассказано в книге «Нежданный друг»?
Сергей Ильич, герой повести, приехал на отдых в маленький южный городок. Здесь он повстречался с Кутей, пугливым щенком, которому живется на свете худо и бесприютно. Он приручил этого тощего, запуганного щенка и подружился с ним. И вот пришла минута отъезда. Что будет с Кутькой, когда Сергей Ильич уедет в Ленинград? Не брать же щенка с собой на шестой этаж в коммунальную квартиру?
«Сергей Ильич старался не смотреть на Кутю и не мог не смотреть…
— Ну, чего ты приуныл? — спросил он фальшиво-бодрым голосом. — Поди сюда!
Кутя не шелохнулся. Дрогнули только шишечки над глазами. «Ну, все, — подумал Сергей Ильич, — почувствовал! Теперь его уже не обманешь!»
Руки у Сергея Ильича дрожали…
— Провались ты совсем! — закричал он. — В карман я тебя посажу, что ли? В цех с тобой потащусь?
Стало так тихо, как будто пес исчез. Он опустил голову, смотрел в пол и ждал».
Кончается тем, что Сергей Ильич берет щенка с собой.
Так о чем же книга? О многом. О том, что мы всегда отвечаем за тех, кого приручили. О дружбе: «Если хочешь иметь друга, будь им». Простые эти мысли будут поняты маленьким читателем, потому что оба характера — характер человека и характер собаки — встают перед ним. Да, у щенка есть характер — упорство, с которым он старается охранять своего друга, глубина страдания, когда он боится, что его оставят, отчаянная решимость.
И читатель понимает: нельзя бросать друга в беде, хотя бы и четвероногого.
«Нежданный друг» — добрая книга. А доброта совсем не то качество человеческого характера, которое следует отдавать первобытному или, к примеру, капиталистическому обществу. Право, оно нужно и человеку будущего. Когда стрелочница бросается под паровоз и, рискуя жизнью, стаскивает с рельсов чужого ребенка, когда юноша, не колеблясь, идет на болезненную операцию, отдавая свою кожу обожженному товарищу, они прежде всего добры. И не надо приклеивать к этому простому понятию ярлыки: «буржуазный гуманизм», «мещанская филантропия».
В одной из своих статей К. Чуковский говорит: сказочники хлопочут о том, чтобы воспитать в ребенке человечность, эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою. Слушая сказку, ребенок становится на сторону добрых, мужественных, несправедливо обиженных, будет ли это Иван-царевич, или Зайчик-побегайчик, или бесстрашный комар, или просто «деревяшечка в зыбочке». И очень важно «пробудить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность со-переживать, со-страдать, со-радоваться, без которой человек — не человек».
Да, поистине без этого человек — не человек. Об этом пишущие для детей не имеют права забывать, и не стоило бы забывать об этом критикам детской литературы.
В прекрасном рассказе Б. Шергина «Офонина бабушка» говорится о том, как старуха осталась в деревне одна, с глазу на глаз с врагом. Она отказывается сообщить белым, куда ушел народ, где спрятан пушной товар, одежда, хлеб: «Солдаты вышли. Каськов говорит:
— Не взялась за ум Немирова? Застрелю среди полу!
— Стреляй! Помереть нашему брату краса.
Нерусской в медалях на меня поглядел:
— Что есть краса?
— Как не краса. В лесах замерзать не надо, у сплава тонуть не надо, с землей биться не надо, начальников бояться не надо, водку пить не надо… реветь не надо».
Простые вещи, усвоенные с детства, родили великое мужество, высокое человеческое достоинство, позволившие старой женщине выстоять, не дрогнув, исполнить свой долг. Она с детства знала, что хорошо, а что плохо, твердо усвоила все, что В. Бавина, несомненно, назвала бы моральными сентенциями: начальников бояться не надо, реветь не надо!
От книги для юношества критик требует изображения идейной жизни. Справедливо требует. Но идейная жизнь для малыша — это прежде всего воспитание чувств, самых простых и самых необходимых.
Долг, мужество, любовь к Родине — эти высокие понятия покоятся на простой и великой основе добра, чести, доверия к человеку. Любовь к Родине вырастает и из любви к родной природе, к ее георгиновым садам. Любовь к человеку в малыше воспитывается и на любви к живому — к щенку, к птице. И пренебрегать этим опасно: если в пять лет мальчишка сворачивает утенку голову, а в двенадцать обижает младшего, не будем удивляться, что в пятнадцать возникают дела о хулиганстве.
Мы живем в век атома. К познанию атома ученые не пришли бы, не овладев азами когда-то в детстве, в начале пути, не постигнув таблицы умножения. Как требовать от людей будущего высоких свойств, если в детстве они не постигнут душевной азбуки?
Да, из таких простых понятий, как добро, честь, совесть, вырастают долг, мужество, правда и героизм — все то, что делает человека человеком.
1960 г.
— Вот посудите сами, — сказал мне Сергей Андреевич, председатель Борщевского сельсовета. — Посудите сами, как тут сохранишь свой авторитет? Я вам верно говорю: без посыльного нельзя. Вот, к примеру, мне надо экстренно собрать заседание сельсовета, а посыльного нет. Что ж мне самому по хатам ходить, созывать? Эдак не заметишь, как свой авторитет потеряешь. Я и в центральные газеты писал, и Верховный Совет запрашивал, не отвечают! А как тут быть, посудите сами? Авторитет — дело не последнее. Как председателю без авторитета?
Слов нет, председателю сельского Совета без авторитета нельзя. Но, живя в Борщевке, я все время думала о том, что никакой посыльный не выручил бы вас, Сергей Андреевич.
Сквозь маленькое окно вползают сумерки, в хате почти темно. Передо мной смутно вырисовывается бледное лицо женщины. Платок повязан низко, по самые брови. Губы сухие, тонкие. Голос чуть хриплый. Ей трудно говорить, она задыхается, и все-таки говорить ей, видимо, легче, чем молчать.
— Вот говорят: колотись, бейся, а все надейся. А на что мне надеяться? Мне только и ходу, что из ворот да в воду. Вот послушай мою жизнь. Я с пятого года. Перед самой войной стали мы строить с мужем хату. Такая добрая была хата, вот только сенцы трошки не кончены. И война. Было пятеро детей — померли. Был муж — убило. Плакала, плакала, все очи выплакала. А потом опять замуж пошла за Евсеенко Трифона Кондратьевича. Вдовец. И дочка у него девяти годочков. Стали мы все вместе жить. И я сироту не обижала, у кого хочешь спроси, я ее, как свое дитя, любила, вырастила, я ее сильно жалела.
А потом муж мой помер. Остались мы вдвоем. И опять хорошо жили. А потом она замуж вышла и стала у меня хату отсуживать. За что, за что, скажи мне? Не хочу после этого на свете жить! Да попроси она, я сама бы на нее хату перевела. Я ее сама спрашивала: что тебе в приданое? Корову? Телку? Я все, что она просила, отдала. Да что мне надо? Мне бы только тихо свое дожить, зачем она меня так обидела? Зачем в суд пошла? Зачем доказывала, что хата не моя?
Я Маню, племянницу, позвала с собой жить. Она с мужем своим, Иваном, пришла и живет. И с детками. А суд хату надвое поделил. А Иван говорит: тесно тут, надо мне другое жилье подыскивать. Если Иван уйдет, я хату подпалю и сама сгорю! Не буду жить! Не хочу!
Что кричит в этой женщине? Одиночество и обида. Она уцелела после смерти детей, после гибели мужа. Теперь обида пришибла ее, отняла последние силы, и жить ей стало невтерпеж. Она не жалуется на суд, он, видимо, правильно поделил, по закону. Но какой же закон есть для этих двух женщин, если одна из них вырастила другую и, как говорят на селе, ни разу ее не обидела и все готова была для нее сделать? На селе говорят: родня мужа подбила на судебное дело. А где у дочери своя совесть? А где же односельчане, колхоз где? И где были вы, Сергей Андреевич? Почему не сказали: реши дело по-доброму, не обижай человека, который заменил тебе мать.
Нашлась бы у вас такая минута — не возникло бы судебное дело, не нанесли бы рану старому, больному, много пережившему человеку. Ведь не только хлебом жива «душа населения», она жива человеческим теплом и добрым словом. Да, тут доброе слово могло бы выручить, оно легло бы на чашу весов, как слиток золота, перевесило бы все беды, дало бы силы дожить трудную, полную горя жизнь.
Вот еще одна хата, и еще одна судьба. Настасья Прокоповна Войтович работала в колхозе с первого дня его существования:
— Бывало, шестнадцать коров выдою, а сколько килограммов сливок собью? Сколько льну сотру? Потом война. Простыла, заболела и погляди: рук нет. Истратила свое здоровье, обезручила — и только всем в тягость.
Ревматический полиартрит лишил человека обеих рук, они скрючены, изуродованы до неузнаваемости — ни работать в колхозе, ни понянчить внука, ни по дому похлопотать: за ней самой нужен уход. У дочери годовалый ребенок, а зять в армии. Дочь просила поставить ее техничкой в клубе: клуб неподалеку от хаты, значит, можно и в клубе прибрать, и приглядеть за матерью и сыном. Ей отказали: техничка в клубе есть, работает хорошо, снимать ее резона нет. Может, это и верно. Но согласиться с председателем сельсовета Сергеем Андреевичем, будто ничего другого придумать нельзя, я не могу. Семья военнослужащего, годовалый ребенок, безрукая мать, — кто же поможет этой семье? Полгода обивали они пороги, сколько раз обращались в сельсовет, к вам, Сергей Андреевич. Вы каждый раз отвечали отказом. Вы не хотели ни на секунду задуматься, проще всего было ответить: нет. Вы так и отвечали. А может быть, вы в это время раздумывали о том, как плохо, что при сельсовете нет ставки посыльного. И как это скверно отражается на вашем авторитете…
О своем авторитете, о том, как сделать, чтобы люди тебя уважали, наверное, думает каждый руководитель. Наверное, каждый человек, стоящий во главе учреждения или школы, завода, колхоза, понимает: ум, твердость, размах — необходимейшие качества руководителя. Но ему нужно еще одно, без чего руководить людьми нельзя, — сердце. Если сердце слепо — не видят глаза. Если сердце глухо — не слышат уши. А без пристального глаза, без умения слышать людей нет руководителя, тут уж не спасут никакие посыльные, будь их хоть по три на каждый сельсовет. Я не случайно снова и снова возвращаюсь к разговору о посыльном. Не только Сергею Андреевичу, председателю Борщевского сельсовета, кажется, будто его авторитет зависит от каких-то внешних обстоятельств, а не от того, как он ведет себя с людьми, как заботится о них, как отстаивает правду. Нет, так думает не он один. В деревне Масоны, неподалеку от Борщевки, состоялось заседание сельского Совета. Было это поздней осенью. Степаненко, бригадир полеводческой бригады, рассказывал собранию, как идет уборка картофеля и заканчивается сев озимых культур. Рассказ его был неутешителен: все государственные сроки прошли, а половина картофеля еще оставалась в земле. Бригадир жаловался на плохую, из рук вон плохую работу районной базы, на то, что некоторые колхозники, пока свою картошку не выкопали, на общее поле не пошли.
— Все, что говорил бригадир, верно, — сказали колхозники. — Райбаза действительно работает из рук вон плохо. И мы бригадиру тоже не всегда хорошо помогали.
— Верно, погано помогали, — сказал бригадир тракторной базы Болянок, — так в это же надо вдуматься. Степаненко на людей как смотрит? Пускай план выполняют, а на остальное ему наплевать. До меня ему рукой не достать, я тракторист, но я вижу, как он до людей. К нему приходят попросить, а он — как глухой: не слышит. Я сколь хочешь примеров приведу!
— Я не тракторист, я пастух, — сказал колхозник Панченко, — но и я могу пример привести. Вот Омельченко Антону надо было хлев поправить, ему за ремонтным материалом съездить подвода нужна. Он к бригадиру: дай коня, а бригадир слушать ничего не хочет, посылает куда подальше. Ты, Степаненко, в сторону не гляди! Ты слушай! Никто робить не отказывается, но пускай будет справедливость. К тебе люди за делом приходят, а ты лаешься!
Один за другим вставали колхозники и подтверждали: да, Степаненко с людьми груб. Главное его оружие в работе с людьми — окрик, угроза. Когда у одного из колхозников заболел малыш, Степаненко не дал коня, и ребенка тащили до больницы на руках. Доярка Надежда Шуман сказала о том, что в колхозе плохо поставлен учет: однажды она надоила сто одиннадцать литров молока, а ей записали сто пять.
Когда взял слово председатель колхоза, я думала, что он сейчас ответит на упреки, скажет о том, как пойдет работа дальше. Но я ошиблась.
Председатель колхоза встал и сказал слово в слово так:
— Нельзя такое говорить, не вполне верно! Бригадир Степаненко работает как следует, как полагается! Тише! — крикнул он, так как поднялся шум. — Тише! А то пойдешь из зала! На исполкоме так себя не ведут! И выступают одни лодыри!..
— То есть как это лодыри?! — раздался позади гневный голос. Я оглянулась. Почти у самых дверей стоял высокий, узкоплечий человек, он мял в руках шапку и говорил горячо, с горечью: — Это кто же лодырь? Я, например, в год тысячу сто трудодней вырабатываю. Я честно работаю. А Степаненко мне: иди, борони собой. А почему? Плуги колхозные. И все хозяйство колхозное, а не только Степаненко. Он плуги у себя во дворе держит, он все хочет в своем сарае запереть. А он не понимает, что это наше, а не только его. Ты будь с людьми по-хорошему, и они тогда по-новому станут работать и план выполнять, и тебя никогда не подведут.
Я думала, что на все вопросы, поднятые колхозниками, ответит в своем заключительном слове председатель сельского Совета Сергей Андреевич. Но я опять ошиблась. Председатель сельсовета сказал так:
— Какие вы имеете возможности? Вы имеете прекрасные возможности. Это надо понимать. На это нельзя закрывать глаза. Мы должны прислушиваться к критике. И если что не так, можно поправить. Надо мобилизовать, принять меры. А меры не были приняты. Это не секрет. И кое-что правильно в адрес сказали! И надо смотреть правде в глаза. Данный участок не был обеспечен. Мы примем решение, и обяжем, и взыщем. Не мешайте говорить! Не компрометируйте! А то и вывести недолго! И я надеюсь, что данная бригада озимый сев закончит! И выполнит! И давайте в этой части дело наладим! А если народ ошибся, мы поправим!
Любопытная вещь: все, что говорили колхозники, можно было пересказать, в каждом выступлении было зерно: мысль или рассказ о том, что случилось. А что сказали председатель колхоза и председатель сельского Совета? Ровно ничего. Какие меры надо принять? Какой именно участок не был обеспечен? С кого председатель сельского Совета собирается взыскивать — с бригадира или с колхозников, которые выступали? С кем он согласен и с кем не согласен? И как именно он собирается налаживать дело? Ни на один из этих вопросов ответа он не дал.
«Тише! А то пойдешь из зала!» — это не ответ. Даже малым детям учитель старается так не говорить, а в комнате сидели взрослые люди, работники, которые требуют, чтобы их достоинство уважали. Они говорили о том, что у них наболело, а им ответили: «Бригадир работает как полагается». Разве полагается грубо говорить с людьми? Разве полагается не давать лошадь, чтобы отвезти ребенка в больницу? Разве полагается так вести учет, чтобы вместо ста одиннадцати литров молока записывали сто пять?
Через несколько дней после заседания исполкома мне принесли в Борщевку такое письмо: «Здравствуйте, уважаемый товарищ корреспондент! Это мое маленькое письмо есть конечная часть того исполкома, на котором вы присутствовали.
На другой день снова было назначено бригадное собрание, и председатель колхоза Иосиф Степанович заявил, что выступавшие на исполкоме товарищи хотели не поправить дело в бригаде, а разложить трудовую дисциплину и опозорить председателя в присутствии постороннего человека. Но, говорит, мы об этом поговорим в другой раз и в другом месте, на бюро райкома партии. И еще, говорит, вы специально сговорились, чтобы снять бригадира, а это не входило в повестку дня. Тогда мы спросили, а сегодня входит? И председатель ответил: нет.
Колхозники спросили:
— А когда же?
— Никогда! — последовал ответ.
Он говорил еще долго и угрожающе, а кончил так:
— Это был не исполком, а концерт умалишенных.
И тогда все присутствующие встают и уходят:
— Нам здесь делать нечего.
Он видит, что дело приняло негодующий оборот и пахнет бензином, давай кричать:
— Товарищи, товарищи, стойте, погодите, вы же люди, извините меня, товарищи, я не так выразился!
Но, конечно, многие ушли, и только после этого он стал внимательно прислушиваться к голосу выступающих, а их было много. И далее:
— Ну, вот, товарищи, мы и разрешили все вопросы. Правление изберет другого, честного и настоящего бригадира. Все! Можете расходиться.
Вот что было у нас на другой день после исполкома, дорогой товарищ корреспондент».
Зачем дожидаться, чтобы дело приняло «негодующий оборот» и «запахло бензином»? Люди говорили дело, и надо уметь их выслушать. Это их хозяйство, их забота и тревога. Исполком заседал в школе, в классной комнате стояли парты, на стене висела черная доска, и на ней было написано детским почерком: «Замолкли веселые птушки. Сникли пригоженькие мотыльки». Но в классной комнате собрались не дети, а взрослые люди, хозяева своего колхоза, люди, хлебнувшие лиха, прошедшие сквозь огонь, сквозь войну. И Борщевка, и Масоны когда-то были сожжены дотла, до последней избы. Свою новую жизнь, свой вновь отстроенный дом колхозники доверили председателю, чтоб работать с ним рука об руку. Такое доверие надо беречь, а окрики и угрозы надо забыть — они в таком деле ни к чему… Как бы ни был умен и хорош руководитель, если он будет глух к голосу колхозников, а в своем словаре сохранит только «тише!» да еще «поговорим в другом месте!» — дело непременно примет «негодующий оборот». Если руководитель помнит, что «душа населения» — понятие не отвлеченное, не статистическое, что «душа населения» — это живой человек со своей радостью, со своей тревогой и болью, если он умеет не только спросить с человека, но и позаботиться о нем, в ответ родится уважение, тот самый авторитет, о котором вы так заботитесь, Сергей Андреевич. И авторитет этот будет глубок, прочен, он не разрушится от чужого слова, от навета. И неважно, есть у вас посыльные или вы сами пойдете по хатам созывать людей, ваш авторитет все равно будет с вами, как дыхание.
А если не слышишь людей, если не умеешь найти к ним ключ, работа твоя обречена на неудачу. И тут уж не выручит ни красивый кабинет, ни десяток телефонов на твоем столе, ни посыльные, сколько бы их ни было…
1961 г.
Это было в Магнитогорске. Я только-только начинала свою учительскую работу. Мне достался третий класс, и каждый из сорока ребят, сидевших за партами, казался мне загадкой. Что скрывается в этих детях, доверенных мне?
В любом из них мне чудился будущий Ломоносов, Амундсен, Седов, замечательный ученый, путешественник, герой.
Им было по десять-одиннадцать лет. С тех пор прошло более четверти века. Первые мои ученики уже стали взрослыми, их разбросало по свету, между нами легли пространство, время, война. Но я до сих пор помню их лица, их голоса, кто где сидел и — почерк. Да, как ни странно, подумав о ком-нибудь из них, я вспоминаю листок тетради и круглые, красивые буквы Шуры Зюлина и удлиненные, с энергичным нажимом — Коли Леканта. Я помню сидевшего в правом дальнем углу Тосю Горюнова и его почерк, такой же ясный и отчетливый, как он сам.
Очень занимал меня один из мальчиков — Коля Ветлугин. Это был человек бесшабашный, и сладить с ним было нелегко. Он не ходил — бегал, не говорил — кричал, не смеялся — хохотал во все горло. Его чуть было не исключили из школы потому, что однажды он без всякой надобности — просто так, от нечего делать — прошелся по карнизу третьего этажа. В другой раз он до крови подрался с шестиклассником, парнем вдвое больше него, — тот сжульничал во время игры. Он никого не боялся — ни меня, ни директора, ни своего отчима, угрюмого, молчаливого, с тяжелой рукой. Коле часто от него доставалось, но мальчик от этого не становился ни тише, ни послушнее.
Однажды Коля Ветлугин пошел в буран на поиски соседского малыша. Было темно, хлестал снег, хлестал беспощадно, слепил, лишал дыхания. Вернувшаяся с работы соседка хватилась четырехлетнего сына, забежала к Ветлугиным спросить, не у них ли он. И снова побежала искать.
Коля кинулся следом — в темень, ветер и снег. Он отморозил ноги, они покрылись пузырями; с неделю после этого он не мог шагу ступить. Но малыша нашел. Я была при том, как доктор протирал Коле спиртом обмороженные ноги. Это было больно, но Коля только покрепче закусил губу.
Учился он превосходно, со страстью. В том, как он учился, было то самое «чересчур», которое отличало все его поступки. Но тут оно меня не огорчало. Если я на уроке арифметики показывала ребятам какой-нибудь новый способ устного счета, скажем, как множить на одиннадцать, он потом умножал разные числа на одиннадцать весь день напролет и приходил в восторг: получается!
В первые же недели занятий он прочел учебники по естествознанию и по истории от корки до корки. Если надо было на уроке грамматики придумать два-три предложения, где встречалось бы отрицание «не» с глаголом, он придумывал целый рассказ. И в каждом предложении было «не» с глаголом…
Я любила этого мальчишку. Все в нем было распахнуто, открыто настежь. Подкупала его независимость, его бесшабашная храбрость, его постоянная готовность помочь.
И вот однажды, провожая меня после школы домой, он на прощание сунул мне сложенный пакетиком листок бумаги. Я развернула пакетик и прочла слова, написанные крупным, размашистым Колиным почерком: «Пожалуйста, отсадите меня от Вальки. Не говорите ей ничего, только меня отсадите».
Вот и все, что было написано на тетрадном листке в клеточку. И хотя это было много лет назад, я помню и этот смятый листок, и каждую букву этой размашистой строчки.
Валя была тихая светловолосая девочка. Милое личико, большие синие глаза. Валя с Колей сидели на одной парте с начала года, и я любила на них поглядывать. В Вале было много тишины и покоя. Она и думала тихо, медленно. И у доски, бывало, прежде чем ответить, помолчит. А потом поднимет на тебя свои синие глазищи, вздохнет и неторопливо скажет:
— Приставки из, воз, низ, раз, без, чрез, через перед глухими согласными меняют «з» на «с». Беспризорник, но безбрежный…
Они с Колей дружили. Вместе ходили из школы. Часто вместе делали уроки — Коля приходил к Вале. Валина семья жила в просторной, светлой комнате, а Ветлугины ютились в землянке — тогда Магнитогорск еще только строился, и с жильем было трудно.
Если мы отправлялись в экскурсию, Коля и Валя шли в паре. Если играли в лапту или какую-нибудь другую игру, они были в одной партии. Когда мы после уроков оставались делать стенную газету (Валя очень хорошо переписывала заметки), Коля тоже оставался, хотя не умел ни рисовать, ни писать красиво. Одним словом, они дружили. Мы все привыкли видеть их вместе. И вдруг — «отсадите меня от Вальки»! Не такой был человек Коля, чтобы приставать к нему с вопросами. Но все-таки на следующий день я спросила:
— Вы с Валей поссорились?
— Нет, — ответил он, глядя в сторону.
— Ты на нее обиделся?
— Нет.
— Может быть, она на тебя обиделась?
— Нет.
— Тогда скажи ей сам, что не хочешь с ней сидеть.
Он посмотрел на меня. Никогда я не видела его лица таким. Страх — вот чувство, которого он, казалось, попросту не знал. А теперь на меня глядели глаза, полные отчаянного страха. Я ни о чем больше не стала его спрашивать и через несколько дней пересадила Валю поближе к доске, на первую парту. Ей очень не хотелось покидать свое место. Она с надеждой посмотрела на Колю: может, он вступится? Но он молчал, подперев щеки ладонями и пристально глядя в учебник.
Вскоре после этого, выйдя из школы, я увидела Валю. Она поджидала меня; молча взяла у меня из рук сверток с тетрадями и пошла рядом. Так обычно делали ребята, если им надо было поговорить со мной с глазу на глаз.
— Это Коля хотел, чтоб нас рассадили? — спросила Валя через несколько шагов.
Что мне было ответить?. Я поняла, что ответить правду не могу, и сказала малодушно:
— Почему ты так думаешь?
— Нас ребята дразнили. Ну, там «жених и невеста»… Я говорю: «Приходи ко мне на рожденье». А он говорит: «Не приду». И не стал к нам ходить. И уроки больше вместе не делаем. А всё ребята! Дразнили больно. Он и забоялся.
— Ну что ты! Разве Коля кого-нибудь боится?
— А тут забоялся, — упрямо повторила Валя.
…Она была права. Давний этот случай потому оставил такой глубокий след в моей памяти, что я впервые тогда задумалась о многих важных вещах. Я думала о том, как поверхностны и прямолинейны мои суждения о ребятах. Как мало я их знаю. Знаю, в сущности, только то, что они сами пожелают о себе рассказать. Я думала о том, как трудно заглянуть к ним в душу, как трудно понять их. И еще я думала вот о чем.
Что такое храбрость? Что такое мужество? Душевная независимость? Прямота? Почему все эти вопросы возникли у меня тогда по такому пустяковому поводу? Подумаешь, какая беда: одиннадцатилетний мальчишка стесняется сидеть с девочкой! Ребята пристают, дразнят — тут застесняешься!
Нет, повод не пустяковый. Коля, который действительно ничего не боялся — ни высоты, ни темноты, ни боли, ни отцовского ремня, — боялся ребят. Боялся не побоев, не боли — боялся слова. И еще он боялся Вали. Он не посмел ей признаться в своем страхе, он предпочел, чтобы ответственность за его отступничество взял на себя кто-то другой, скажем учительница. Отступничество? Опять слово, которое не идет к делу. Какое же тут отступничество? Мальчику всего одиннадцать лет…
Как-то одна молодая женщина спросила у Антона Семеновича Макаренко:
— Моему сыну десять дней. Когда я должна начать его воспитывать?
— Вы уже опоздали на десять дней, — сказал Макаренко.
В шутливом этом ответе кроется мысль, которую Макаренко не уставал повторять: воспитание начинается с той минуты, как человек появился на свет. Все, чем станет он потом дорог людям, рождается в нем еще в детские годы. И то, что в нас есть плохого, нетвердого, коренится там, в начале нашего пути.
Да, будь я тогда поумнее, знай жизнь лучше, я сказала бы Коле примерно так:
— Ты отказываешься от дружбы с Валей? Чего же ты тогда стоишь? Ведь это трусость, предательство. Хороши мы будем, если станем бросать своих друзей, лишь бы нам жилось спокойнее! Нет, если ты сейчас, в школьные годы не научишься дорожить дружбой, беречь ее и отстаивать, потом уж трудно будет стать верным, надежным товарищем.
А может быть, и не надо было произносить длинных речей. Может быть, как-то иначе следовало довести до сознания мальчика эту мысль. Но надо, непременно надо было, чтобы он понял: смелость не только в том, чтобы пройтись по карнизу третьего этажа. И даже не только в том, чтобы кинуться в метель на поиски ребенка…
Несколько лет спустя, когда я уже преподавала в старших классах, я была на комсомольском собрании, которое надолго мне запомнилось.
Принимали в комсомол одного юношу. Встала восьмиклассница Соня Рублева и сказала:
— Я против. Он бьет малышей, издевается над ними. Я много раз говорила ему, чтобы перестал, а он не слушается. Что же он за человек, если бьет беззащитных?
— А ты что за человек, если ябедничаешь? — крикнул кто-то.
Что тут началось! О юноше, подавшем заявление, попросту забыли. Пламя спора перекидывалось из угла в угол, оно бушевало, захватив весь класс. Кричали все, и я уже не пыталась восстановить порядок.
— Почему она ябеда? Почему, я тебя спрашиваю? Если бы она сказала не при всех, а на ухо, вот тогда бы она была ябеда!
— Если видишь подлость и молчишь, — это трусость!
— Я хочу сказать… Вот, по-твоему, Соня ябеда. Ладно, давай вообразим такой случай. Ты ведь собираешься стать писателем, у тебя должно быть воображение. Вообрази: ты уже кончил литинститут и работаешь в какой-нибудь редакции. И вот там выдвигают на какой-нибудь высокий пост человека, о котором ты знаешь, что он карьерист, подхалим. Неужели ты будешь сидеть и молчать? Нет, ты ответь! А если ты смолчишь, ты будешь трус, так и знай! А Сонька — смелый человек.
В классе раздался смех, и мальчик, защищавший Соню, видимо, тотчас понял, почему все смеются.
— Да, смелый человек, и неважно, что она мышей боится, и плевать я хотел, что она увидела мышь и вскочила на парту. Все равно она смелая! Вот мое слово, и ты меня не переубедишь!
Смелость… Мужество… Какие ясные, твердые, какие отличные слова! И неужто можно спорить о том, что они означают?
Видимо, можно.
Я знавала человека, замечательную писательницу — ее звали Тамара Григорьевна Габбе. Она сказала мне однажды:
— В жизни много испытаний. Их не перечислишь. Но вот три, они встречаются часто. Первое — испытание нуждой. Второе — благополучием, славой. А третье испытание — страхом. И не только тем страхом, который узнает человек на войне, а страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни…
Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? Не выдумка ли он? Нет, не выдумка. Страх многолик, иногда он поражает бесстрашных.
«Удивительное дело, — писал поэт-декабрист Рылеев, — мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости».
С тех пор как написаны эти слова, прошло больше ста лет. Но есть живучие болезни души.
…Человек прошел войну как герой. Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шел ей навстречу. И вот война кончилась, человек вернулся домой. К своей семье, к своей мирной работе. Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью, отдавая все силы, не жалея здоровья. Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, как себя, в невинности которого он был убежден, как в своей собственной, он не вступился. Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. Он не страшился смерти на поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости.
…Мальчишка разбил стекло.
— Кто это сделал? — спрашивает учитель.
Мальчишка молчит. Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок. Но он боится сказать: «Стекло разбил я».
Чего он боится? Ведь, летя с горы, он может свернуть себе шею. Переплывая реку, может утонуть. Слова «это сделал я» не грозят ему смертью. Почему же он боится их произнести?
Среди множества писем, приходящих ежедневно в редакцию газеты или журнала, опытный журналист тотчас приметит одно-два, чем-то непохожие на все остальные. Иногда такие письма написаны печатными буквами. Иногда — почерком, явно измененным: буквы идут вкривь и вкось; видно, что человек очень старался писать не так, как обычно. Эти письма — анонимные. Без подписи. Тот, кто их пишет, не хочет быть узнанным. Иногда это письма клеветнические, грязные, в них есть злоба, но нет правды. Но иногда анонимные письма, письма без подписи взывают о помощи. Они написаны людьми, которые боятся. Эти люди хотят восстановить справедливость, защитить честного человека, наказать подлеца, но они боятся сделать это вслух, прямо, открыто. Они хотят остаться даже не в тени, а в безвестности.
…Во главе одной больницы стоял невежда, карьерист и взяточник, озабоченный не тем, чтобы лечить больных, а тем, чтобы сорвать с них побольше денег.
Работавший в этой больнице хирург Смирнов не хотел мириться с такими порядками. Он выступил на собрании. Главный врач сказал Смирнову, что он лжец. Доктор Смирнов отправился в горздрав. Там его выслушали и… положили заявление под сукно. Доктор Смирнов написал в местную газету: «Врач не должен, не смеет раздумывать, кто лежит перед ним на операционном столе. Перед врачом лежит больной — и только. Он не источник обогащения — он больной…»
Об этом письме стало известно главному врачу больницы, и он сразу же уволил доктора Смирнова с работы. Смирнов не сложил оружия: он опять обратился в горздрав. В горздраве ему сказали, что он клеветник.
Доктор Смирнов был убежден в своей правоте, он знал, что в больнице после его увольнения царят те же подлые порядки. Он был прямым и честным человеком, кривые пути были ему глубоко отвратительны. Но он отправил еще одно письмо — в одну из центральных газет и… не подписал его. «Я всегда презирал анонимки, — писал он, — я всегда верил в силу вслух произнесенного прямого слова, но на этот раз неудача преследует меня по пятам. Я стар и болен. Я устал. Я перестал верить, что смогу добиться правды на том пути, что выбрал сначала. Приезжайте в наш город, проверьте то, о чем я вам рассказываю. Нельзя, чтобы больницей руководил корыстолюбец и взяточник, ведь от него зависит жизнь людей».
Когда в Н. приехал корреспондент, доктор Смирнов пришел к нему и помог разобраться в сложных хитросплетениях, которые всегда сопутствуют делам подлецов.
Анонимное письмо было для доктора Смирнова не уловкой, не способом избежать ответственности. Он был вынужден пойти на такой шаг, потому что в коллективе, где он работал, было попрано самое святое, самое необходимое право человека: говорить вслух правду[2].
…Я помню и другой случай: маленькое глухое село в Белоруссии. Председатель сельсовета, который каждому, кто посмеет поступить наперекор, угрожает:
— Я тут самый главный! Если захочу, могу твою хату по полену растащить.
Как бы то ни было, никто не кинет камня в пожилую женщину, которая посылает в районный центр жалобу и не подписывает ее. У нее нет сил бороться с самодуром и пьяницей, но она хочет восстановить справедливость, и она пишет: «Приезжайте к нам, помогите».
Но сейчас я хочу сказать не о старых, больных людях, которые делают то, что могут, то, что в их силах. Я хочу сказать о молодых и здоровых, у которых еще вся жизнь впереди.
«В нашем техникуме, — говорилось в одном письме, — нельзя произнести ни слова правды. Что бы директор ни заявил, мы должны покорно слушать и молчать. На днях Толя Клименко, наш однокурсник, сказал директору, что выпускной курс надо бы освободить от работы на подсобном хозяйстве, а директор за это лишил его стипендии. Толин отец погиб на фронте, мать умерла, ему никто не помогает, без стипендии ему не кончить техникум. Дорогая редакция, помоги нам».
Корреспондент так и не узнал, кто написал это письмо. Он разговаривал с тридцатью студентами — однокурсниками Клименко. Каждый из них горячо возмущался поступком директора, каждый из них мог быть автором этого письма. Но ни у одного из тридцати не хватило духу высказать свое мнение вслух.
— А почему именно я?
— А что мне, больше всех надо? — так отвечали Толины однокурсники.
Никто не хотел ссориться с директором. Это хлопотно. Схватишь выговор, а то и сам лишишься стипендии.
— Одному как-то страшно, — сказал Сергей Н.
Но их было тридцать! И, судя по всему, письмо это они писали все вместе. И все, как один, были не согласны с директором. И все, как один, промолчали. Они честные ребята и хорошие товарищи, они искренне хотели восстановить справедливость. Но они хотели, чтобы за них это сделал кто-то другой.
А вот еще одно письмо.
«Дорогая редакция!
Безобразно прошли выборы комсомольского секретаря в Н-ском экономическом институте. Мы, комсомольцы, хотели оставить Наташу Филиппову, которая была нам всем по душе своей общительностью и чуткостью по отношению к студентам. Но ее невзлюбило начальство наше. В список членов бюро ее не включили. Мы дополнительно выдвинули ее кандидатуру и единогласно проголосовали за включение ее в список.
Все кандидатуры обсуждались спокойно. Когда дело дошло до Наташи, против нее стали выступать директор института и секретарь райкома комсомола. Секретарь райкома сказал нам, что райком Наташу не утвердит, даже если мы ее и выберем. Почему? Неизвестно. Никаких фактов, порочащих Наташу, он не привел. Директор пошел на шантаж и угрозу. Обращаясь к собранию, он сказал: «Я буду смотреть, кто голосует «за», и запомню».
После шантажа и угроз директора Наташа попросила самоотвод. Голосование проводилось так: «Кто за самоотвод?» Поднялось десятка два рук, а на собрании было несколько сот человек. «Кто против?» (Директор внимательно и грозно смотрит в зал.) Никто не поднял руку. «Кто воздержался?» Опять никого. Так самоотвод приняли «единогласно».
Мы считаем выборы недействительными и хотели бы провести новые. Помогите нам в этом.
Откровенно скажем, что назвать свои фамилии мы боимся. Если ничего не изменится и директор узнает, придется лететь из института, из общежития или со стипендии. А факты можете проверить. Группа студентов».
Письмо рисовало тяжелую картину. Налицо было нарушение всех принципов советской и комсомольской демократии. Корреспондент «Комсомольской правды» выехал в Н. Он пришел в экономический институт. Он попросил объявить о его приезде по институтскому радио. Он пришел еще и еще раз. Он ждал напрасно. Никто из написавших письмо не заговорил с ним.
Студенты этого института, как и студенты того техникума, где учился Толя Клименко, хотели, чтобы все было по правде, по справедливости. Но и они предпочли, чтобы справедливости добивался за них кто-то другой, ну, хотя бы корреспондент «Комсомольской правды».
Но как может корреспондент, даже самый горячий, умный и опытный, один сделать то, чего не смогла сделать целая комсомольская организация? Ведь это комсомольцы института, а не корреспондент, знали и любили Наташу. Ведь это комсомольцы института, а не корреспондент, видели ее в работе и знали, что она достойна быть секретарем комитета. Их убежденностью, их верой не мог обладать человек, который приехал из Москвы и впервые видел и Наташу, и директора…
Всякий понимает, что нельзя сказать другому: «Поешь за меня» или «Подыши за меня». Но многие с легкостью говорят: «Подумай за меня». А это так же невозможно, как дышать за другого. И если мы верим в свою правоту, мы должны добиваться правды, не перекладывая свою ношу на чужие плечи. Корреспондент «Комсомольской правды» или другой газеты может и должен помогать людям восстанавливать справедливость, но рука об руку с теми, кто дал сигнал бедствия.
Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды:
— Бывало страшно, очень страшно.
Он говорил правду: ему бывало "страшно. Но он умел преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.
В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.
Я скажу правду, а меня за это исключат из школы… Скажу правду, а меня лишат стипендии, дадут выговор… Скажу правду — снимут с работы… Уж лучше промолчу.
Вот это «промолчу» и есть трусость. За молчанием иногда скрывается равнодушие. Но чаще всего трусость. И именно она делает возможной подлость. Молчание создает для подлости, для низости отличную «питательную среду». Подлость любит темноту. Она любит молчание. Предательство, гнусность питаются только темнотой, тайной. Света они не выносят. Вот почему молчание есть соучастие в подлости.
Читали ли вы книгу Гейма «Крестоносцы»? Прочитайте — это хорошая книга. И среди других людей там идет речь об одном рабочем по имени Тони. Он не принимал участия в забастовке, но, когда увидел, что полицейский замахнулся на женщину, он кинулся к ней на помощь, и его ранили. «Чего ради ты ввязался в драку?» — спросили его. И он ответил перед смертью: «Я думаю так: когда это случается где-нибудь, значит, случилось и со мной. И я не жалею о том, что сделал: когда ты видишь сорную траву, ты ее вырываешь с корнем. Иначе она заглушит все поле».
Ну, а «Мать» Горького вы все читали. Помните слова Андрея Находки? «Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколет она меня, — а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать».
Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». Но хат, которые были бы с краю, нет. Эту мысль очень точно выразил английский поэт Джон Донн, умерший три столетия назад: «Нет такого человека, что был бы островом, каждый — частица материка, часть целого. Если чей-то прах будет смыт морем, то Европа уменьшится, словно это был ее мыс. Смерть любого человека отнимает частицу меня, ибо и я — частица человечества… И потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».
Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. В ответе за все плохое и за все хорошее. И не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты — на войне, во время какой-нибудь катастрофы. Нет, не только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей испытывается человеческое мужество. Оно испытывается постоянно, в самых обычных житейских делах.
В комнате заводского общежития жили пять человек, все молодые рабочие. Жили душа в душу, хоть и знали друг друга не очень давно. Если кому приходила посылка, делили ее между всеми. Чемоданы никогда не запирались: все верили друг другу, и никому в голову не могло прийти хорониться от товарища. Комната называлась «голубятней», так как помещалась на самом верхнем этаже, а один из ее жителей — Николай Лобанов был страстным голубятником.
Однажды в «голубятню» пришел с просьбой комендант. Весь этаж ремонтируется. Так вот, не согласятся ли ребята приютить на время двух новичков — Валентина Безуглова и Сергея Коваленко?
— Потеснитесь, а?
Ребята согласились. Новые обитатели «голубятни» не нарушили заведенного порядка жизни. Но скоро стало ясно, что их связывают между собой совсем другие отношения, чем те, к которым привыкли на «голубятне».
Разные есть на свете дружбы. Дружат и похожие люди и совсем разные. Есть тихие дружбы, без ссор и обид, а есть друзья, которые постоянно ссорятся, но жить друг без друга не могут. У дружбы словно бы нет никаких законов. Но один закон у нее все-таки есть: дружба не знает начальников и подчиненных. А тут один говорил, а другой покорно слушал. Один властно приказывал, другой безропотно повиновался. Валентин был начальником, хозяином, Сергей — подчиненным. Валентин был сам по себе, а Сергей — только его тенью.
И вот однажды у одного из обитателей «голубятни», Вадима, пропала вся получка. Он положил ее, как всегда, к себе в тумбочку, а на другой день, вернувшись с работы, нашел ящик пустым.
— Конечно, вы подумаете на нас, мы здесь новички, — сказал Безуглов. — Но мы знаем вора. Это ваш Лобанов.
— Никогда не поверю, — сказал Вадим.
— Да вот Сергей сам видел, — спокойно возразил Безуглов. — Сережка, чего молчишь?
И Сергей подтвердил: да, он вошел в комнату, когда Николай Лобанов закрывал ящик тумбочки и рассовывал деньги по карманам.
Лобанов всегда нуждался в деньгах: половину своей получки он отсылал матери и сестрам в деревню. А на оставшиеся деньги питался, платил за общежитие и… покупал голубей. Голуби были его страстью. Они жили неподалеку, на чердаке, и Николай отдавал им все свободное время. Перед получкой он занимал то у одного, то у другого, потом раздавал долги и опять оставался ни с чем. Но поверить, что он украл, никто не мог.
— Я сам видел, — повторил Сергей, — своими глазами видел: стоит и деньги по карманам рассовывает. Еще пятерку уронил, я ему и поднял, не понял, что к чему.
В эту минуту открылась дверь, и вошел Лобанов.
— Колька, — сказал Вадим, — нужны были тебе деньги — ну сказал бы. Разве тебе кто когда отказывал?
— Ты про что? — недоуменно спросил Лобанов.
— А про денежки, которые ты свистнул! — сказал Безуглов.
Лобанов кинулся к нему и сшиб с ног. Завязалась драка. Лобанова и Безуглова едва разняли. Через несколько дней, ни слова не сказав товарищам, Лобанов взял на заводе расчет и уехал. В тот же день с утра, еще до его отъезда, пропали деньги у Алексея, другого жителя «голубятни». Все было против Лобанова, все улики налицо: раз молча уехал, значит, виноват. Не был бы виноват — поговорил бы, объяснил, а тут исчез, как вор. И опять прихватил с собой чужое.
— Нет, — сказал Вадим, — тут что-то не так. Не могу я найти покоя. Что-то мы сделали не по-людски.
И он написал в деревню, где жила семья Лобанова. Просил Николая вернуться: «Приезжай, поговорим. Ведь товарищи, сколько вместе жили. Не верю я, что ты взял. Приезжай».
Николай не вернулся. Вместо него приехала Тоня, его сестра. Она вошла в комнату под вечер, отворила дверь и с порога спросила:
— Где Коля?
Оказалось, Николай домой не приезжал.
Три дня обитатели «голубятни» метались в поисках Лобанова. Тоня, как в бреду, повторяла: «Он руки на себя наложил». И только Безуглов был спокоен и усмехался: «Да бросьте вы… Объявится».
И правда: на четвертый день парень, которому Николай перед отъездом подарил своих голубей, встретил Лобанова на другом заводе.
— Он там слесарем работает. Говорит, и там не останется, подастся на целину. А сюда не вернется ни за что. Говорит: раз они могли на меня такое подумать, они мне больше не товарищи.
— Скажите, какой лорд! — насмешливо произнес Безуглов. — Это каждый так может — сначала чужим поживиться, а потом разыгрывать честного. Вот ворюга!..
И тут Сергей Коваленко, сидевший до этого на койке, вдруг встал. Он был очень бледен, и руки у него дрожали. Он налил себе стакан воды, залпом выпил и сказал, обращаясь к Безуглову:
— Врешь! Это ты ворюга, а не Колька. Ребята, это Безуглов взял деньги у Вадима. И у Лешки. Я знаю. Но Валька сказал, что покажет на меня, если я проговорюсь. Сказал: всем докажу, что украл ты, и жизни тебе не будет ни на заводе, ни в городе. И научу кого надо — темную тебе устроят. Ну, вот… Вот и все… Это уже не первый раз я показывал, как он велит…. Но больше не стану.
Сергей Коваленко боялся Валентина Безуглова. Одолеть этот страх ему было очень трудно. Он не знал, поверят ли ему. Он не привык говорить правду. И все-таки он одолел свой страх и сказал то, что требовала его совесть. Как он пришел к этому? Встревожило его исчезновение Лобанова? Испугался он за жизнь человека? Смутили его Тонины слезы, Тонин страх за брата? Стала невмоготу унизительная зависимость от Безуглова? Кто знает! Но только такая минута пришла, и он сказал подлецу; «Ты подлец и клеветник!» И он сказал о невинном человеке: «Он не виновен!»
А это не всегда легко — говорить то, что велит твоя совесть.
Есть преступления, которые в Уголовном кодексе не значатся. За равнодушие к чужой судьбе не судят. Если один человек отвернулся от другого в беде, за это тоже не судят. За то, что не вступился за невиноватого, не судят. Не судят за то, что не сказал прямого слова, ответил криводушно, уклончиво, оберегая свою жизнь или свой покой. Да, за это не судят. Напротив, кара приходит иногда за прямое, правдивое слово. Но люди на это слово идут.
В фильме «Впереди — крутой поворот» рассказано: глубокой ночью машина сбила женщину. Это произошло в ноль часов семнадцать минут — так показывают остановившиеся часы на руке женщины. Шофер был очень усталый и не заметил, как это случилось.
Милиция ищет виноватого и не находит. Ничего не знающий о своей вине шофер Сергей собирается с женой и сыном в отпуск. И вдруг ему приходит в голову, что в тот день после двенадцати ночи только он один проезжал по шоссе. Именно в это время женщина вышла из-за крутого поворота, и, конечно, это он, он и никто другой, сбил ее. Сергею ничто не грозит: никто не знает о его вине. У него жена, маленький сын. Неужели пойти и признаться?
— Не пущу! — кричит жена. — Не пущу! Подумай о нас с Васей!
Но Сергей идет и признается. Ему грозит тюрьма, он знает это, боится этого — и все-таки идет. Почему? Потому что в человеке есть нечто сильнее страха.
В жизни я встретилась с историей, которая почти во всем совпадала с этой. Только главным действующим лицом был не молодой, полный сил и здоровья человек. Льву Ивановичу Кореванову было пятьдесят лет, когда на глухой дороге под Свердловском его машина наехала на пьяного. Лил дождь, темень была непроглядная, а пьяный лежал на дороге, и заметить его было трудно. Когда Лев Иванович вылез из машины и подошел к пострадавшему, тот был уже мертв.
Никто не мог уличить Кореванова. Глухая дорога и темень — вот и все свидетели. Даже след шин тотчас смыло дождем. Но Кореванов не торговался со своей совестью, не играл с ней в прятки, не говорил себе: все равно ему ничем не поможешь, он сам виноват, от него пахнет вином. Нет, Лев Иванович положил погибшего в машину и прямиком поехал в милицию… У Кореванова было пятеро детей, и на ноги встал только старший, а остальные еще учились в школе.
— Мне часто говорят, что поступил по-глупому, — говорил мне Кореванов, когда я встретилась с ним некоторое время спустя. — Не знаю. Знаю только, что с тем камнем на совести я жить бы не мог. Детей, конечно, жалко. Но они со мной были согласны. Нет, они меня не осудили, хоть им сейчас и несладко приходится. Мне еще говорят: трудно, мол, с такой совестью. Конечно, трудно. Так я легкого и не жду.
Легкого не ждет… Такой человек не оставит друга в беде и не побоится сказать слово в пользу справедливости. У него есть совесть, а совесть — это компас, который показывает, как следует поступать на нелегких поворотах жизненной дороги. Легкой жизни у такого человека не будет… Что правда, то правда!
У писателя Льва Кассиля есть книжка «Великое противостояние». Великое противостояние — это тот час, когда Марс и Земля стоят друг против друга. Час этот наступает раз в пятнадцать лет. И многим людям кажется, что когда-нибудь наступит в их жизни такое великое противостояние. И тогда-то состоится проверка всех их душевных и физических сил. Между тем великие противостояния часто встречаются в человеческой жизни. Только мы не всегда умеем это понять, не всегда замечаем эту минуту, не узнаем ее в лицо…
Во второй класс одной из сельских школ Одесской области пришел мальчик Трофим. Восемь лет — всю свою жизнь — он кочевал с цыганским табором, а теперь, когда цыгане перешли на оседлую жизнь, Трофима отдали в школу. Никто не хотел сидеть за партой с незнакомым мальчишкой. Его дразнили, всем казалось смешным, что он плохо говорит по-русски. И тогда девочка Лариса сказала ему: «Садись со мной». Теперь стали дразнить Трофима и Ларису, как дразнили когда-то моих учеников Колю и Валю. Их дразнили, а Лариса и Трофим не обращали на это внимания. Трофим приходил к Ларисе домой, они вместе делали уроки, играли.
Было это испытанием? Было. Так почему же маленькая, на вид робкая девочка оказалась душевно сильнее, тверже, чем мой Коля Ветлугин, который ничего на свете не боялся?
Что же такое мужество? Может быть, прав тот, кто говорит, будто есть два мужества — боевое и гражданское?! С этим вопросом обратилась как-то к своим ученикам ленинградская учительница Наталья Григорьевна Долинина. И услышала в ответ:
— Гражданское мужество — это отсутствие расчетливости, — сказал один.
— Не согласен. Напротив, это высшая расчетливость. Легче жить с чистой совестью, — сказал другой.
— Гражданское мужество — это когда умеешь поставить интересы людей выше своих, преодолеть в себе страх во имя справедливости, — сказал третий.
— Почему мы говорим о гражданском мужестве? — раздался тут еще один голос. — Мужество бывает одно. Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе обезьяну всегда — в бою, на улице, на собрании. Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. Оно в любых условиях одно. Если кто храбр в минуту опасности на поле боя, но трусит в повседневной жизни, того я мужественным человеком не назову.
Да, это правда! Мужество неделимо. Иногда оно в том, чтобы защитить невинного человека. Иногда в том, чтобы разоблачить негодяя. Мужество и в безбоязненном прямом слове, в том, чтобы отстаивать правду. Мужество проявляется по-разному, но оно неделимо, разрубить его пополам нельзя.
1961 г.
Глаза пустые и глаза волшебные
Выйдя на привокзальную площадь в Серпухове, я поискала глазами автобус на Тарусу. Вон она, очередь. Народу собралось много, видно, автобуса давно не было. Взяла в кассе билет и пристроилась последней.
Люди стояли не цепочкой, не по одному, как полагается в очереди, а по двое, по трое и разговаривали между собой. Накрапывал дождь, ветер был холодный, автобус все не шел и не шел. А главное, не было уверенности, что попадешь в него: народу собралось много, пожалуй, машина всех не возьмет.
Передо мной стояла старушка в аккуратно повязанном синем платке, сером чистеньком ватнике. Резиновые черные сапожки тоже были ладные, чистые, по ноге. Голубые блеклые глаза смотрели без привычной для стариков усталой печали. Говорила она улыбаясь, и голубые глаза ее глядели добродушно, а маленький курносый нос придавал лицу что-то детское.
— Смотря какой водитель приедет. Тут есть такой один — он всех нипочем не возьмет.
— Что ж так?
— Жалеет. Много народу для машины непосильно, вот он и бережет. — Она сказала это одобрительно и еще раз пояснила: — Жалеет, понимаешь? Транспорт жалеет.
— А чего его жалеть, транспорт? — сказал сивый старичок, стоявший подле. — Нас с тобой надо жалеть, а не транспорт. Машина, она что? Машину — ее под пресс и переплавят. А нас с тобой хрен переплавят. Понятно?
— А чего же тут не понять? Понятно. А только транспорт тоже…
— Идет! — сказал кто-то.
И правда: к остановке подходил автобус. На минуту все разговоры умолкли, все мгновенно забыли друг о друге, каждый был поглощен тем, как бы поскорее влезть в автобус. Но, усевшись, тотчас снова заговорили. Водитель был тот самый, что жалел транспорт, но на этот раз он взял всех. Автобус не быстро, но упрямо одолевал дорогу, подскакивал на ухабах.
— Повезло, повезло! — говорила старушка, расправляя на коленях юбку.
— Это я вам всем счастье принес, — опять откликнулся давешний старик, — я везучий. Вот уже третий день после Дня Победы, а я все гуляю и гуляю. Родичи, все, как один, бывшие фронтовики. Первый день, девятого — у сына в Серпухове, второй — у племянника в Тарусе, третий — опять тут, то же самое у фронтовика, у зятя. Сильно накачался. Сына школьники приходили поздравлять. Вы, мол, были на войне, и очень радуемся, что вернулись живой и невредимый. Очень торжественно было. Почет!
— Ко мне тоже школьники приходили, — сказал мой сосед, человек лет сорока. Загоревшее еще на зимнем солнце лицо, коричневые руки с короткими загрубевшими пальцами. На нем была видавшая виды короткая куртка и темные, потертые на коленях штаны из чертовой кожи. — Да, и ко мне приходили. Я в Тарусе недавно, а вот узнали, что был на фронте, и пришли поздравить. Но только почета никакого не получилось.
— Это почему же?
— А вот посудите. Входят три девочки. Одеты аккуратно, в руках цветы. Мне жена говорит: «Коля, к тебе пионеры». Ну, я приосанился, приглашаю: садитесь. А они — нет. Одна вынимает бумажку и читает: «Поздравляем защитника Родины, желаем успеха в мирной жизни, в трудовой деятельности», и пошло, и пошло! Защитник Родины!
— А ты разве не защитник? Ты и есть защитник. Чего же ты обижаешься? — удивилась старушка.
— Ну, не могу объяснить. Плохо говорили. Больно красиво.
— Так и нужно было, — сказал старик, гулявший на трех праздниках. — Вот ты сидишь сейчас, штаны на тебе заплатанные и куртка не так чтоб новенькая. А в праздник ты небось приоделся? Есть у тебя парадный костюм? Вот и слова есть парадные, на торжественный случай. Высокие слова. Так уж полагается.
— Есть у меня выходной костюм. Но если б он мне под мышками тянул, в плечах жал, на животе не сходился, а воротник если б, как петля, шею стянул, я б такой костюм носить не стал. Пускай слова будут торжественные, не возражаю. Не пусть они будут… Ну, живые, что ли. А то ведь насыпали слов на бумагу — и читают. А что моя мамаша тут же больная лежит — не поглядели. Знай, сыплют слова «трудовой подвиг», «трудовая деятельность», сунули цветы и пошли вон. Правда, у самых дверей одна задержалась, самая из всех маленькая. Поглядела на мамашу и говорит: «Выздоравливайте, говорит, поскорее». Я не против торжественных слов. Пожалуйста, пусть будут торжественные. Так ведь тут не торжественные слова, а деревянные, понимаешь? Или как мячики, стукнут и отскочат, стукнут и отскочат.
— Так ведь они от души говорили. Хотели порадовать.
— Нет, — упрямо ответил мой сосед, — от души так не говорят. Если от души — слова не такие…
Но откуда же они берутся, эти слова не от души? Почему слова поздравления показались человеку пустыми, округлыми, ничего не выражающими?
Эти слова были присыпаны пеплом других слов: чужих, невыношенных. За ними ничего не стояло, вот почему даже лучшие из них потеряли свой жар, свой цвет, свой запах…
…Однажды, когда я пришла в Дом-музей Поленова, дочь художника Ольга Васильевна сказала мне:
— Когда в музей на экскурсию приходят ребята, я с первого же взгляда понимаю, какой у них учитель. Я узнаю по глазам. Иногда приходят веселые, горячие, а в глазах — любопытство: «А ну, покажите, что у вас тут есть?» А иногда приходят такие… Ну, как вам сказать! Пустоглазые, что ли… Вот по этим пустым глазам я понимаю, что и учитель у них пустоглазый. Такие ребята ходят за мной лениво, вяло. И сами ни о чем не спросят и на мои вопросы отвечают зевая. Скучно им. Таких бывает трудно расшевелить. А бывают… Ах, какие бывают ребята!
И Ольга Васильевна рассказала, как однажды она подвела группу третьеклассников к картине Коровина «За чайным столом».
— Ух, как он их посадил! — радостно воскликнул один мальчик. — Колесом!
Почему он сказал — колесом? Ведь стол, за которым сидят люди на картине Коровина, — квадратный. А как; точно сказано, как точно увидено: колесом!
Картина Коровина — торжество белого цвета: тут кружат все оттенки белого — бело-кремовая скатерть, бело-желтое молоко, белая блузка отливает голубизной, бело-синий кувшин, белый солнечный луч на самоваре, белая тарелка на белой скатерти, белый блик на спинке деревянного стула, белая фуражка, белый бант в волосах. Белый — ослепительный. Белый — осторожный. Белый — сияющий. Белый — строгий. Белый блеск, белое кружение — и мальчишка увидел, почувствовал это и воскликнул: «Колесом!»
И дочь художника — она вела экскурсию — не удивилась: услышала и вместе с мальчиком обрадовалась. Она знала: меткое слово не рождается на пустом месте, оно всегда отражает мысль, чувство. И напротив, человек с пустыми глазами никогда не подарит горячим словом. Пустые рыбьи глаза хотят, чтобы слово было, как пустой орех: скорлупа есть, ядра нет.
Однажды я была на обсуждении пьесы, которую поставил Московский детский театр. На трибуну вышла девочка лет тринадцати и сказала:
— Экспозиция тут несколько затянута… Кульминация искусственно задержана… Урбанистические мотивы, пронизывающие спектакль, не кажутся мне здесь оправданными.
По одну сторону от меня сидел представитель Мосгороно. Он одобрительно кивал и был очень доволен выступлением девочки:
— Культурно… Начитанная…
Соседкой моей по правую руку была Александра Яковлевна Бруштейн. Она слушала, приставив к уху слуховой аппарат, и лицо ее выражало страдание.
— Когда дети матерно ругаются, — сказала она вдруг, — это очень плохо. Но это не так страшно: они подрастут, войдут в ум и перестанут. А «экспозиция» и «кульминация» — это страшнее, гораздо страшнее. Это как парша, от нее никак не избавишься.
Верно: страшнее. А почему? Да потому, что внешность невыразительных, пустых слов обманчива. Это не слова — это маски. Они учат ребят не выражать свои мысли, а замораживать их. Или попросту скрывать. Они учат неправде.
Однажды учительница сказала своим ученикам:
— Сейчас вы будете писать сочинение о первомайской демонстрации.
— А если я не была? — спросила одна девочка. — Шел дождь, а у меня калоши прохудились.
— Ты говоришь неправду, — ответила учительница. — Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение. Как я ходила на первомайскую демонстрацию».
Девочка покорно взяла ручку и, склонившись над тетрадкой, довольно быстро написала так:
«Утро было солнечное. Трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок».
Тут все было неправдой: первого мая шел дождь. Небо было затянуто тучами. Девочка сидела дома.
— Ведь ты же не была на демонстрации? Зачем же ты наврала? — спросили ее домашние.
— Да где же я наврала? Я просто написала сочинение. Ведь это не правда, а сочинение.
Частный случай? Нетипично? Нехарактерно? Нет, такая узаконенная неправда встречается нередко.
— Я хочу вас спросить, — сказала Ольга Васильевна Поленова, — вот однажды в «Пионерской правде» была анкета: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» Редакция некоторые ответы напечатала. Ответы были хорошие, но только очень между собой похожие. Я бы очень хотела знать, а были другие, непохожие? Вы не знаете?
Случилось так, что я знала. Да, однажды «Пионерская правда» предложила своим читателям анкету, совсем короткую, в один вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?»
Некоторые ответы газета опубликовала на своих страницах.
«Сначала я купил бы маме стиральную машину, — писал один мальчик, — потом завел бы двадцать кроликов и развел бы большой сад. Я уничтожил бы все болезни».
«Я спасал бы поля от вредителей, лес от пожаров», — писал другой.
«Я освободил бы негров, которые находятся в рабстве у капиталистов», — сообщал третий.
Дети хотели лечить, помогать, строить, открывать новые страны. Это неудивительно. К доброму открытию, к подвигу — спасти, вытащить из огня, прийти на помощь отважным путешественникам, погибающим в полярной ночи, — к этому стремится каждый мальчишка. Но, веря благородным ответам, которые опубликовала «Пионерская правда», Ольга Васильевна Поленова, человек, от журналистики далекий, но детям близкий, твердо знала, что были — не могло их не быть — другие ответы.
Она не ошиблась. Они были. Олег Осинин ответил на вопрос анкеты странно. У него был какой-то свой, таинственный ход мысли. Он писал:
«Я был тогда маленький. Я встал в семь часов утра. В этот день мне исполнилось восемь лет. В этот день мне очень хотелось разных игрушек, и вот я иду в школу. Начались уроки, и вот остался последний урок — чтение. Все ребята слушают и читают. А я сижу и думаю: хоть бы быстрее урок кончился. В это время вызвала меня учительница читать новый рассказ. А я и не знаю, какой. Она спросила: «Ты слушал?» Я сказал: «Нет». Тогда она взяла дневник и поставила «два» и сказала: «Садись». Я сел и думаю: «Хоть бы она ушла совсем. Я бы тогда не ходил в школу и мама не смотрела бы мой дневник. После школы я пришел бы домой и пошел бы в кино на четыре часа и вечером на восемь часов».
Это написал одиннадцатилетний Олег. Он рассказал об одном дне, воспоминание о котором жило в нем и мешало, как заноза. Потому что день рождения — это день мечты, день больших ожиданий, день больших надежд. А вместо подарков, игрушек, кино — двойка. И дома возьмут дневник и увидят эту двойку и будут ругать. И день потемнел, и тень от него протянулась из первого класса в четвертый, и на вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» — Олег ответил рассказом об этом дне: «Я сел и думаю: хоть бы она ушла совсем…»
Ответ Нади Розановой тоже не был опубликован. Она написала так:
«Если бы мне было все позволено, я пила бы по ящику лимонада. Когда бы не было мамы и папы дома, я включила бы телевизор и специально легла бы спать, не выключив его. Если бы я еще ходила в детский сад, я выливала бы под стол молоко, не спала бы в тихий час. А когда бы я пошла в школу, мне подарили бы на день рождения ручку, которая решала бы все задачки. Я бы побольше спала. Уроки я бы не делала. Я пропускала бы занятия в кружках. Побольше бы ела мороженого. Когда бы я пошла работать, я выбрала бы работу полегче или совсем бы не работала. Если бы я стала летчиком или парашютистом, я побывала бы в больших городах Советского Союза».
Лентяйка? Индивидуалистка? Эгоистка? Бездельница? Я думаю, ни то, ни другое, ни третье. Просто замученный воспитанием человек, человек, который по горло сыт всякими запретами: не тронь, не шуми, не сиди без дела, садись за уроки, пей молоко, не ешь мороженого, убери, отойди, замолчи… И человек взбунтовался, хоть на бумаге, а взбунтовался.
— А ведь она превосходно понимала, чего от нее ждут, — сказала Ольга Васильевна. — Она знала, что надо написать, чтоб ее ответ напечатали в газете. Но у нее накипело на душе. И она решила выложить все начистоту. Верно?
Верно. А ведь Надин ответ никак не зачеркивает тех высоких и благородных, которые напечатаны. Но половина правды, три четверти правды, девять десятых правды — не есть правда. Так же как и не было бы даже намеком на правду, если бы напечатали только ответ Нади или, к примеру, Оли Панкратовой: «Я ходила бы в кино бесплатно. Поехала бы в Ленинград бесплатно и осмотрела бы Зимний дворец. Каталась бы на каруселях бесплатно. Целый день. Облетела бы весь мир на самолете, бесплатно. И еще полетела бы на Луну».
Правда — это все разнообразие ответов, желаний, стремлений. И зачем пугаться таких ответов, как Надин, Олин, Олегов? Испуг этот ведет к одной очень страшной вещи: Ребята заранее знают, чего от них ждут. Им кажется: они усвоили «как надо» и, не раздумывая, не размышляя, не пишут — катают — «как надо». Они знают правила игры, они знают, что от них ждут не правды, а сочинения. А что такое узаконенное вранье безнравственно и наносит непоправимый ущерб, это остается за скобками.
— Я хотела бы, — говорит Ольга Васильевна, — чтобы люди навсегда сохранили волшебные глаза. Волшебные глаза все видят будто впервые: свежо, чутко. И насквозь. Это очень понимаешь, когда смотришь на детские рисунки. Вот если б осталось это на всю жизнь, чтоб глаза не становились пустые, чтоб не теряли этой свежести и чтоб не привыкали к весне, к зиме, осени, чтоб всегда видели, словно впервые. Понимаете: не привыкать! Все впервые!
Ты взглянул наверх и увидел белую полосу, прочертившую небо. Ты не слышал, как пролетел самолет, но по этому длинному белому следу знаешь: он здесь пролетал. Вот так же по разным приметам, встретившись с детьми, побывав в школе, библиотеке, я узнавала: здесь была Ольга Васильевна — она оставила след.
— Ты хорошо читаешь стихи, — сказала я одной девочке.
— Это меня Ольга Васильевна научила. Я читала стихи про море, а она говорит: «Ты читаешь только языком и губами». Я говорю: «А как надо?» А Ольга Васильевна говорит: «Ты читаешь и ничего не чувствуешь, ничего не видишь». — «Так ведь я и правда никогда моря не видела». — «А ты, говорит, поднимись рано утром или в сумерки на гору. И посмотри вокруг. И подумай». Я и пошла на гору и глядела далеко, далеко. Я все равно моря не видела, а читать стала хорошо. Почему такое?
Ольга Васильевна по глазам узнает, какой у ребят учитель. Думаю, еще хорошо узнавать это по ребячьим сочинениям.
Восьмого марта в шестом классе дали тему сочинения «Моя мама». Боря Б. написал:
«Я очень люблю свою маму. Она веселая, добрая, никогда не ругается. Вот наша соседка ругает своего сына и обзывает его всякими словами. А мама ей говорит: «Ну за что ты его! Ты что, себя маленькой не помнишь? Так же делала, и еще похуже».
Учительница на полях написала: «Ты не отметил таких качеств характера своей мамы, как трудолюбие и принципиальность».
Рядом с этими словами рукой Бори написано: «А моя мама непринципиальная, но все равно я ее люблю».
Под этой строчкой рукой учительницы поставлена двойка. И все же я думаю, что в этом поединке победителем остался Боря.
В тарусской школе я тоже читала сочинения о мамах. Володя Д. написал так:
«Я пришел домой и задумался: я сам не знаю, за что я люблю свою маму. Люблю и все».
Спасибо учителю: он оценил Володину сдержанность и не поставил ему двойки.
В тарусской школе много хороших сочинений. Вот сочинение «Первый снег».
«Начались первые холода. Вечером не выйдешь без варежек, так тебя мороз и начинает за пальцы щипать, по щекам шарить. И вдруг пошел первый снег. Он шел, как дождь — наискось. И люди говорили: «Вот и зима пришла!»
Коротко. Выразительно. Эти глаза не утеряли умения видеть, потому и слова нашлись непустые. А учительский красный карандаш не подчеркнул слова «шарить», не нашел его нелитературным или неуместным.
Вот несколько строк из сочинения «Мой характер».
«Я иногда говорю неправду. Например, когда я пролила бидон подсолнечного масла, то свалила свою вину на кошку. Знаю, что поступила неправильно, но сделать с собой ничего не могла».
И это сочинение убеждает: учитель не ждет стандартного ответа, и ребята пишут то, что им хочется.
«Я люблю бывать в Поленове, — пишет девятиклассница. — Люблю смотреть картины. Люблю смотреть на стекло, под которым лежат разные памятные для семьи Поленовых вещи. Тут и вышитый бисером кисет, и старинный письменный прибор, и визитная карточка Тургенева, тут и солонка Державина. Она синего стекла и украшена серебром. Тут много всяких предметов. Они молчат, ни о чем не рассказывают, но оторваться от них не можешь. Сначала я думала, это потому, что я, например, знаю об этих вещах по рассказам Ольги Васильевны. И знаю, что синяя лампа — это та самая, что на картине Поленова «Больная». Но другие, совсем новые экскурсанты этого не знают. А все равно стоят подолгу, смотрят и думают. «Немые свидетели», — сказала про них одна женщина. Она стояла и долго, долго смотрела и вдруг сказала: «Немые свидетели».
Среди разных тем для сочинения была и такая: «Через двадцать лет». Старшеклассники писали о том, как они приедут в Тарусу в 1980 году. Одни к тому времени собирались стать замечательными учеными, изобретателями, другие — врачами, архитекторами, третьи — конструкторами самолетов. Конечно, очень многие возвращались в Тарусу прямо с Луны, куда летали запросто.
«А потом мы все пошли в школу, чтобы встретиться с Мишей: он приехал в родной город, чтобы рассказать о своем полете на Луну. Все мы слушали его с большим интересом. Он, когда был школьником, уже мечтал летать на другие планеты. И вот, его мечта исполнилась. Он говорит, что пейзаж на Луне — безрадостный — мертвые скалы, высохшие озера. На Земле гораздо лучше».
Одна из девочек кончала свое сочинение о 1980-м годе так: «Целый день я ходила по родному городу и повторяла про себя: здравствуй, мой дорогой город, милая моя Таруса! Сколько стран я повидала, в каких только городах я ни была, а лучше тебя нет. Ты изменилась за двадцать лет. Улицы твои стали шире, зелени еще больше, летом ты, как один большой букет сирени. А вот и мой палисадник, дом, где я родилась и провела свое детство. Тут все по-прежнему, все как было тогда, ничего не изменилось».
Это очень точно по чувству: пусть уголок моего детства останется нетронутым, таким, как он мне запомнился и полюбился…
Есть сочинения лучше, есть хуже. Но в них нет стандарта, в этих сочинениях. И этим они привлекают больше всего. Потому что нет ничего опаснее стандарта. Стандарт отучает мыслить. Стандарт велит идти по проторенной дороге и все, что непривычно, объявляет неправильным и вредным: «Что это еще за выдумки?», «Вечные фантазии!» Необычное слово, свежий взгляд, неожиданный поворот мысли ему враждебны.
— Я вас узнала, — сказала мне в тарусской столовой молодая женщина, — вы часто приходили к нам в школу. А один раз пришли, когда выступал перед нами летчик. Не помните? Он только приехал с фронта. Вспомнили?
Я вспомнила. Я очень хорошо помнила этот день.
В самом конце войны в родной город на короткую побывку приехал молодой летчик. Времени было в обрез, но ему очень хотелось забежать в школу, где он еще так недавно учился. И, взяв за руку свою племянницу, которая поступила в первый класс той самой школы, куда он ходил десять лет, молодой летчик повел ее знакомой дорогой.
Он довел ее до самых школьных дверей, и тут им повстречалась руководительница первого класса.
— Зайдемте к нам, — сказала она молодому летчику, — встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас уже были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный сталевар… А фронтовика еще не было. Пойдемте!
Он согласился. И вошел в класс.
— Вот, девочки, знакомьтесь, — сказала учительница, — к нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта. Он учился в нашей школе и был всегда примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила внутреннего распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был вежливым учеником, он не грубил учителям, он…
Я взглянула на летчика. Он стоял красный как рак. У него было скуластое лицо и чуть раскосые глаза. И по взгляду этих глаз — веселому, чуть диковатому, было ясно: облик идеального школьника, который сейчас рисовала учительница, не имел к нему никакого отношения. Было очевидно: ему случалось нарушать правила школьного распорядка. Бывало, он опаздывал на уроки, бывало, не слишком аккуратно выполнял домашние задания. И то ли еще бывало!
— Все эти качества помогли ему стать настоящим воином, — продолжала учительница. — Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях.
Летчик смотрел на девочек, словно размышляя, что бы такое им рассказать? И что будет им интересно? Если бы среди них сидел хоть один мальчишка, какой-нибудь веснушчатый, курносый Петька, какой-нибудь любопытный Ленька… Ну, пусть бы они не так уж хорошо соблюдали режим дня, не были бы такими чистенькими и аккуратными, как все эти девочки в коричневых платьицах и черных фартуках. Летчик-фронтовик — он попросту боялся этих девочек. И вдруг, решившись, будто прыгнув с моста в воду, он заговорил.
Он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у врага. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, летчик увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя стояла уже глубокая осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза, ее давно не стригли — в доме не было ножниц. В доме не было ничего: ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла, чтобы умыться.
— А мать у девочки лежала больная, — рассказывал летчик, — она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девочка — голодная, холодная, грязная. И мы с товарищем моим Серегой вскипятили воды, посадили девочку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Серега на гражданке был сапожником. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмаки. Руки у меня видите, какие большие? — Летчик растопырил руку. — Как лопаты! А у девочки ножки вот какие, ну, прямо как у куклы. Потом из Серегиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. А потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки, а за волосами не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Ведь мы никогда этому делу не учились. И вот, послушайте, как мы сообразили: я взял горшок, небольшой, глиняный, ну, обыкновенный горшок, в котором варят кашу, картошку, молоко кипятят, и надел девочке на голову — и постриг по краешку ровно-ровно! В кружок постриг!
Молодой летчик смотрел на девочек, и видно было, что все эти аккуратные первоклассницы больше не пугают его. Они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, учительница смотрела на него недоуменно и строго. Пробормотав:
— Ну вот, какое было дело, — летчик умолк.
— Мы поблагодарим товарища фронтовика, — сухо сказала учительница, — и займемся устным счетом!
Когда летчик вышел в коридор, учительница шагнула вслед за ним и сказала с укором:
— А я надеялась, что вы расскажете детям что-нибудь поучительное, воспитательное! А вы…
— И знаете, что я вам скажу, — произнесла та, что семнадцать лет назад, в сорок четвертом году, маленькой девочкой вместе со мной слушала летчика, — знаете что… Вот странная вещь: сколько я с той поры слушала разных знаменитых людей — и артистов, и ученых — и не так чтобы много запомнила. А все, что тот летчик рассказывал, помню, как будто вчера. Все помню, и девочку с горшком на голове, и как он ее стриг, и как она смирно сидела, и как он кормил ее шоколадом. Ну, все, все, как будто видела своими глазами…
— Нарисуйте зимний лес! — сказала учительница.
Зашуршали листы альбомов. Девочка с туго заплетенной косой взяла желтый карандаш и первым делом нарисовала большое круглое солнце. Ее сосед решительным взмахом зеленого карандаша изобразил нечто такое, что без особого труда можно было принять за елку. Начало было положено. Минут через десять рисовали все. Все, кроме мальчика, сидевшего у самого окна. Зажав щеки ладонями, он задумчиво глядел перед собой.
— Тихомиров Коля! — позвала учительница. — Почему ты не рисуешь?
Коля Тихомиров встал. Ростом он был меньше остальных третьеклассников и очень худ. Смуглое большелобое лицо было усеяно коричневыми веснушками.
— Почему ты не рисуешь? — Голос учительницы звучал нетерпеливо.
Глубоко вздохнув, Коля ответил:
— Мне бы лист черной бумаги…
— Черной? Вечные фантазии! Пожалуйста, не выдумывай! Садись!
Мальчик сел и открыл коробку с цветными карандашами. А учительница, проходя мимо молодого журналиста, присутствовавшего" на уроке, наклонилась к нему и сказала:
— Это очень отсталый мальчик. Вечно ему в голову приходит что-нибудь несуразное.
А Коля стал рисовать. Он взял зеленый карандаш и нарисовал ровный ряд зеленых елочек. Потом, скосив глаза, взглянул на рисунок девочки, сидевшей неподалеку, и пририсовал рядом с елочкой желтое солнце. Потом взял белый карандаш и попытался изобразить снег. Он провел по зелени елок длинные белые полосы. Вздохнул и положил карандаш в сторону.
После уроков журналист увидел, как Коля шел из школы. Он ускорил шаги и, поравнявшись с мальчиком, спросил:
— Зачем тебе понадобилась черная бумага?
Коля поднял на него глаза и сказал:
— Я придумал картину: идет снег, а в лесу ночь. Все черное — и небо, и все, понимаете? А снег белый. Мелом! Вот если бы мне лист черной бумаги, я бы нарисовал… Здорово? Или нет?
— Здорово! — согласился его собеседник.
Он сказал это совершенно искренне. Потому что увидел все: и ослепительно черное небо, и ослепительно белую снежную мглу, белую землю в черной ночи. Да, тут пригодился бы лист черной бумаги. Ничего не скажешь…
Эту девочку я в первый раз увидела в Доме-музее Поленова. Она стояла в комнате учеников перед этюдом Коровина: белые березы на хрупком весеннем снегу. Она была в этой комнате одна, светловолосая, с очень яркими синими глазами, и смотрела пристально. Потом перевела глаза на этюд Остроухова. Он назывался так же, как коровинский: «Последний снег». Но последние зимние дни здесь были увидены иначе — голубой островок снега на прошлогодней траве. Как бы это точнее сказать: Коровин прощался с зимой, Остроухов ждал весны.
Девочка подошла к окну, за окном стоял голубой мартовский день — совсем новый, не такой, как у Коровина, не похожий и на остроуховский. За окном было много неба, и легкие весенние облака, и розовый снег, и солнце дрожало в сосульках, солнце плясало на стенах комнаты и вдруг остановилось на голубом островке снега, на бурой траве остроуховской акварели.
Через несколько дней я была на читке пьесы, которую собирался ставить драматический кружок Тарусского Дома пионеров. Среди участников будущего спектакля я признала синеглазую девочку. Вечером того же дня я снова пришла в Дом пионеров, чтобы познакомиться с Ириной Ивановной Флорентийской, которая ведет в Доме пионеров хореографический кружок.
Когда открылась дверь и на пороге появилась Ирина Ивановна, кто-то тихо произнес:
— В комнату вошли глаза!
И верно: легкая походка, красивые гибкие руки, и — глаза, глаза очень молодые, блестящие.
— Таня! Володя! — сказала она, и, взявшись за руки, в мазурке помчались по кругу девочка и мальчик лет двенадцати.
Ирина Ивановна хлопнула в ладоши и сказала:
— Летите! Летите! — И что-то мгновенно изменилось — дети улыбнулись в ответ на эти слова и впрямь полетели, оторвались от земли и полетели.
А потом в медленном чувашском танце плавно пошли четыре девочки. Иногда так приближается гроза — чуть зашумят ветки деревьев, едва приметно заколышутся кусты. Новый порыв ветра, еще, еще, еще — и вот закипела листва, зашумело все вокруг, голубые стрелы прорезали небо, гром все слышней, налетел вихрь, и небо грянуло грозой. Медленный, плавный ритм набирал быстроту неприметно, но упрямо, и быстрота эта становилась все явственнее, все отчетливее — и вдруг танец стал пляской. Плясали четыре девочки и среди них — та, яркоглазая, примеченная еще в поленовском доме.
Я не много узнала из разговора с ней. Как она успевает? Это верно, успеть трудно. Но ей все интересно. В Поленово она не так просто ходит, она будет экскурсоводом. Да, да, что ж тут удивительного? Ольга Васильевна собрала несколько девочек-десятиклассниц и занимается с ними. Они будут экскурсоводами. В спектакле играть тоже интересно. А заниматься в кружке у Ирины Ивановны — очень интересно.
В самом деле, что тут поделаешь, если человеку все на свете интересно и все хочется увидеть, и все понять? И не беда, если не поспишь ночь за книгой, и если вскочишь ни свет ни заря, чтоб успеть выучить роль, и до школы еще сбегаешь в Поленово — всего три километра — через речку, полем, лесом…
И долго потом, сидя на уроках в тарусской школе, читая детские сочинения, разговаривая с учителями и ребятами, я вспоминала эту девочку, для которой — как говорит Житков — время идет плотнее, чем в шекспировской драме: для нее все внове, все хочется узнать, побольше унести из детства. Кто ей в этом поможет? Школа. Книга. Люди, которые не забыли своих детских лет, которые хотят научить детей видеть, слышать, радоваться людям, работе, снегу, небу, слову — всему, что на свете прекрасно.
Газета «Литература и жизнь» однажды поместила статью под названием «Лицо писателя». Там было сказано:
«Сейчас в литературе толчется кучка пижонов. Пишут они о том… что увидели из окна троллейбуса на московских тротуарах, о том, как пушист снег на Никитском бульваре, — чирикают, выходят со своим чириканьем на подмостки «творческих вечеров», аплодисменты девиц со средним образованием принимают, как знаки всенародного признания, и, упоенные дешевым успехом, все дальше отстраняются от большой народной жизни».
Когда не знаешь, о ком идет речь, не можешь ни спорить, ни соглашаться с тем, справедливо ли названы пижонами литераторы, о которых идет речь в статье. Одного нельзя понять: если литератор не видит, как пушист снег на Никитском бульваре, то какой же он литератор? Если он не умеет увидеть ничего интересного из окон троллейбуса, он тоже не литератор. И настоящий писатель, не пустоглазый, во всем, всегда, где бы он ни был: в лесу, на целине, у реки, на заводе, в троллейбусе, в Москве или в Братске, — увидит жизнь, ее свет, ее тени, ее людей. Кто это установил, что именно должен, а чего не должен видеть художник — писатель ли, живописец? Все он должен слышать, все видеть — и снег на Никитском бульваре, и московские тротуары.
Учитель тоже должен видеть и слышать. И думать. Если слышит он, что мальчишке нужен лист черной бумаги, пусть не спешит объявлять его умственно отсталым. Пусть попробует понять, что за этим кроется. Пусть не устанавливает, каким положено быть ответу на вопрос, который задаешь детям. Потому что как только дети сообразят (а соображают они быстро), что положено, а что не положено, так тотчас возникнет стандарт. Свои истинные мысли они оставят для себя, друг для друга, а учителю выдадут «сочинение»: «Утро было солнечное. В голубом небе был слышен рокот самолетов», или «Экспозиция тут несколько затянута».
Воспитывать — это значит рассказывать людям правду о жизни и о них самих. Воспитывать — это значит помочь человеку найти себя, помочь развиться всему, что в нем богато и причудливо. Было бы слишком легким делом вкладывать в детей готовую душу и готовый разум.
Воспитывать — это значит открывать детям глаза на мир, огромный, прекрасный и многообразный. Учить видеть, слышать. И если человек научится видеть и слышать, он никогда не скажет пустого, рыбьего слова. Все в нем воспротивится стандарту, пустому штампу.
«Детское время… идет плотнее, чем в шекспировской драме». Да, именно так. Все, к чему мы привыкли, все, что перестали замечать, для детей — впервые и полно загадок. Каждый ребенок — творец, первооткрыватель. И как только взрослый об этом забудет, он тотчас станет тем садовником, который выращивает не фруктовые деревья, а телеграфные столбы.
1961 г.
Несмотря на жару, голова повязана черным платком — из-под платка глядит сморщенное, навек загоревшее лицо. Глазки — пристальные, хитрые.
— Мария Федоровна? Бычкова? Это я. Садитесь. И хорошо, что пришли. Милости прошу. Я, конечно, полы мою, но ничего. Садитесь. Из газеты? Ну, в общем, для печати? Бери тетрадку, пиши. Не стесняйся, не стесняйся, вытаскивай тетрадку и пиши. Ко мне всегда посылают. Меня тут вся власть знает. Сверху донизу. А как меня не знать — я на все руки. Я работы не боюсь. Я и с телятами могу, и с курами, и кладовщицей, и фуражиром. Раз тут приходили, чтоб меня рисовать. Нарисовали. Я насчет работы всегда впереди. Записала? Ну, все. Больше нечего писать, все сказала. Нет, постой, погоди. Я хоть три класса всего кончила, но я пить-есть брошу, а газетку почитаю. И книжку могу почитать. Меня тут не зря вся власть знает. Так и говорят: наша бабка. Это — я. Ты что ж мало как записала? Или памятливая? Ну-ну. Раз и так запомнила — нечего бумагу марать. Так и запомни: наша бабка в работе быстрая и никакого труда не боится.
Она вдруг поникла, прикрыла глаза темными тяжелыми веками и заговорила устало, медленно, надолго замолкая:
— Вправду запомнила? Ну и ладно. Чего ты смотришь? Небось думаешь: какой, мол, в горнице непорядок. Ничего не поделаешь… Кухня вся гнилая. Сын с женой отделился, я им горницу отдала, а сама в этой кухне осталась. Надо бы ее починить. Да ведь деньги трудно достаются. И здоровье не то, что прежде. Моя жизнь очень трудная. Хорошего-то я мало видела, а вот плохого — у-у-у! Плохого — сколь хочешь. Я вдовой осталась лет двадцати пяти. Году в пятнадцатом, что ли… Пожила маленько одна с двоими ребятами, а потом приняла в дом плохого мужичонку, пьяницу. Помаялась с ним да и погнала вон. Ерундовый был мужичонка. И осталась одна с пятерыми ребятами. Ну, маялась, ну, натерпелась я — вспомнить страшно.
Колхозы начались — я в колхоз. Походила на курсы и стала конюхом. Я хорошо за конями ходила. Поверишь ли, мне те кони по сю пору снятся. Ну и работала я! Ну и работала! Ведь мне пятерых ребят поднимать — легкое ли дело? Вот я погляжу, как иной раз люди работают. Прошло восемь часов, а они на руку смотрят, что часы показывают — значит, подошел конец работе. А разве работе есть конец? Нет, работе нет конца.
Как мы жили, как детей растили — это ж вспомнить — и то страшно. Но подняла детей. Потому что работы не боялась. Я ведь на все руки. Я сама ребят обшивала, они у меня в школу, знаешь, как чисто ходили? Я сыну Сереже всегда говорила: учись, дитя, учись, ангел мой. А чем кормить? Хлеб да вода. Нет, с тех пор жизнь, конечно, далеко ушла, ничего не скажешь. Разве ж мои внуки так учатся? У них все есть: и одеты, и обуты, и сыты. А Сережа… Его перед самой войной взяли на действительную. Он все говорил: «Ты по мне не плачь, не плачь, мама». А я, дура, плакала. Не знала, какая беда ждет. Война — и убили. Вот когда поплакать-то пришлось.
Ивана тоже взяли на фронт, совсем мальчонка был, совсем дитя. Но, слава богу, вернулся. Раненый, но вернулся. У него сколько-то тонких кишок вырезали, но организм молодой, справился. И женился. Сноха — учительница, образованная, да и он сам не плох — электрик. Живут хорошо. Вот сейчас отделились, а я тут, на кухне осталась. А дочь Маша? Она в Москве диспетчер на автобазе. Очень ответственная работа. Еще дочка Зина — милосердной сестрой в больнице, Анна — в совхозе по нарядам — все при деле, все хорошо живут и внучат мне нарожали.
Оглянусь назад и думаю, да как же я их подняла? Наверно, я и правда морозоустойчивая. И еще я себя хвалю, что ничего не боялась. Вот в войну бонбят, а я из дому не ухожу. Есть, которые боялись, а я — нет. Война — и пусть война, а я сама по себе, меня не сломать. Меня, бывало, немец пихнет, а я, думаешь, стерплю? Я его сама пихну. Я им спуску не давала, немцам. Я одну кобылу с колхозной конюшни — самую лучшую — к себе на двор взяла. Содрала ей шкуру со спины и заживать не давала, чтоб немцы не взяли, И доберегла до своих. А конь, лучший наш конь, — он такой лихой был, он им не поддался, немцы его нипочем поймать не могли, немцы его и убили. Какие кони были! Этого никто понять не может! Я после войны в конюхи уж больше не пошла. Руки не те. Но я все работы превзошла. Я могу и дояркой, и телятницей, и фуражиром, и кладовщиком. А косить? Марина — первая, а я вторая. Я стога хорошо кладу. Все стога мною сложены, лучше никто не кладет. Я вот только кур не люблю. От них дух тяжелый. И после коней мне с курами дело иметь ни к чему. Но и то, когда птичница наша сына выдавала — кто ее подменял на птичнике — опять же я! Я работать люблю. Мы все у матери такие, работящие. Моя мать умерла — восемь человек сирот оставила, но мы все в люди вышли. А одна моя сестра — лучше всех — работает в Кремле курьером.
Ты думаешь мне сколько годов? Шестьдесят девять. А если спрашивают: бабка Маруся, сколько тебе годов, я говорю: «Годы мои назад пошли. Раз Марусей зовут — значит, молодею».
Доктора говорят: побольше сахару ешь. Я и ем. Я себе какава варю, молочка подолью — и пью. Мне сейчас совхоз молоко выдает. Раньше не давали, а я говорю: «Товарищ директор, что ж такое, неужто у совхоза для меня молочка нет?» И мне сразу двадцать литров — бултых!
А главное дело, я работу люблю. И люблю я хорошо сделать. И хоть я сейчас на пенсии, отдыху мне все равно нет. Чуть что — ко мне. В телятник, в курятник, к коровам — где наша бабка? Это — я. Зовут — иду. Ну, раз за ради бога просят — как не пойти? Вчера пришли — зовут хлев чистить. Неужели, раз меня нарисовали, я должна дерьмо убирать? Но пошла. Потому, что если не работать…
Она снова поднимает глаза, смотрит пристально. И говорит:
— А горя я хватила — на десять жизней…
И чуть погодя:
— И правильно, что ничего не записываешь. Что тут записывать? Живу. Работаю. Вот и вся история…
1961 г.
Теорему можно считать доказанной
Это было почти четверть века назад. Я учительствовала тогда в школе-новостройке. Все мы работали здесь первый год, а дети первый год учились: они пришли из разных школ, а иные приехали из других городов. У всех в дневниках значилось, что они удовлетворительно усвоили учебную программу предыдущего класса. Но это было не так. В моем пятом классе писали с ошибками, непозволительными и в третьем, а что до арифметики, то даже четыре действия не были усвоены прочно.
Итоги первой четверти были поистине ужасны: на класс приходилось по десять-двенадцать неуспевающих.
— Ни под каким видом! — было сказано учителю арифметики и мне, преподававшей русский язык.
Нам обоим было предложено собрать детей, получивших неудовлетворительные оценки, и провести с ними еще один диктант и еще одну контрольную по арифметике. В диктанте должны были фигурировать не новые трудные слова, а те самые, на которых ребята споткнулись в предыдущих диктантах. В контрольной по арифметике была, в сущности, та же задача: тот же пешеход, те же километры, — только цифры другие.
Мы толковали, что, как бы ни были написаны эти новые контрольные работы, ничего не изменится — не могли мы за одну четверть наверстать то, что было упущено за четыре предыдущих года: ребята пришли к нам с отметками, которые даже отдаленно не отражали их знаний.
Мне бы очень хотелось написать, что мы были стойки и отказались проводить новые контрольные работы. Но нет, будем суровы и откровенны — мы их провели. Конечно, эти новые, облегченные контрольные дали те же невеселые плоды. И начался новый спор, который, скорее, напоминал торговлю:
— Толе Б. вполне можно поставить «посредственно». Эти четыре ошибки вполне можно считать за одну, ведь они все на безударные гласные…
В разгар этой баталии неожиданно подошла подмога: в «Правде» появилась статья о процентомании в школах. Кто-то вырезал эту статью и повесил ее в учительской. Ее читали вслух, перечитывали про себя, все — и опытные, и едва начавшие работать учителя — говорили только о статье, среди учителей царило ликование.
Но, как пишут в романах, шли годы. И радость моя и моих друзей с тех пор сильно померкла. Пожалуй, не было с той поры учебного года, когда бы вновь и вновь на страницах газет не появлялась статья о процентомании. Не было такой учительской конференции, когда с трибуны не было произнесено это слово. И сколько правильных мыслей было высказано, сколько неопровержимых примеров приведено! Чаще всего сравнивали работу учителя с работой врача. И говорили: разве может врач вывести среднюю температуру нескольких больных и по этой средней цифре делать выводы о состоянии их здоровья? Конечно, нет. Какой же смысл в среднем проценте успеваемости? Разве можно по нему судить о знаниях ребят или о кропотливой, трудной работе учителя?
Да, эти слова и мысли повторяют учителя уже не одно десятилетие, и каждое слово тут справедливо. Теорему процентомании следует считать доказанной. Доказано, что далеко не всякая удовлетворительная оценка обеспечена золотом прочного знания. Все действующие лица — ученик, учитель, директор — знают об этом. Знают в роно, и в гороно, и в министерстве. Никто не введен в заблуждение. Какой же во всем этом смысл? Ровно никакого. Кому это нужно? Вот на этот вопрос ответить труднее. Ведь правда, как бы она ни была горька, лучше неправды. Она оставляет глаза открытыми. Но в том-то и дело, что есть люди, которые так дорожат душевным покоем, что предпочитают зажмуриться: не видеть!
Пусть ребята переходят из класса в класс, не усвоив программы. Пусть они безграмотно пишут и плохо решают задачи. Зато сводки рисуют благодатную картину: 97 процентов успеваемости, 99. А то и все 100. Такова негласная позиция ревнителей процентомании.
Это очень удобно для любителей канцелярского руководства. Не надо изучать ни детей, ни школу, ни учителя. Приехал, увидел сводку — сделал вывод, дал характеристику любому учителю, любому школьному коллективу. А можно и не приезжать, можно и заочно решить, кто хорош, а кто плох: 70 процентов успеваемости? Конечно, плохо. 90? Хорошо!
Потребовать, чтобы учитель поставил удовлетворительную отметку, легче, чем объяснить тому же учителю, в чем порок его работы. Чтобы сказать: у тебя ребята не успевают, значит, ты плохой учитель, — мало заявить: у тебя только 70 процентов успеваемости.
Нет, для этого надо ходить к учителю на уроки. Надо вдуматься в его работу. Надо найти его слабое место и понять, в чем его сила. Надо проверять знания детей не от случая к случаю, а постоянно. Надо уметь помочь. А если учитель плох, недобросовестен, надо добиться того, чтоб его освободили от работы. Все это трудно. Очень трудно. Но это единственный путь к тому, чтобы знания детей стали прочными. Другого пути просто нет. Всякий другой путь есть ложь.
Когда более двадцати лет назад я проводила повторную диктовку для тех, кто получил оценку «плохо», я накрепко, на всю жизнь запомнила вот что.
На задней парте сидел мальчик-переросток, ему было лет четырнадцать. Диктуя, я ходила по классу и вдруг, подняв глаза, встретила его взгляд. Да, много может молча сказать один человек другому. Тут было все. И насмешка: что, придется зачеркнуть плохую-то отметку? И сочувствие: эх, ты, бедняга. И утешение: все так делают. Это был взгляд сообщника.
А может, мне это все показалось. И я просто прочитала в этом взгляде все, что знала сама.
Может быть, самое опасное в процентомании, в погоне за отметкой во что бы то ни стало, вопреки всему, — это неправда, которая встает между детьми и учителем. Об этом пишут все учителя, откликнувшиеся на статью В. Зорина «Еще о вирусе процентомании» («Литературная газета» от 13 июня 1961 г.).
Воспитание правдой, воспитание чувства чести — вот без чего нет учителя. Но кто может сказать: «Всегда говори правду», — если дети знают: сам учитель не всегда правдив?
Учитель ставит тройку тому, кто и двойки-то не заслуживает. Что же ребята этого не видят, не понимают? Неужто ребята слепы и глухи, неужто же они не сознают, что этот поступок не в ладах с правдой? И чего в таком случае стоят речи учителя о честности, о правдивости? Неправда не знает меры. Как только учитель солгал, он потерял доверие, уважение ребят. Его слово больше ничего не стоит. В лучшем случае он вызовет жалость. А такая жалость сродни презрению. «Вы все равно исправите мою двойку», — иногда это говорится вслух.
Можно сказать: что же это за учитель, если он идет на подлог? Как бы на него ни нажимали, он не вправе поступать вопреки своей совести. Он должен понимать, что это безнравственно. Он должен говорить правду, несмотря ни на что, — иначе как он сможет учить детей мужеству?
Что ж, это справедливо. Но сказать только это было бы ханжеством. Потому что нередко учитель бывает попросту атакован со всех сторон, и если опытный учитель, уверенный в себе, в своей правоте, умеет выстоять, то молодой иногда отступает…
Любопытно: из множества откликов, пришедших на статью В. Зорина, только три написаны людьми, которые с В. Зориным не согласны. Один из них опубликован, и принадлежит он инспектору школ Днепропетровского областного отдела народного образования. Что же пишет инспектор? А вот: «Но можно ли мириться с тем, чтобы учитель «свободно», то есть равнодушно, выставлял двойки «по своему усмотрению», не заботясь об общешкольном показателе…»
Тут все удивительно в этих четырех строчках. Почему слово «свободно» взято в кавычки? С каких пор слова «свободно» и «равнодушно» стали синонимами? И по чьему же усмотрению учитель должен ставить отметки?
Учитель не может примиряться с двойками, он, конечно же, должен добиваться того, чтобы все его учащиеся прочно усваивали программу, но неужели же, выставив всем тройки и четверки, он тем самым повысит истинный общешкольный показатель?
Отметка — это глубоко личное дело учителя. Он за нее отвечает. Она ему не легко дается, и редкий учитель ставит двойку равнодушно. Но ставить он ее должен поистине свободно и по своему усмотрению.
Я не думаю, что учитель должен быть рабом отметки. Он хозяин отметки в самом прямом смысле этого слова. Совершенно неверно то преклонение перед запятой, которое существовало у нас много лет и, скажем, лишало одаренных выпускников медали. И напротив, мне кажется, вполне возможен случай, когда учитель под свою ответственность переведет в следующий класс ученика с двойкой.
Да, такой случай вполне возможен и вполне жизнен. Есть дети, которым одиноко и трудно в семье, дети, для которых школа — настоящий дом. Они привыкли к соученикам и классному руководителю, разлука с учителем и товарищами для них будет большим и горьким испытанием. И глубокого уважения достоин учитель, который решит не ранить эту душу и скажет: я не оставлю его на второй год. Я не могу поставить удовлетворительной отметки, это будет неправдой. Но я возьму его с собой и помогу.
Он будет прав: научить правописанию глаголов легче, чем излечить одинокий или надорванный характер. Юридической ответственности за то, как сложится судьба ученика, учитель не несет, а перед своей совестью — отвечает. И рядом с этой огромной ответственностью непостижимым кажется ежеминутное вторжение в журнал успеваемости, подсчет двоек и троек.
Мы начали статью с того, что процентомания родилась много лет назад. Что с тех пор не проходило года, чтоб о ней не говорили и снова и снова. Кто же все-таки этому виной? Учительские письма в редакцию отвечают в один голос: органы народного образования — районные, городские, Министерство просвещения. Учителя говорят: создана обстановка, которая заставляет учителя поступать вопреки правде. Но позвольте, вправе ответить органы народного образования, министерство никогда не издавало никакого приказа, в котором бы требовало от учителей того или иного процента, оно постоянно напоминает о том, что учитель обязан добиваться прочных знаний у своих учеников, но что же общего имеет эта справедливая мысль с нажимом? Кто тут посягает на совесть учителя?
Идет собрание секций средней и высшей технической школы Московского математического общества. Слушается доклад о состоянии математических знаний у выпускников средней школы. Докладчик говорит, что, вместо действенного и гибкого контроля за работой учителя по существу, в школе царит и давит пресс процентно-количественной отчетности. Что это неизбежно приводит к процентомании и очковтирательству. В доказательство своей мысли докладчик приводит в пример школу, где директор требовал от учителей высоких отметок (не знаний — отметок!). Право же, случай не такой уж редкий.
— Обстановка в школе была такова, что учитель был лишен гражданского мужества и оказался орудием в руках нечестного директора.
Так сказал докладчик. И на эти слова тотчас последовала реплика ответственного работника Министерства просвещения РСФСР:
— Я считаю, что это клевета на школу. То, что вы говорите, это не о советском учителе.
Да, разговор короткий! Клевета, советский учитель не таков! К чему спорить, вникать в суть дела? Не таков — и все, клевета — и дело с концом! Но, право же, угроза — не лучший аргумент в споре. И спор этот длится десятилетия именно потому, что учитель горячится, доказывает, сопротивляется, а в ответ — либо угроза (у вас низкий процент успеваемости, вы — плохой учитель), либо настойчивый, глухой ко всему поток новых и новых требований, которые сводятся все к тому же — к проценту.
В письмах, приходящих в редакцию, учителя утверждают, что эта бессмысленная практика должна быть официально отменена, хотя никогда не была официально декретирована. Слишком серьезна и сложна работа учителя, чтоб ее можно было определить цифрой. Цифра только помогает руководству упростить работу, но такое упрощение преступно и безнравственно: оно не только затемняет картину, оно ведет к неправде, развращает и учителя и школьника. В школе должно царить доверие к учителю, ибо только его опыт и его совесть — главные источники правдивой оценки знаний учащихся. Свободно, по своему усмотрению поставленная отметка приведет сначала к тому, что общая картина окажется куда более печальной, чем была она до сих пор. Но у нее будет то преимущество, что она правдиво отражает жизнь и заставит думать о том, как исправить знания учащихся, а не отметку.
1961 г.
На третьем курсе физического факультета Московского университета каждый год проходит распределение студентов по различным специальностям: одни идут на кафедру физики твердого тела, другие — на кафедру теоретической физики, третьи решают посвятить себя геофизике — на физическом факультете около двадцати кафедр.
…На кафедру биофизики принимали всего десять студентов, а желающих было около восьмидесяти. Пришлось устроить конкурс. Собеседование было трудным: при таком наплыве желающих можно было выбрать самых подготовленных. И первым прошел Слава Цуцков. По единодушному мнению сотрудников лаборатории, он обнаружил блестящие математические способности, глубокое знание биологии, физики, химии, способность творчески мыслить.
В списке, который подала в учебную часть лаборатория биофизики, Слава был на первом месте. Деканат утвердил всех. Всех, кроме Славы Цуцкова. Почему?
— Он плохой студент, — последовал ответ. — Он пропускал занятия, он опаздывал на лекции, у него есть выговоры, он не ведет общественной работы.
— Как не ведет? Он руководит математическим кружком для школьников на мехмате!
— Но он это любит!
Дважды ходил профессор, руководитель лаборатории, к заместителю декана. Оба раза заместитель декана, ссылаясь на авторитетное мнение инспектора курса, отказывал профессору в его просьбе.
Слава Цуцков молчал. Он не умел хлопотать за себя, не умел просить и настаивать.
— У тебя что, постановление такое — всегда молчать? — спросила его одна девушка.
— Почему? Когда мне есть что сказать, я говорю, — ответил Слава.
А тут ему нечего было сказать. Трудно обивать пороги и говорить о себе: я способный. Меня отметила комиссия. Я хочу быть ученым. У меня есть для этого все данные. Но об одном он все-таки попросил: он попросил у заведующего лабораторией биофизики разрешения посещать эту лабораторию.
Полтора года Слава был, в сущности, при двух кафедрах: на кафедре физики твердого тела — по закону, по обязанности, потому что его туда зачислил деканат. В лаборатории биофизики — по любви, по неодолимому желанию, потому, что избрал биофизику делом своей жизни.
Перед зимней сессией к заместителю декана пришла сотрудница лаборатории биофизики Галина Николаевна. Она сказала, что Цуцков блестяще работает в лаборатории. Что, по существу, он выполняет небольшие научные исследования. Что у него замечательные способности и редкое соединение математического склада ума с глубоким увлечением биологией, наукой описательной. Но заниматься при двух кафедрах — нагрузка непосильная. Лаборатория снова просит перевести Цуцкова к ним.
Галина Николаевна ушла из деканата, заручившись обещанием заместителя декана: если Слава хорошо сдаст зимнюю сессию и добьется того, что с него снимут выговоры, он будет переведен на кафедру биофизики.
Подошла сессия. Слава хорошо сдал все экзамены и тотчас стал ходить только в лабораторию биофизики: наконец-то сбылась двухлетняя мечта! Но оказалось, что он поспешил. Выяснилось, что он не подал заявления о снятии выговоров. Выяснилось, были случаи, когда он пропускал занятия на кафедре физики твердого тела (ведь иногда часы занятий на двух кафедрах совпадали). Следовательно, должен понести наказание: нельзя переводить его в лабораторию биофизики.
И опять начались хлопоты. Теперь за Славу хлопотали уже обе кафедры. Преподаватели кафедры физики твердого тела ценили в Славе способного студента, однако понимали, что он должен быть там, где его интересы, его увлечение, его любовь. После длительных споров Славе разрешили, оставшись на кафедре физики твердого тела, заниматься по индивидуальному плану, включающему и предметы, которые должен изучать биофизик. Однако разрешения перевестись в лабораторию биофизики Слава так и не получил.
Случалось ли вам составить представление о человеке, которого вы никогда не видели? По письмам, по рассказам друзей? Наверное, случалось. Ну, а если вместо писем — аттестат зрелости и личное дело, точно такое же, как заведено на всех студентов университета, а вместо рассказов друзей — выписки из приказов о выговорах?
Аттестат зрелости рассказывает о юноше, который был кандидатом на медаль: только две четверки. Экзаменационный листок скупо сообщает, что юноша принят на физический факультет университета. Никому не пришлось хлопотать за него: он с честью прошел по конкурсу. Ну, а если бы сам за себя не постоял, никто бы, пожалуй, и не помог: Слава Цуцков — сирота. Мать умерла, когда ему было девять лет. Отец снова женился, и мальчик жил с бабушкой-пенсионеркой.
Вот обо всем этом сказано в короткой автобиографии, написанной отчетливым детским почерком: Вячеслав Сергеевич Цуцков, русский, год рождения — сороковой. В 54-м вступил в комсомол. Летом 57-го года кончил школу, осенью поступил в университет.
Личное дело рассказывает, что юноша хорошо учился в первом семестре и гораздо хуже — во втором. На третьем курсе — пестрые отметки, а на четвертом — только хорошие и отличные.
Почему он стал учиться хуже? Почему стал получать выговоры? Личное дело этого не рассказывает. Оно немного может, в его распоряжении только факты и цифры, этим человека не исчерпаешь. Люди — вот люди могут рассказать больше. А самого Славу Цуцкова уже ни о чем не спросишь: третьего мая он покончил с собой.
Когда человек кончает с собой, оставшимся в живых нелегко назвать настоящую причину, то единственное обстоятельство, которое заставило его это сделать. Даже когда человек в предсмертной записке называет того, кого он считает виновным в своей смерти. Даже тогда. Потому что поступок этот безумен, потому что только в слепом, нечеловеческом отчаянии можно оборвать свою жизнь. Но одно бесспорно: принимая это безумное решение, человек или на самом деле одинок, или кажется себе непоправимо одиноким, и в ту последнюю, черную минуту не находит ни в ком опоры, не видит просвета. Слава в своей смерти никого не винит. Но мы обязаны сделать попытку понять, разобраться в том, что случилось. Тем более, что, бывая в эти дни в университете, мы столкнулись с вопросами, которые выходят за пределы этого трагического случая.
Он был плохой студент, говорит инспектор курса. Не признавал никакой регламентации. Поверите ли, никакого проблеска.
Профессор дает такую характеристику: «Мощные способности, незаурядное дарование».
Деканат заявляет: «Недисциплинированный студент».
Аспирант мехмата, который знал Славу еще школьником, вспоминает: «Я гордился тем, что у меня в кружке такой мальчик».
Я была на заседании комиссии, которой было поручено разобраться, что же произошло со Славой Цуцковым и почему он покончил с собой. По одну сторону длинного стола сидели студенты той группы, где учился юноша. По другую сторону — члены комиссии.
Студенты не очень хорошо знают Славу — они ведь при кафедре физики твердого тела, а Слава все время пропадал в лаборатории биофизики. Нет, он не был замкнутым, говорят они. Он был просто немногословным. Нет, он не был недисциплинированным — он, правда, пропускал занятия, но ведь он работал на стройке. И, кроме того, он учился, в сущности, сразу при двух кафедрах. А это очень трудно…
— А почему он получил выговор за неявку на самообслуживание? — спрашивает доцент, один из членов комиссии, и добавляет, не дождавшись ответа: — Всех вас избаловали мамушки и нянюшки. А что до кафедры биофизики, то ведь это главным образом вопрос моды…
Ни один из членов комиссии никогда не видел Славу. Доцент считает, что у деканата были все основания не зачислять Славу на кафедру биофизики «потому, что деканату надо выполнять план, и потому, что разгильдяев и бездельников надо воспитывать». И все время он возвращается к своей главной мысли: «А почему это конец света, если Цуцкова не зачислили на кафедру биофизики?»
Вот и заместитель декана говорит: «Любовь Цуцкова к биофизике переходила все границы здравого смысла!»
И это говорят физики, это говорят ученые! Да что было бы с наукой, если бы любовь к ней всегда находилась в пределах здравого смысла? А какое чувство вело мальчишку из Архангельской губернии пешком в Москву? С точки зрения здравого смысла многие поступки Ломоносова, Эдисона, Павлова были просто нелепы. Когда человек избирает в любимые какую-то область науки, то это тем сильнее, тем глубже, что здесь в избрании, в предпочтении участвует разум. А преданность, верность — безрассудны. И все слова о том, что другие области физики не менее прекрасны, почтенны, необходимы, не доходили до Славы. Скажем прямо: он избрал не самый легкий путь. Выбирая кафедру биофизики, он, по существу, выбирал вторую специальность. Оставаясь физиком, он должен был пройти сложный курс другой трудной науки и стать хозяином в биологии. Мода? Можно ли называть это модой?
Но, может быть, деканат факультета и инспектор курса правы в другом, в том, что Слава был человеком антиобщественным?
Думается, человек, так преданный науке, уже не может быть назван антиобщественным. И неужели его горячая любовь к кружку школьников дает право считать, что он не вел общественной работы?
Студенты рассказывают, что Слава охотно помогал товарищам:
— Он знал больше нас, но мы не стеснялись спрашивать его. Он никогда не относился свысока к самым примитивным вопросам.
— Когда мы работали в совхозе, все очень не любили мыть бидоны из-под молока. И мальчишки обычно сваливали это на девушек. И Слава один из всех мальчиков всегда помогал им.
Пустяк? Конечно. Но этот пустяк говорит о том, что юноша не был белоручкой и не по барству не явился однажды на самообслуживание. И стыдно было слышать от члена комиссии: «Вас мамушки и нянюшки испортили», — нельзя так говорить о человеке, который рос сиротой.
Да, когда человек кончает с собой, не всегда мы можем уверенно назвать ту единственную причину, которая заставила его совершить этот страшный и непростимый поступок. И здесь мы не знаем всего… Но одно мы знаем твердо: многое, многое в последние два года нелепо и бессмысленно осложняло Славину жизнь. Препятствия, которые приходилось ему преодолевать, были искусственными и нелепыми, созданными чьей-то злой и неумной волей. Тратить на них силы было горько и трудно.
По свойству своего характера, целеустремленного, сдержанного, по образу жизни — трудному, сложному, по своей незаурядной одаренности он заслуживал самого пристального внимания, самого доброго попечения. А вместо этого придумали схему отвлеченного хорошего студента без плоти, без крови, без единого проступка и в прокрустово ложе этой схемы уложили живого человека. Зачем? Кому от этого стало лучше? Науке? Педагогике?
В эти дни мне не раз пришлось слышать в университете:
— Стоит ли об этом говорить? Мальчика все равно не воскресишь.
Да, не воскресишь. А говорить, а писать надо, необходимо. Чтоб беречь живых, чтоб растить их для жизни, для науки…
1961 г.
— Зинаида Петровна очень хорошо работает с семьей, — сказал мне директор школы. — Поинтересуйтесь непременно, много поучительного найдете.
Зинаида Петровна кончила педагогический институт три года назад. Она встретила меня очень приветливо и подтвердила, что не мыслит себе работы с детьми, если не знает их родителей и всего, чем живет семья.
— У меня давно есть сигналы о неблагополучии в семье ученицы Корешковой Оли. Я в прошлом году была там несколько раз и уже изучила обстановку. Пойду и сегодня. Хотите пойти со мной?
Когда мы пришли, ученицы Оли Корешковой не было дома, но остальные члены семьи сидели за столом — отец, мать и младшая девочка.
Матери лет тридцать пять. И еще можно представить себе, какой она была прежде. Только для того, чтобы это представить, надо сделать большое усилие: лицо опухло, на щеках сизый румянец, глаза воспалены.
У Корешкова высокие залысины. Он очень худ, глаза маленькие, бегают, и руки нервно теребят бахрому скатерти. Светловолосая девочка, лет восьми, с голубыми капроновыми лентами в косичках, сидит за столом и ест, не обращая на нас никакого внимания. Старшие настороженно молчат. Поздоровавшись, Зинаида Петровна обращается к Корешкову:
— Ну что, по-прежнему пьянствуете?
— С чего вы это взяли?
— Наденька, а ты что скажешь?
Надя, намазывая хлеб маслом, спокойно отвечает:
— Пьет, чего там. Вчера пьяный пришел.
— Видите, ребенок не даст соврать. Объясните, почему вы пьете?
— А как же мне не пить, когда она (он кивает на жену) гуляет с мужиками и сама пьяная является?
— Почему вы приводите мужчин? Как вам не стыдно? — не теряя присутствия духа, спрашивает Зинаида; Петровна.
— Врет, никого я не вожу. А он меня третьего дня ошпарил кипятком.
— Врешь, я нечаянно плеснул!
— Нет, нарочно!
— Наденька? — произносит Зинаида Петровна.
Надя, спокойно наливая в чай молоко:
— Чего там, конечно, нарочно. Взял да и плеснул.
— Вот видите, что ребенок говорит! — с укором восклицает Зинаида Петровна. — И на какие только деньги вы пьете?
Корешков угрюмо:
— На свои.
Наденька, наливая чай в блюдце, на этот раз откликается по собственному почину:
— Какие там свои. Дружка встретит, дружок его и угостит. Чего там…
— Скажите, — спрашивает Зинаида Петровна Корешкову, — а вы по-прежнему обвешиваете покупателей?
— И совсем я не обвешиваю. Это я в том магазине обвешивала, а здесь фрукты-овощи, чего тут обвешивать.
— А домой фрукты таскаете?
— Не таскаю.
Зинаида Петровна поворачивается к девочке:
— Наденька?
Наденька не отвечает. Тянет чай с блюдца и молчит.
Да, конечно, можно кончить три педагогических института, одолеть аспирантуру, защитить диссертацию «Семья и школа» или, к примеру, «Ученический коллектив» и все-таки, оказавшись с глазу на глаз с детьми, в один прекрасный день обнаружить, что ты не знаешь ничего и что всю науку о детях надо одолевать заново. Тут не выручат ни полученное на студенческой скамье «отлично» по педагогике, ни горы прочитанных специальных книг.
Сорок человек, которые сидят перед тобой в классе, потребуют такой находчивости и такого прозрения, каким может научить только опыт. У опыта нет общей школы, своих учеников он учит порознь, его ничем не заменишь — все так. И конечно, никакой курс педагогики не даст точных формул, но он должен учить думать. Наверное, это очень трудно. Но без умения думать будет то надругательство над педагогикой, при котором я присутствовала, навестив с Зинаидой Петровной семью Корешковых.
Давайте откроем наугад учебник по педагогике для педагогических институтов. Перед нами раздел: «Индивидуальный подход к учащимся в условиях коллективной работы учителя с классом». Читаем: «Осуществление индивидуального подхода к учащимся необходимо в целях успешного обучения и содействия развитию положительных задатков каждого школьника в процессе воспитания класса как учебного коллектива…
…Зная особенности того или иного учащегося и опираясь на его положительные свойства, педагог пользуется различными способами и приемами воздействия для успешного обучения и оптимального продвижения школьников в их развитии».
Можно это понять? Можно это применить к делу? Нет, это можно только вызубрить.
Откроем другой раздел, один из важнейших: «Нравственное воспитание». Здесь мы узнаем, что «нравственное воспитание — это планомерное воздействие на детей в процессе организации их разнообразной деятельности с целью формирования у них нравственного поведения, нравственных понятий, убеждений и черт характеров… Методы нравственного воспитания — это совокупность способов и приемов формирования у учащихся моральных качеств и приучения их к коммунистическому поведению».
Надо сразу оговориться: я цитат не подбирала, их и подбирать не приходится, так написан весь учебник. Именно этим суконным языком написаны и многие статьи и брошюры на педагогические темы. «Применение убеждения и практического приучения в процессе обучения» — так называется один из разделов учебника.
Конечно, учебник — не развлекательная беллетристика. Конечно, педагогика — серьезная наука. Но ведь серьезное — это не значит скучное, постное. Педагогика — это наука о детях, и таким языком писать о детях нельзя (как, впрочем, и обо всем остальном на свете). Весь смысл, душа науки уходят, как вода в песок, а на поверхности остаются навязшие в зубах, лишенные жизненного содержания формулы. Перед нами не научный курс, а курс-инструкция. В этом курсе-инструкции есть штампы, но нет детей. И нет педагогики. Надо ли говорить, что в студенческие годы Зинаида Петровна по педагогике всегда получала «отлично». Была бы хорошая память, а выучить «применение убеждения в процессе обучения» хоть и противно, но не так уж трудно.
Некогда, говоря о детской книге, Белинский писал: «Жизнь, теплота, увлекательность и поэзия — суть свидетельства того, что человек говорит от души, от убеждения, любви и веры, и они-то электрически сообщаются другой душе. Мертвенность, холодность и скука показывают, что человек говорит о том, что у него в голове, а не в сердце… для некоторых людей рассуждать легче, чем чувствовать, и пресная вода резонерства, которой у них вдоволь, для них лучше и вкуснее шипучего нектара поэзии…»
Да, мертвенность и скука, рассуждения, а не чувство. Ни одна мысль, высказанная так, как написан этот учебник, не может электрически сообщиться другой душе.
Когда в учебнике по алгебре некто идет из пункта А в пункт В — это естественно. Но учебник педагогики должен говорить не о безликом «некто». За партой сидит живой человек, а не манекен. А со страниц учебника на вас не взглянет ни один ребенок. Вместо живых детей — штамп. Дистиллированные хрестоматийные дети, созданные для того, чтобы молча выслушивать пространные нотации, поучения и покорно им подчиняться.
За столом сидит учительница, перед ней стоит мальчик лет одиннадцати. Между ними происходит такой разговор:
— Зачем ты воруешь, Николай?
— Я — Боря.
— Это неважно. Тебя Родина воспитывает, чтоб ты был человеком, чтоб ты строил новое общество, а ты воруешь, на лестницах бьешь лампочки и матом ругаешься при девочках. Обдумай свои поступки и к концу учебного года, Николай…
— Я — Боря.
— Это не имеет значения. Пусть Боря. Так вот, к концу четверти ты исправишь свои отметки?
— Да.
— Станешь искренним?
— Да.
— Мужественным?..
— Да…
— Так вот, Николай…
— Я — Боря.
— Так вот, Боря, ты воруешь и пишешь на стенах плохие слова. Между тем в библиотеках у нас свободный доступ к полкам. Подумай об этом, Коля!
— Я — Боря.
— Пусть Боря. В трамваях и троллейбусах у нас нет кондукторов, а ты, Николай, что делаешь?
Все высокие слова на месте. Эти слова молодая учительница усвоила. Словам ее научили. Действию, мысли — нет. Говоря с учеником, она думает о чем-то своем. Мальчика зовут Боря Николаев, и поэтому она упорно называет его Николаем. А он не слушает, он занят только одним: «Я — Боря».
Слова учительница выпаливает, как пулеметную очередь. Но услышать, что они впустую, не может. А верит ли она тому, что к концу четверти Боря станет искренним и мужественным? Не знаю. Но знаю другое: учебник учит ее тому, что осечек не бывает.
Да, курс педагогики исходит из того оптимистического предположения, будто все дети хорошие, все родители тоже очень хорошие и воспитывать детей легко.
Курс педагогики готовит студента к безоблачной погоде. Закрыв учебник, поневоле приходишь к выводу, что ученик, который встретится будущему учителю, почти безгрешен. Прочитав учебник, можно допустить, что ученик прогулял занятия или вдруг бросил огрызок яблока не в урну, а на мостовую. Иногда — очень редко, — сорвавшись, вдруг поставил личное выше общественного. Но это Не беда, все это легко исправимо.
К примеру:
«Среди части школьников распространена привычка сквернословить. Искоренить этот пережиток дореволюционного бескультурья могут помочь учителям активисты школы из числа старшеклассников, комсомольцев. Они пристыдят сквернословов, выразят свое возмущение, поставят вопрос о неисправимых в стенгазете… Вполне оправдывает себя организация докладов и обсуждение таких, например, тем: «О культуре поведения», «О скромности и простоте в одежде», «О вежливости».
Недавно мне пришлось побывать в детской комнате при милиции. Большая просторная комната была оклеена веселыми, светлыми обоями. Низкий детский столик, белые детские стульчики. На столике кубики, волчок, целлулоидные куклы. На стенах плакаты: «Водитель! Осторожно, пешеход!», или «Ребята, не выбегайте на мостовую!»
Когда сидишь здесь, то кажется, будто единственная опасность, подстерегающая ребят, — это городской транспорт. Конечно, это опасность серьезная, но, право же, не единственная. Посидите здесь час-другой, послушайте разговоры с детьми, загляните в толстую, разделенную на графы тетрадь. В графе «Что произошло?» есть, к примеру, такие записи: «Федя Волокиткин, 48-го года рождения, не хочет учиться, подделывает отметки, украл у матери четыре рубля», «Боря Николаев, одиннадцати лет. Срывает замки, бьет лампочки на лестничных площадках, пишет на стенах нецензурные слова. Поворовывает».
Когда читаешь учебник педагогики, кажется, будто сидишь в той самой детской комнате: светлые обои в цветах, низкие столики, игрушки и предостерегающие плакаты. Все в порядке, только, упаси бог, не переходите дорогу в неположенном месте! Следите за светофором!
Кажется, что дорога перед воспитателем лежит прямая, без колдобин и рытвин — гладкая, асфальтированная. В гололед кто-то услужливо посыпает ее песком. Да и какой там гололед? Нету его совсем.
Учебник очень неодобрительно относится к буржуазным исследователям, которые говорят «об обязательности так называемого кризиса в развитии подростков. Кризис этот, по их мнению, выражается в «уходе подростка в себя», в мир собственных переживаний, в большой раздражительности, что приводит к частым конфликтам с окружающими… Этот возраст буржуазные психологи характеризуют как возраст трагический».
Учебник не делает ни малейшей попытки проанализировать эту мысль, подумать, нет ли здесь зерна истины, или объяснить, почему она не верна. Вывод очень скор и очень прост: «Известная доля правды в их выводах относительно детей в буржуазном обществе имеется… Но было бы совершенно неверно распространять эти выводы на детей всех классов и всех стран, в особенности на СССР… В нашей стране нет условий для возникновения кризиса у детей подросткового возраста».
Несколькими страницами дальше говорится, что «буржуазные психологи приписывают юности черты самовлюбленности и самолюбования… Однако на самом деле эти черты являются типичными для юношества буржуазного, а не советского общества. Черты самовлюбленности и самолюбования в юношеском возрасте у детей буржуазии есть результат их порочного воспитания в капиталистическом обществе».
Я не берусь утверждать, что «подростковый возраст» следует называть трагическим и что юности непременно свойственны самолюбование и самовлюбленность. Но я глубоко убеждена, что этот возраст действительно труден и что сказать так, как говорит курс педагогики, — значит, заменить ответ барабанным боем.
Вузовская педагогика отворачивается от всего трудного, темного, что есть в практике воспитания. Если будущий историк педагогики станет судить о нашем времени по курсу педагогики в вузах, он решит, что все дети у нас хотели только одного: оптимально продвигаться вперед в своем развитии и с радостью слушать доклады «О культуре поведения» и «О вежливости».
Хорошо, пусть «подростковый возраст» не трагический. Но он сложный, трудный, и все страсти — будь то техника, голуби, футбол, книга или музыка — страсти подлинные. И все чувства в этом возрасте не игрушечные, не маленькие, и уверять, будто этот возраст трудный, переходный для детей только капиталистического общества, по меньшей мере — нелепо.
Слушая, как Зинаида Петровна разговаривает с семьей Корешковых, я думала: нет, тебе ничто не поможет. Даже если б тебе читал курс педагогики сам Ян Амос Каменский, это, наверное, ничего не изменило бы. Но возьмем других студентов, будущих учителей и воспитателей. Разве они готовы к встрече с такой семьей, как семья Корешковых? Нет, они не готовы познакомиться с отцом, который приходит домой пьяным и выплескивает на жену кружку с кипятком. Из курса педагогики они узнают, что одной из самых ценных форм работы школы с семьей является живое общение классных руководителей с родителями учащихся, что учитель и родители «вместе ищут правильных путей воспитания и индивидуального подхода к детям», что, посетив семью, учитель «вместе с родителями намечает план совместных действий по улучшению успеваемости и поведения школьника». Он узнает, что «многие родители в целях патриотического воспитания своих детей посещают с ними музеи и выставки, организуют с детьми прогулки по городу и экскурсии в природу…»
Молодой учитель не готов к неудачам, не готов к трудному, не готов к размышлениям и поискам. Замечательная наука, наука, которая сродни искусству, преподносится монотонно, как таблица умножения.
Лекции должны будить мысль студентов, а они нередко усыпляют ее, точно осенний дождь. Лекции должны раскрыть перед студентами сложную поэзию детства, приготовить к огромному разнообразию характеров и отношений, к неожиданностям — иногда радостным, а иногда очень горьким. Студенту и на лекциях, и в учебнике внушают: это все выдумка зарубежных педагогов.
Молодой учитель, едва начав свою работу, сталкивается с непонятным явлением: веселый, общительный подросток вдруг уходит в себя, «в мир собственных переживаний»; прежде такой покладистый, он ссорится с друзьями, грубит домашним. Но молодой учитель из лекций, из учебника помнит: такого не бывает. За рубежом бывает. А у нас — нет.
Передо мной дневник девушки, которая в этом году впервые стала преподавать:
«Нет, это окаянная работа. Знала бы, ни за что не пошла бы в педагогический. Сегодня велела ребятам придумать фразы, где частица «пол» писалась бы слитно и через черточку. Саша Верхушкин написал так: «Если увидишь пол-литра, не останавливайся на полпути: закуски в пол-яблока будет вполне достаточно».
Ведь издевается, ведь факт, что издевается. Но смотрит серьезно, не придерешься. Я засмеялась и, кажется, нечаянно поступила правильно.
Сегодня узнала, что Колю Парамонова приводили в детскую комнату при милиции: в мыло соседей воткнул лезвие от бритвы.
— Как тебе не стыдно? — говорю. — Подумай, что ты сделал.
Молчит. Не оправдывается, не объясняет, просто молчит. Нет, про таких в лекциях по педагогике не говорили».
Учитель, только что окончивший столичный вуз, пишет: «Все, что я слышал на лекциях по педагогике, попросту никакого отношения не имеет к тому, что я вижу и делаю сейчас, — я теперь твердо уверен, что люди, читавшие нам педагогику, сами никогда в школе не преподавали, иначе не изъяснялись бы они округлыми фразами о том, что на самом деле угловато и колюче. Я каждый день стою перед новой задачей: что ни ученик, то задача. А я к этому не готов, не готов, не готов».
В таких письмах (а они идут отовсюду — из сельских и городских школ, от учителей, окончивших институты и педучилища) слышится тот голос, которого, к сожалению, нет в учебнике, — голос ищущего, думающего человека, который говорит о школе «изнутри», а не со стороны.
Вот книжки ленинградских учительниц Н. Долининой и Л. Ковалевой. Они рассказывают о своих учениках, об их родителях. Живой голос, живая мысль, ни тени поучения, а вместе с тем какое это превосходное пособие для молодого учителя! Нельзя (и не надо) поступать в том или ином случае точно так, как поступили Долинина или Ковалева, но их рассказ непременно разбудит мысль, ибо то, о чем они рассказывают, есть живая школа, живые дети, а не манекены из инструкции.
Наука о школе рождается в школе, только в школе. И если бы педагогические институты помнили о тех, кто каждый год разъезжается из их стен во все концы страны, если бы следили за их работой и собирали по крупицам их опыт, если бы учащиеся в педвузах студенты могли вместе со своими преподавателями следить за этой работой и думать о ней, — вот тогда, быть может, будущая учительская молодежь еще на студенческой скамье причастилась бы к трудной работе, где каждая минута — творчество, где каждый час приносит новую, еще никем не испытанную трудность и требует нового, еще никем и никогда не принятого решения.
1962 г.
Небольшая комната набита битком. Здесь и заведующий районным отделом народного образования, и заведующий районным отделом здравоохранения. Здесь представители милиции и директора школ. Это комиссия по делам несовершеннолетних при одном из районных исполкомов Ленинграда. Задача такой комиссии — бороться с безнадзорностью. Не дать совершиться преступлению. И понять — что сбивает подростков с пути?
В комнату входят трое — отец, мать и сын. Это семья Петровых. Представитель милиции сообщает:
— Боря Петров учится в седьмом классе. Летом нашел в лесу ржавый револьвер, почистил его, привел в боевую готовность и стрелял из него. Второе нарушение имело место в школе: взял из химического кабинета соляную кислоту и выплеснул на ученицу, чем привел в негодность одежду и причинил легкое телесное повреждение.
Перед комиссией чисто одетый, аккуратно подстриженный мальчик. Он упорно смотрит вниз, на носки своих башмаков. Отвечает невнятно, слов почти не разберешь. Наконец удается понять: он взял из шкафа соляную кислоту потому, что она сводит чернила.
— Образно говоря, хотел подчистить дневник? — спрашивает кто-то из членов комиссии.
— Да.
— А зачем плеснул кислотой на девочку?
Молчит. Упорно, намертво молчит.
— Хорош, нечего сказать! — говорит Лидия Ивановна, председатель комиссии. — Ну что ж, послушаем твою маму. Что вы можете сказать, гражданка Петрова?
Борина мама швея. Одета очень скромно, лицо исхудалое, измученное, руки беспокойно теребят носовой платок.
— Я его воспитываю, — говорит она, — воспитываю, как могу. Я ему говорила: Боря, учись, Боря, иди в кружки, Боря, не хулигань. Муж мой ему отчим и, когда трезвый, тоже воспитывает.
— Так. Послушаем отца. Пожалуйста, товарищ отец!
— Помимо этого, — говорит Борин отчим, — у меня есть еще двое детей — дочь тридцати лет и сын двадцати четырех. Это мои личные дети, но я их не разделял — чужой или родной. Старших я не мог толком воспитывать из-за войны. А этот был при мне. Я пришел в дом, когда ему было два года. Но как мне его воспитывать, когда мы с матерью тянем в разные стороны? Купила ему часы, фотоаппарат, лыжи, коньки, а за какие такие заслуги? Ведь учится-то плохо. Ну, думаю, не пощажу здоровья и буду летом с ним заниматься. Какое! Мать отправила его за город. Там совершается факт с револьвером. Зная мой крутой нрав, жена этот факт от меня скрыла. В отношении последнего поступка с соляной кислотой, это, конечно, безобразие. И учится тоже из рук вон плохо. Я твердо решил с ним в зимние каникулы заняться. Какое там! Шесть раз на елке, два раза в театре, на катке — несчетно! Это уже мать позаботилась. Ну, верно, факт, что я бываю пьян. Не часто, но бываю. Будучи пьяным, у меня появляется придирчивость, не скрою. Я тогда придираюсь и требую. Но я сознаю, что я ему самый родной отец, сознаю, что отвечаю за него и должен воспитывать, но беда, что мы с матерью действуем порознь.
….Разговор с семьей Петровых длится долго. Он мучителен для всех — для матери, отца, мальчишки, для всех членов комиссии. Картина всем ясна, а выход из положения — не очень. Правда, Боря обещал исправиться. Правда, он обещал хорошо учиться. На семью Петровых наложен штраф — десять рублей. Семье Петровых дано много полезных советов. В комнату вызвана новая семья, перед комиссией новое горе, новая неразбериха. Петровы уходят. Что они унесли отсюда? Что поняли? Как будут жить дальше? Этого пока никто не знает.
Новая семья, которая сменила семью Петровых, необычна: две матери, отец и сын. В чем же тут дело?
У Арсения Семеновича Боголюбова была жена Елена Григорьевна. Уехав в командировку на Север, он вернулся оттуда с новой женой. Елена Григорьевна тотчас переселилась к своей матери, оставив мужу квартиру. В новой семье появились дети — Володя и Витя. Но родителям было не до них: беспутная, пьяная жизнь, ссоры, драки. Потом — крупная растрата. Боголюбов был арестован и сослан. Это не нарушило привычного хода жизни: оставшись одна, новая жена Боголюбова — Зинаида Павловна по-прежнему пила, совсем забросила дом, надолго уезжала, оставляя детей без присмотра. Однажды к мальчикам наведалась Елена Григорьевна. Она увидела грязную комнату, заброшенных, голодных детей. С тех пор она стала приходить еще и еще — чтобы умыть, одеть, накормить. Однажды старший, Володя (ему было тогда шесть лет), сказал: «Возьми меня к себе».
И она взяла его. Младший был отдан в интернат, а Володю стала воспитывать Елена Григорьевна. Сейчас ему шестнадцать. Отбыл срок наказания отец. Мальчик отказывается жить с ним. Зовет обратно в семью мать — Володя и слышать об этом не хочет. Что же привело этих людей сюда, в комиссию по делам несовершеннолетних? А вот что: Елена Григорьевна решила усыновить Володю, но для этого надо лишить родительских прав Зинаиду Павловну. Мало того: Витя, младший, тоже просится к Елене Григорьевне. И она согласна взять и его.
У комиссии широкие полномочия, она вправе входить в суд с просьбой о лишении родительских прав, если этого требуют интересы детей. Вот это сейчас и решается: лишать Боголюбовых родительских прав или не лишать? Оба — и Арсений Семенович, и Зинаида Павловна — в отчаянии. Оба умоляют не лишать их права воспитывать детей. Зинаида Павловна, плача, говорит: «Да, сознаю, я была плохой матерью. Это верно, что моего сына воспитала чужая женщина, спасибо ей. Володя, конечно, больше ее сын, чем мой. Но если и Витю у меня отнимут, я жить не буду».
Она закрывает глаза рукой и вдруг падает в обморок. Кто-то вскакивает, кто-то зовет врача, кто-то поднимает женщину и переносит в другую комнату. Я смотрю на Володю — лицо его хмуро и замкнуто, он даже головы не повернул в сторону матери.
Почему, надолго забыв о детях, они сейчас так цепляются за свое отцовство, за свое материнство? Что должно было случиться, чтобы мать бросила детей на чужую волю, что же произошло сейчас и вызвало эти слезы, это отчаяние? Не знаю.
Володя и Витя чудом не сбились с дороги. Они шли по краю — одинокие, никому не нужные. Одного подобрала и выручила чужая женщина. Другого взял интернат. Если б не это, комиссия, может статься, решала бы сейчас другой вопрос: как быть с Володей и Витей Боголюбовыми, подростками, которые сбились с пути?
А вот Лена Киреева сбилась с пути. Ей четырнадцать лет. Она бросила школу и ведет себя так, что кто-то предлагает немедля послать ее в исправительную колонию.
— Подождем, — возражают другие голоса, — дадим испытательный срок, устроим на работу, попробуем обойтись без колонии. Лена, обещаешь исправиться?
Лена обещает. В ее обещание можно поверить: она провела десять дней в приемнике и очень испугана. Она понимает, что лучше бы остаться дома, она боится колонии и поэтому готова дать (и выполнить!) любое обещание, только бы не в колонию, только бы не в колонию!
Но есть человек, который настаивает:
— Непременно в колонию! Кто же этот человек?
Ни много ни мало — отец Лены.
Он член партии, работает мастером на одном из ленинградских заводов, и он говорит:
— Вы хотите ее мне навязать, а я не намерен больше с нею возиться.
Он твердо уверен в своей правоте. Он уверен, что кто-то другой должен отвечать за его дочь. Раз сбилась с пути — пускай отправляется в колонию, он не намерен больше с нею возиться.
Ну, а что делать с Володей Дюковым? То, что он вытворял, в печати не передать, это определяется только одним словом: гнусность. Будь моя воля, я не колеблясь послала бы его в колонию. Но директор школы Людмила Васильевна Миловидова попросила дать Дюкову отсрочку: она за него ручается.
— На папашу надежды нет, — сказала мать Дюкова, — он у нас всегда пьяный, сын на моих руках, я за него отвечаю.
Но отвечать ей не под силу, она не справляется. Вся ответственность ляжет на Людмилу Васильевну. Я смотрела на эту женщину с великим уважением: она добровольно взвалила на свои плечи огромную тяжесть, и тащить эту ношу ей семья не поможет. И все-таки она отстояла Дюкова и взяла заботу о нем на себя…
Перед нами Игорь Белов. Не стану описывать его внешность, его манеру говорить. Освежите в памяти последний фельетон о стилягах или тунеядцах, и вы не ошибетесь — тут все так, как мы уже читали сотни раз: брюки дудочкой, ворот небрежно расстегнут, держится развязно, во рту блестит золотой зуб. Да, он явился сюда прямо из фельетона. Впрочем, лучше вспомните фонвизинского недоросля, это будет еще точнее.
Оперуполномоченный милиции сообщает вот что:
— В августе этому парню будет восемнадцать лет. Мать у него продавщица в специализированном винном магазине. Отца нет, отчим — шофер такси. Игорь закончил ремесленное училище, электромонтер, но с работы был дважды уволен за прогулы. Мы его вызывали, предупреждали, направляли на работу, но толку нет и нет.
— Отвечай, почему ты прогулял? — спрашивает председатель комиссии.
— А чего… Погода была хорошая… Лето… Все едут за город…
— А на второй работе почему прогулял?
— А там надо было бетон долбить, пылища в глаза летит. Ну, я и не стал ходить.
Взрыв совершенно справедливого негодования. Всем хочется, чтоб этот недоросль понял, почем фунт лиха, что такое настоящая работа. Кто-то в запале интересуется, почему у Игоря золотой зуб. Мать, которая сидит тут же, объясняет, что золотой зуб вставила сыну она: «из прынцыпа». Что же это за «прынцып»? В отместку мужу, который унес ее золотое кольцо, она взяла кольцо мужа и вставила золотые зубы себе и сыну.
Все ошеломлены такой принципиальностью, и кто-то спрашивает, что гражданка Белова думает делать с Игорем.
— Если бы можно было его убить, я бы его убила.
Наступает тишина. Что ни говори, а из уст матери такое не каждый день услышишь. И тут в деле появляется новая подробность. Слово берет заместитель председателя домового комитета.
— Беловым мы вплотную занялись с апреля месяца. Мы ему все разъяснили, какая будущность его ждет, и он вроде понял. И вот наведались мы как-то к нему и, понимаете, застали с девушкой.
Я смотрю на Игоря. На его лице по-прежнему нелепая улыбка. Мне становится тошно от этого бессмысленного толчения воды в ступе: ничего ему не объяснишь, ничего он не поймет. Поглядываю на часы: уйти бы.
— Как зовут твою девушку? — спрашивает кто-то.
— Валя.
— А фамилия?
— Не скажу.
Я не поверила своим ушам и снова подняла глаза. Улыбку словно смыло, лицо Игоря серьезно и спокойно, это совсем другое лицо.
— То есть как это не скажешь? Сейчас же говори! Мы сообщим куда следует про такую девушку!
— Не буду я ее впутывать.
— Говори сейчас же!
— Не скажу!
— Э, — произнес работник милиции, — там на лестнице стоит дожидается какая-то девушка, не она ли? Сейчас приведу.
Он выходит. Я от всей души надеюсь, что девушка ушла или хоть откажется войти сюда. Но открывается дверь, и она входит.
— Чем же это вы занимаетесь наедине с молодым человеком, а? Не стыдно?
Крепко сжав губы, девушка молчит.
— Вот сообщим вашим родителям, тогда узнаете! Как вас зовут?
— Валя, — отвечает она спокойно.
— Фамилия?
— Столярова.
— Где работаете?
— На заводе №…
— Где живете?
— Улица… дом… квартира…
— И не стыдно вам с тунеядцем водиться?
Молчит.
— Ну, уж раз вы дружите, почему не уговорите его работать?
— Я хотела его на наш завод устроить, да не вышло.
Что-то в ее спокойных, твердых ответах обезоруживает комиссию. Общий гнев обращается на мать:
— Куда вы смотрели? Золотые зубы вставляете, а воспитывать не воспитываете?
— Не буду я его воспитывать! Не буду! Мне надоело с ним возиться! Я еще сама жить хочу!
И с громким плачем она оставляет комнату.
— Зачем вы на мать нападаете? — говорит комиссии Игорь. — Она меня воспитывала как надо, это я плохой, а не она. — И, помолчав, добавляет со вздохом: — Ладно, чего там. Буду работать!
— Вот одолжил! — не без юмора говорит председатель комиссии. — Низкий тебе поклон за это. Приходи во вторник к десяти утра, дадим направление на работу. Да смотри, не проспи.
Я хочу знать, чем кончится эта история, и во вторник тоже прихожу в райисполком к десяти утра. Кого я вижу на лестнице? Конечно, Валю. Мы долго стоим и разговариваем.
— Вы не знаете, и никто, никто не знает, он очень хороший. Не курит, не пьет. Он две вещи на свете любит: читать и голубей. Он рос, как беспризорный. Мать его не обижала, но и не касалась. Отчим тоже не обижал. Но и не касался. Он с шести лет к голубям как безумный привязан. Ему только и свет в окошке, что голуби. А по дому он все делает — и полы вымоет, и обед сготовит. И каждого, кто в дом придет, напоит и накормит. Глядите, вот он идет!
Я не сразу привыкаю к тому, что с ним можно разговаривать как с человеком. Я еще помню придурковатую ухмылку, нелепые ответы.
— Зачем вы придуривались? — спрашиваю я. — Что это за причина «лето, хорошая погода»? Легкого хлеба на свете нет, и никому неохота вставать в семь утра.
— Нет, — говорит он. — Есть такие: идут на работу, как на праздник.
— Вот и вы найдите себе такую работу.
— Никак не найду.
— Да разве вы ищете?
— Послушай, — говорит Валя, — собаку можно научить, она будет поводырем у слепого, или поноску станет носить, или воров искать. А голуби? Можно их к делу пристроить?
— Нет, голуби для радости.
И он начинает говорить о голубях.
— Есть голубь дурак дураком: на чужую будку садится. А есть такой, что скорей умрет, а на чужую будку не сядет. Ах какие голуби есть, если бы вы знали!
Мы с Валей слушаем, и нам было бы очень интересно, если бы мы не помнили все время, что эта высокая страсть все-таки выбила человека из жизни и отвратила его от работы, от ученья.
Вскоре после моего возвращения в Москву пришло письмо от Вали Столяровой. Вот оно:
«Привет из Ленинграда. Извините, что долго не писала, хотя обещала написать сразу, как только Игорь устроится. Он устроился на завод, правда, ездить на работу ему очень далеко. Не знаю, что дальше будет, но пока он работает. Мы с ним часто ругаемся, но я хочу только одного, чтобы он не сбился с дороги. Одно только от него и надо, чтобы работал. Если до сентября не разругаемся и дальше будет с ним все хорошо, то в сентябре пойдем в школу — я в десятый, а он в седьмой. Надо закончить школу мне, и ему тоже. До свиданья. С приветом. Валя. Жду от вас хороших советов».
Трудно давать советы! А может, как раз и легко: много накопилось житейской мудрости, лежит на поверхности, знай черпай полной горстью и раздавай желающим. Да только это редко приносит пользу. Каждый сам одолевает свою дорогу, и свой опыт в чужой карман не переложишь. Сбиться с пути Игорю легко. Ясно вижу, как он снова стоит перед комиссией. Его спрашивают:
— Почему ты опять прогулял?
А он, улыбаясь своей нелепой улыбкой недоросля, отвечает:
— А чего? Ездить далеко… Рано вставать…
Увы, никакого труда не стоит представить себе эту картину. Но я помню и другое: серьезное лицо Игоря и его «не скажу», и слова о людях, которые ходят на работу, как на праздник. Я помню Валю, помню, как спокойно и твердо отвечала она на вопросы комиссии, как терпеливо стояла на лестнице, дожидаясь Игоря… Такой человек рядом — большое подспорье. Я не склонна умиляться тем, что Игорь любит голубей. Мне, как и всем, набил оскомину хрестоматийный штамп, из которого следует, что стоит задеть человека за живое, и он немедленно становится тем самым идеальным героем, которого давно ищет советская литература. Но все-таки, что ни говори, а если человек чем-то одержим, если он что-нибудь бескорыстно любит… Нет, что ни говори, это все-таки заручка. Однако со стороны тут ничего не посоветуешь. Ничего не подскажешь. Судьба Игоря в его руках. Пока он был мал, она зависела от семьи, от школы. Немногим одарила его семья. Да и школа, судя по всему, не оставила глубокого следа в его памяти. И сейчас, на пороге совершеннолетия, он сам хозяин своей жизни, кузнец своего счастья или своей беды. Так же, как и Лена Киреева, так же, как Володя Дюков.
Недавно на одной читательской конференции мне пришлось услышать такие слова: «Зачем описывать семейное болото? Кому это интересно, то, что происходит в четырех стенах?»
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних беспощадно и отчетливо подтверждает ту простую истину, что эти четыре стены многое определяют. Сколько ни говори об ответственности школы, но первые семь лет тебя растили дома. В этих четырех стенах человек получает свои первые представления о мире, о своем месте в жизни. В этих четырех стенах проходит большая часть твоей жизни. От этого никуда не уйти.
Не будем утешать себя тем, что семьи, прошедшие перед комиссией, — исключение, что это единичные случаи. Сколько бы их ни было — они есть. Пьянство. Развод. Безотцовщина. Если мальчишка сбился с пути, непременно наткнешься на одну из этих причин, а то и на все сразу.
Комиссия по делам несовершеннолетних полна добрых намерений. Она устраивает подростков на работу, старается предостеречь оступившихся, не оставляет и того, кто попал в колонию, и помнит о тех, кто из колонии вернулся. Но заменить семью и постоянный семейный надзор она не может.
Пусть члены комиссии не обидятся на это раздумье вслух. Много «дел» сразу не под силу им разобрать в один присест. Ведь любая жизненная история, над которой комиссии приходится ломать голову, требует напряжения всех душевных и умственных сил. И в конвейер «дел», которые разбирались напоследок, члены комиссии уже не могли вникать по-настоящему.
Кроме того, как бы ни были проницательны члены комиссии, как бы добросовестно ни доложил суть дела представитель милиции или общественности, суть характера и обстоятельств все-таки может остаться не раскрытой. Так, кажется мне, едва не произошло в случае с Игорем Беловым и Валей Столяровой. История эта оказалась гораздо сложнее, нежели привычная схема: тунеядец и подстать ему легкомысленная девушка.
И еще: чаще всего комиссия вступает в борьбу поздновато. Четырнадцатилетний Боря, четырнадцатилетняя Лена, пятнадцатилетний Дюков — это уже твердые орешки. Помочь им сейчас очень трудно, и, боюсь, никакие полезные советы и даже штрафы не изменят облика их семей. О неблагополучии в четырех стенах надо, видимо, узнавать раньше, гораздо раньше…
1962 г.
О понятиях совсем не старомодных
Это было в городе Энске.
Да не подумают, что я хочу заинтересовать читателя таинственным началом. Оно вызвано необходимостью. Здесь пойдет речь о двух молодых людях. Он потащит за собой в жизнь груз поступка, о котором говорят по-разному: «Какая подлость!» — и «Почему подлость? Совершенно правильно поступил!» Она унесет с собой смятение, ощущение беззащитности, страх перед людьми.
Итак: молодой человек, будущий инженер, познакомился с преподавательницей музыки. Он попросил ее послушать, как он играет, и сказать, есть ли у него способности. Она послушала его игру и обещала подготовить к поступлению в музыкальное училище, где сама преподает. Она — назовем ее Ниной Сергеевной — занималась с ним после своего рабочего дня, и вскоре он был принят на вечернее отделение училища.
С самого начала руководство училища, в частности председатель месткома, было несколько взволновано тем, что молодые люди занимались по вечерам. Это было как-то подозрительно. А потом случилось так, что молодой человек — назовем его Олегом Жоховым — один раз не пришел ночевать в общежитие. С этого все и началось. Вокруг ничем не примечательного события пошли толки, сплетни, пересуды. Председатель месткома вызвал Олега раз, другой и допрашивал его с пристрастием. И однажды Олег положил ему на стол письмо. Вот оно, с небольшими сокращениями:
«Весной этого года после непродолжительного знакомства Петрова предложила мне помощь в занятии фортепиано. Мне эта помощь была необходима, так как я хотел поступить в данное музыкальное училище. Я согласился с благодарностью. Занимались мы почти ежедневно. И каждый раз после занятий я провожал ее домой, по ее просьбе, так как она якобы боялась возвращаться одна поздно вечером. Отказать в такой просьбе я не мог, так как занималась она со мною совершенно безвозмездно. Однажды она попросила меня зайти к ней хотя бы на полчаса. Я не знал, какую делаю ошибку, и, конечно, не думал, к чему это приведет. Так или иначе, эти полчаса превратились во всю ночь, первую ночь, когда я не ночевал дома. Заявляю со всей искренностью: как педагога я очень ценил и уважал ее, как к человеку, как к женщине я не испытывал к ней никакого чувства. Чтобы скрыть эту позорную связь и продолжать учиться музыке, я пошел на обман председателя месткома, который высказывал догадки в этой области и предостерегал меня. Однажды она сказала мне, что она от меня отказывается и чтобы я искал другого педагога… Я признаю, что сделал большую ошибку, совершив такой поступок и не сказав об этом раньше. Прошу принять во внимание все сказанное и перевести меня к другому педагогу. Этот случай не убил у меня любви к музыке и веры в лучшие качества человека».
И никто не сказал молодому человеку: опомнись!
Письмо приняли, одобрили, и Нину Сергеевну вызвали в дирекцию. Там кроме директора были председатель месткома, парторг и завуч.
— Я очень прошу поговорить со мной наедине, — сказала директору Нина Сергеевна.
— Я не вижу в этом необходимости, — ответил директор.
И протянул Нине Сергеевне письмо Олега. Она прочитала его. При всех.
— Я вызвал Петрову, чтоб дала объяснения. А она прочитала письмо и побежала, понимаете, травиться. Через неделю Петрова является. Мы ее сразу вызвали на заседание месткома, поскольку бюллетень у нее кончился, в заключении больницы сказано… Как там сказано?.. Вот ознакомьтесь: «Сознание ясное, вполне ориентируется во времени и в окружающей обстановке». А она опять: «Я еще не в силах разговаривать». Ну, проявили чуткость, дали ей отсрочку. Завтра опять местком. Поговорим и примем решение.
…И вот оно началось, заседание месткома. На нем было десять человек. Все очень спешили.
Но дело есть дело. И его обсуждали. Дело об аморальном поведении Петровой. Первое слово предоставили Нине Сергеевне. Она говорила с трудом:
— Жохов очень способный и талантливый человек. Я взялась подготовить его в наше училище. Но потом он перестал заниматься, начал пропускать уроки. И я сказала ему, что больше с ним заниматься не буду. Все, что написано в письме, неправда. Что его толкнуло на такое письмо — не знаю.
Предместкома. Что-то коротко очень.
Член месткома. Если студент перестал заниматься, педагог должен его заставить, а не передавать другому.
Петрова. Наверно, я поступила неправильно, но мне нечего добавить к тому, что я сказала.
Предместкома. Нина Сергеевна, уважаемая, есть такая просьба к вам — рассказать все по существу дела. Если вы коллективу признаетесь, будет лучше.
— Дайте мне слово, — говорит один из членов месткома, — а то никогда не кончим. Я не верю, чтоб комсомолец мог написать такое письмо, если бы не было причины. Я таких, как Петрова, насквозь вижу. Сидит в коридоре на диване, нога на ногу, в зубах, понимаете, папироса — хи-хи-хи да ха-ха-ха. То она в Москве, то она на Стравинском, то она на Чайковском, то она на экскурсии и еще студенток за собой таскает.
Преподаватель математики. Я здесь новый товарищ, но и у меня есть соображения. С Петровой произошел самый низкий, аморальный поступок. Она отвергает этот свой поступок, но если Жохов подал такое заявление, значит, вопрос назрел. Нехорошо, ах, нехорошо!
Преподаватель физкультуры. Она и к работе относится недобросовестно. Я сам у ней на уроках не был, но мне об этом говорили.
Завуч. Я на уроках у Петровой тоже не был. Мне неприятно было ходить к ней на уроки. Товарищ корреспондент сказал мне, что был у нее на занятиях и что уроки очень хорошие, артистические. Нам этот всякий артистизм не нужен. И я считаю, что педагоги увидели настоящее лицо Петровой. Уволить, и все. За аморальное поведение. Ваш класс держится чересчур сплоченно, он сорганизовался в какой-то нездоровый коллектив. После своей болезни вы жили у одной из своих студенток. Вы что, приживалка?
Петрова. После болезни мне трудно было оставаться одной в четырех стенах. И я приняла приглашение матери Наташи побыть у них некоторое время.
Преподаватель физкультуры (ликуя). Товарищи! Да ведь она призналась! Слышите, говорит: мне одной в четырех стенах неохота!
И вот тут-то начался шум. Почти все требовали: «Позвать Жохова!» Все хотели очной ставки. Подробностей. Преподаватель физкультуры вызвался сбегать и поискать Олега.
Дело журналиста — слушать и молчать. Но, каюсь, я промолчать не сумела. Я сказала:
— Товарищи, очнитесь!
Наступила тишина. Чуть выждав, директор произнес:
— Да, особой необходимости нет. И так все ясно. А что, вы с нашим коллективом не согласны?
— Когда Жохов принес свое письмо, ему следовало объяснить, что такое письмо — подлость.
— Э-э-э! Вы неправы, — сказал предместкома, — я не вижу ничего предосудительного в письме Жохова. Он честный, порядочный человек. Если мы Петрову оставим, что мы будем говорить студентам? Что мы им объясним? Надо увольнять.
И уволили. За аморальное поведение.
Очень трудно разговаривать с учениками об их учителе. Так же трудно, как говорить с детьми об их родителях. Я не знала учениц Нины Сергеевны. Они пришли сами, чтобы сказать о своей любви к ней, о своем к ней уважении. (Они не так уж далеки от нее по возрасту: самой младшей — 16 лет, самой старшей — 26.) Предместкома считает, что их подучили. Смею думать, что многолетний учительский и журналистский опыт позволяет мне отличить наученных, подготовленных от тех, кто говорит искренне и то, что действительно думает.
Я была на уроках Нины Сергеевны. Очень грустно, что за три года, которые Нина Сергеевна работает в училище, ни один человек на ее уроках не был. В слове «артистизм» завучу музыкального училища чудится нечто предосудительное. Жаль! Уроки действительно артистические. Но должна сказать, что я недаром говорю о Нине Сергеевне мимоходом. В истории, здесь рассказанной, меня беспокоит не она. Меня гораздо больше беспокоит Жохов.
Я не верю письму Жохова, но давайте представим себе, что каждое слово в этом письме — правда. Значит, сначала он сблизился с женщиной, чтобы она помогла ему поступить в училище. А потом написал об этом по начальству, чтобы не навлечь на себя гнева этого самого начальства.
Да, его очень беспокоило то, что предместкома давно уже подозревает его в неблаговидных отношениях с Ниной Сергеевной. Разумеется, не за нее он беспокоился, а за себя. Следом за своим большим письмом на имя дирекции он написал еще одно маленькое на имя председателя месткома: «Уважаемый тов. К., прошу вас извинить меня за то, что в октябре сего года сказал вам неправду, скрыв от вас тот факт, о котором вы давно догадывались». Этот документ тоже подшит к делу.
— Как вы могли написать такое письмо? — спросила я Жохова.
— Если бы я его не написал, меня исключили бы из училища, — ответил он.
Да, правдивый юноша. Как говорит председатель месткома, честный, порядочный человек…
Конечно, в двадцать лет надо отвечать за свои поступки. Но думаю, что тень от этих писем ложится и на руководителей училища. На людей, которые вдвое старше Олега, на тех, кто эти письма принял и одобрил, кто не сказал Олегу о том, что существуют такие понятия, как мужская честь, человеческое достоинство, о том, что доносить нехорошо, а доносить на женщину, с которой, как ты говоришь, ты был близок, нехорошо вдвойне. Что были случаи и в литературе, и в жизни, когда человек шел на любые жертвы, только бы не пала тень на женщину. Да, трудно представить, чтобы Ромео, например, побежал сообщать князю Вероны о своих отношениях с Розалиной, хотя Розалину он и не любил. Он умер бы скорее, чем сказал о женщине то, что сказал Олег.
Все мы допускаем случаи, когда руководителю учреждения необходимо поговорить с кем-либо из сотрудников по их личному делу, предостеречь их или что-нибудь им посоветовать. Но какой великой осторожности, какой деликатности это требует!
Почему Нине Сергеевне отказали в разговоре наедине? Почему человека, едва вернувшегося из больницы, надо тотчас вызывать на местком только на том основании, что бюллетень закрыт? И, прошу прощения, зачем вообще вызывать на местком по такому поводу? Неужели члены месткома всерьез думали, что многолюдное собрание в этом случае будет полезно? Что оно может быть не оскорбительно? Что в присутствии десяти членов месткома женщина будет рассказывать, «как все было», и останавливаться на любопытных подробностях? Не приходило ли им в голову, что это безнравственно? И аморально?
«Владимир Ильич ничего так не презирал, — пишет в своих воспоминаниях Н. К. Крупская, — как всяческие пересуды, вмешательство в чужую личную жизнь. Он считал такое вмешательство недопустимым».
Вот это, видимо, и надо было сказать студентам, если бы они спросили о письме Жохова. Это и надо было бы объяснить им. И тогда бы им стало непреложно ясно, чье именно поведение аморально.
Письмо первое
Уважаемая товарищ Вигдорова!
Прочитал Вашу статью «О понятиях совсем не старомодных», и на память пришла статья «Печенеги из Филей», в которой рассказывалось, как «печенеги» из Филевской больницы травили врача-хирурга и хирургическую сестру, заподозрив что-то «преступное» в их дружеских отношениях. Вспоминается и страшная, окончившаяся трагически история травли молодой учительницы в Севастополе, и другие случаи, возникшие на почве столкновения этических представлений.
Если вдуматься по существу, все эти случаи окончились трагически, хотя и не всегда смертью. Во всех случаях были жертвы. Да, жертвы! Чего? В Вашей статье я ответа на эти вопросы не нахожу. Убедительно и остро изложив фактическую сторону дела, Вы, подойдя к выводам, вдруг притупили перо, нашли обтекаемые формулировки там, где требуется ясная, четкая и резкая квалификация поведения всех участников жизненной драмы, особенно ее виновников. Я говорю о тех, в чьей благоприятной для подлости тине воспитался Жохов. Именно они — главные герои рассказанной Вами истории, и о них-то я и хочу сказать несколько слов.
Я — старый человек, пенсионер, сейчас в общественном порядке работаю в родительском комитете одной из московских средних школ.
Передо мной тысяча учащихся в возрасте от семи до семнадцати лет. Это наша смена и наша надежда. Из них мы должны сформировать достойных членов будущего общества. Для этого мы живем и трудимся. Пусть и описанный Вами случай, и трагедия в Севастополе, и позорные подвиги «печенегов» из Филей — только частные случаи, болячки на здоровом общественном организме. Однако эти болячки требуют пристального внимания и быстрого лечения, чтобы не заражали они соседние ткани, не калечили бы душ наших и, что самое главное, не калечили бы нашу молодежь.
Каким ханжеством, бездушием и пошлостью несет от председателя и членов месткома. Может быть, самое страшное заключается в том, что каждый из них чувствует себя по своему общественному или служебному положению блюстителем и творцом новой, коммунистической морали. Но вглядитесь попристальней в этих моралистов, проникните сквозь толстый слой неискусного грима, и перед Вами возникнут омерзительные рыла бывших консисторских чиновников, ведавших до революции бракоразводными делами. Какими путями проникают они в педагогические коллективы, в среду медицинского персонала, туда, где безраздельно должны властвовать принципы человечности и благородства?
Если бы не опасение причинить новые горести Петровой, то следовало бы привлечь ее «судей» к общественному, широкогласному суду за злостное извращение моральных основ нашего общества.
Письмо второе
Товарищ Вигдорова!
Прочел Вашу статью «О понятиях совсем не старомодных», и она меня совсем не удовлетворила. Слишком мягко Вы сказали о месткомовцах и о Жохове.
Хочу рассказать Вам случай из жизни.
В одном маленьком селе слушалось дело о покушении на честь женщины. Такие дела в нашем суде решают просто и строго. Имелось заявление потерпевшей, не отрицал своей вины и подсудимый. Последовал приговор, насколько мне помнится, — пять лет тюрьмы.
Потерпевшая была молодая замужняя женщина, мать двоих детей. На суде присутствовал и ее муж, и почти все жители этого небольшого села. Что-то в этом деле показалось мне неясным. После приговора я подошел к осужденному и спросил, не хочет ли он обжаловать приговор суда. Он коротко ответил: «Нет».
Когда кончился суд, здесь же, в зале, я разговорился с одним парнем, односельчанином осужденного, и он сказал мне, что дело это совсем не просто, что осужденный давно был близок с этой женщиной, но, не желая позорить ее перед мужем и перед селом и спасая ее и ее семью, решился на тюремное заключение. Не хочу вдаваться в оценку поведения женщины, но как в свете того, что я рассказал, выглядит Жохов и местком музыкального училища?
Редакция публикует два письма, но почти все многочисленные отклики, пришедшие в ответ на статью «О понятиях совсем не старомодных», единодушны в ее оценке («слишком мягко!»). Любопытно, что никого из читателей не занял вопрос, который так жгуче волновал руководителей музыкального училища, — о существе отношений молодых людей. Нет, никто из читателей не спросил об этом. Все пишут про то, что считают самым важным, — о человеческом достоинстве.
Мне кажется, что случай, рассказанный М. Малицким, расставляет все по своим местам. Дело не только в том, что молодой человек защищал честь женщины и ее достоинство (здесь как раз тот случай, когда она сама загубила свое достоинство, допустив этот позорный суд). Но, должно быть, для молодого человека тут не было вопроса: его собственная совесть властно вынесла трудное, но, видимо, для него единственное решение. Действительно, в свете того, что рассказано в письме читателя, Жохов с его поспешным доносом по начальству выглядит скверно. Однако, хотя в письмах нет ни одного слова в защиту Олега, все читатели главную причину зла видят не в нем. Ведь даже для вполне сложившегося и зрелого человека не безразлична атмосфера, в которой он живет. Атмосферу же вокруг него создавали воспитатели.
Одно из писем (одно на сто) придерживается такой точки зрения. «Я считаю, что просьба Петровой к директору поговорить с ней наедине подтверждает слова Жохова, — пишет В. Мазов. — Ф. Вигдорова считает, что сказать правду — это значит сделать подлость. Ее беспокоит то, что соучастник Жохов нарушил мужскую честь, сказал правду… Нет, надо вмешиваться в чужую жизнь, семью, если там неладно. Ф. Вигдорова своей вредной статьей потворствует распущенности».
Я не буду спорить с этим письмом. Я только со страхом думаю, как выглядело бы собрание месткома под председательством В. Мазова…
Ответом ему может служить одно из писем: «Конечно вмешательство необходимо, — пишет читатель, — ну, например, когда муж пьет, избивает жену и детей, тут нельзя пройти мимо… Но и здесь не всегда многолюдное вмешательство приносит пользу. А уж разобраться, любят ли двое друг друга, кто виноват в их ссоре, надо ли им быть вместе или лучше расстаться, — это решать им двоим или с помощью близкого друга. Общему собранию тут делать нечего».
Это верно. Постыдная история, происшедшая в Энске, началась в ту минуту, когда предместкома задал Олегу свой первый пошлый вопрос. Именно с этой минуты взрослые мужчины занялись делами, которые, если верить литературной традиции, являются уделом старых, озлобленных и ничем не занятых ханжей и сплетниц. Занялись с увлечением, не понимая, что унижают не Нину Сергеевну, а прежде всего самих себя.
Читатель удивлен тем, что в статье не названы имена действующих лиц. Редакция полагала, что можно обойтись без этого сильнодействующего средства, казалось, что призыв — «опомнитесь!» — будет услышан. К сожалению, он не был услышан. Руководители училища не прекратили своей деятельности. В трудовой книжке Нины Сергеевны записано, что она уволена за аморальное поведение. В музыкальную школу, где она сейчас преподает, был звонок: «А знаете ли вы, кого взяли на работу?» Директор же не поленился и приехал в Москву, в институт, где на заочном отделении учится Нина Сергеевна, специально для того, чтоб история, которая чуть не стоила ей жизни, была известна и здесь. Руководителям музыкального училища, так много потрудившимся, чтобы испортить жизнь молодому, одаренному человеку, понадобилось губить и его будущее.
К чести новых руководителей Нины Сергеевны и проректора заочного отделения, надо сказать, что они отнеслись к этому как должно: с презрением, которого только и заслуживает всякая попытка мазать ворота дегтем.
Мы назвали нашу статью «О понятиях совсем не старомодных». Это полемическое название, думается мне, не оправдало себя: огромное большинство читателей, приславших свои отклики, глубоко убеждены: рыцарское отношение к женщине, то есть глубокоуважительное отношение, — понятие, которое никому и в голову не приходит сдавать в архив или называть старомодным.
Чувства собственного достоинства и уважения к другому человеку — связаны неразрывно. Вот почему многие читатели пишут о необходимости воспитывать эти чувства собственного достоинства, самоуважения, личной порядочности — против пошлости, цинизма, неуважения к женщине.
1963 г.
Это было лет десять назад. В детском доме раздавали подарки, присланные шефами. Подарки были щедрые — выпускники получили костюмы, платья, часы!
— Который час? — то и дело спрашивали этих счастливцев: они не успевали отвечать. Ну, а тем, кто еще не кончил школу и оставался в детском доме, шефы подарили материю — девочкам на кофточки, мальчикам на рубахи. Дети любовались подарками, толковали о том, как и когда шить наряды.
Ровно через два дня в детский дом приехал инспектор районного отдела народного образования проверить, действительно ли директор детского дома присвоил себе детские подарки: так утверждало анонимное письмо, пришедшее на имя роно. В приписке было сказано: «Кроме того, директор присвоил еще один шефский подарок — ковер».
Расследование было недолгим, потому что расследовать, в сущности, было нечего: директор ничего себе не присвоил, а на черном фоне ковра было вышито красное сердце и недвусмысленные слова: «Дорогому Семену Афанасьевичу Калабалину от шефов».
Но никто уже не говорил: «Какая хорошая получится кофточка», никто не спрашивал больше: «Который час?». Клочок бумаги, на котором наспех было набросано несколько слов клеветы, сделал свое дело: праздника не стало.
С тех пор прошло десять лет. Но время от времени в Министерстве просвещения, в Академии педагогических наук, в школах меня спрашивают:
— А правду говорят — шефы прислали детдому в подарок ковер, а Калабалин его присвоил?
Наверное, следовало бы сказать, что Калабалин — честнейший человек, что я верю ему, как самой себе. Но ведь это тоже требует доказательств! И я всем отвечаю так:
— Съездите к Калабалину, прочитайте, что написано на ковре.
Ну, а если бы на ковре ничего не было вышито? Если бы это было только сказано в тот час, когда вручали подарок? Что тогда?
В одной семье жила шестнадцать лет домашняя работница — Мария Александровна К. Потом настала пора уйти на пенсию. Кроме того, пришла ее очередь, и она получила комнату. Но в семье, где она работала, остался выращенный ею ребенок — девочке был едва год, когда Мария Александровна пришла в эту семью. Там остались люди, которых она полюбила и которые полюбили ее. Если кто-нибудь в семье болен, она приходит и ухаживает за больным. Если болеет она, ухаживают за ней. Она часто бывает в семье, которая стала ей родной.
И вот в райсобес пришло письмо: «Мария К. получает пенсию, а сама прирабатывает у своих бывших хозяев — надо лишить ее пенсии».
Марию Александровну вызвали в райсобес. На квартиру пришел инспектор. Проверил — все жильцы говорят:
— Она в этой семье своя. Потому и ходит.
Но как ходит — бесплатно или за деньги? Доказательств-то нет. И вот идут новые и новые письма, теперь уже в горсобес. Автор (разумеется, анонимный) жалуется на нерадивость райсобеса и требует: расследуйте, накажите. «Сообщаю: во вторник гражданка К. вымыла своим бывшим хозяевам посуду. В субботу пришла ухаживать за своей бывшей хозяйкой, которая на бюллетене. В понедельник опять мыла посуду. Надо лишить ее пенсии».
Пришло письмо — нужно расследовать. Жильцы пишут подробное объяснение. Марию Александровну вызывают на комиссию. В комиссии много людей занятых, озабоченных, и все они пытаются разобраться: дружит Мария Александровна с семьей, где прожила шестнадцать лет, или подрабатывает там, надо лишить ее пенсии или не надо? Мария Александровна с недоумением спрашивает:
— Что же, если Татьяна Николаевна опять заболеет, мне не приходить? И вообще, что ли, не ходить?
— Ходите! — мужественно отвечают члены комиссии. И видимо, втайне соображают: кому теперь пожалуется на них анонимный автор? Кому он теперь напишет? А он будет писать и писать. Доказательств-то нет.
А бывает так, что доказательства бессчетны.
Есть в Москве завод, известный всей стране. На нем в отделе снабжения работает старшим товароведом Зинаида Степановна. В апреле 1961 года она направила Генеральному прокурору Союза большое заявление, в котором писала: «Я озабочена тем, что на нашем заводе образовалась база, торгующая металлом. Металл отпускается на сторону без нарядов… незаконные махинации… сфабрикованные документы. Директор завода и секретарь парткома зажимают мои жалобы». О начальнике отдела снабжения сказано, что он опытный авантюрист, прожженный демагог: «Рабочих и членов КПСС презирает, имеет затаенную злобу к партии и честным советским труженикам, проявляет мерзость к людям».
Жалобу переслали прокурору района с таким указанием: «Проверку поручите опытному следователю. Заявление находится на особом контроле в следственном управлении Прокуратуры СССР».
Заявление было тщательно проверено. «Факты» не подтвердились. И с этой минуты жалобы и заявления посыпались как из рога изобилия. Заявлениями Зинаиды Степановны занимались партийное бюро отдела металлоснабжения, заводской партийный комитет, три специальные комиссии парткома, парткомиссия при Московском Комитете партии, Госконтроль и т. д. и т. п. В проверку и расследования было втянуто около двухсот человек. Заявления были разные — иной раз две-три страницы, иной раз пятьдесят — шестьдесят, и на каждой странице — обвинения одно страшнее другого.
Можно ли сказать, что в жалобах Зинаиды Степановны нет ни слова правды? Нет, нельзя. К примеру: есть на заводе сверхнормативные остатки металла? Никто не спорит: есть. Все это знают, борются с этим, стараются сделать так, чтобы их не было. Но Зинаиде Степановне этого мало: ей нужно, чтоб непременно возникли страшные ярлыки: «незаконные махинации», «сфабрикованные документы», «авантюризм», «демагогия».
Ей ничего не стоит крикнуть человеку, который с ней не согласен: «Мерзавец!»
Так было, например, на состоявшемся недавно открытом партийном собрании, где коллектив потребовал увольнения Зинаиды Степановны. На собрании выступили двадцать восемь человек, и ни один не согласился с ней, ни один не взял ее под защиту. Все говорили, что работать с ней невозможно, что она незаслуженно оскорбляет людей грязными подозрениями и постоянно грозит поговорить о них «в другом месте».
— Как вы думаете, почему за вас никто не вступился? — спросила я у Зинаиды Степановны.
— Подкуплены! — был ответ.
Итак, три разрозненных случая: детский дом; одна семья; целый завод. Никто не умер. Но все отравлены. Слово — вещь серьезная. Оно и ранит и убивает. Оно может вселить в человека веру в свои силы, оно может лишить его всякой веры в себя. Подлое, клеветническое слово — камень, брошенный из-за угла. Это бесчестный поединок, в котором один вооружен, а другой хоть и вооружен правдой, но поначалу беззащитен: на него нападают трусливо, бьют в спину, он не знает, откуда ждать удара, а чаще всего попросту не ждет его.
Мышление человека, распространяющего клевету, не поддается здравому анализу, на первый взгляд оно необъяснимо. Ну, например, зачем утверждать, будто ковер украден, если так легко доказать, что это подарок? «Клевещи, что-нибудь да останется» — вот девиз этих людей. И они правы. След ковра прошел через десятилетие и еще не стерся: «Калабалин? Не помню, право, но был, был какой-то неприятный слух. Будьте с ним поосторожнее, о нем говорят что-то такое…»
Клеветники есть разные — по возрасту, внешности, характеру. Но у клеветников есть и особые приметы, которые их «роднят». Вы заметили, клеветники любят слово «якобы». Это, пожалуй, главное слово в их лексиконе. Любая истина в свете этого слова становится подозрительной. Он любит детей… якобы! Он честный человек. Якобы! Он заботится о людях. Как бы не так: якобы! Клеветник не верит, что можно остаться честным рядом с деньгами. Он не верит, что можно бескорыстно за кого-нибудь вступиться и без какой-либо личной заинтересованности кого-то разоблачить.
В газету часто приходят анонимные письма. Некоторые из них взывают о помощи. Они написаны людьми, которые боятся. Эти люди хотят восстановить справедливость, защитить честного человека, наказать подлеца. Но они боятся сделать это прямо. Я помню случай: маленькое, глухое село. Председатель сельсовета, который каждому, кто смеет поступить наперекор, угрожает: «Я тут самый главный! Если захочу, могу твою хату по полену растащить».
Никто не кинет камня в пожилую женщину, которая посылает в газету жалобу и не подписывает ее. У нее нет сил бороться с самодуром и пьяницей, но она хочет восстановить справедливость, и она пишет: «Приезжайте к нам. Помогите».
Но сейчас мы говорим не о старых, больных и зависимых людях, которые делают то, что в их силах. Тот, кто писал про домашнюю работницу Марию Александровну, не зависел от нее и ее не боялся. Но он не допускал мысли, что можно помогать кому-нибудь, не получая за это денег. Та же подозрительность движет и Зинаидой Степановной. К примеру: заведующий отделом металлоснабжения прежде работал на златоустинском заводе, а потом ушел оттуда. Зинаида Степановна не сомневается: значит, проворовался. После каждой расследованной жалобы ей объясняют, что она неправа. Она отдыхает некоторое время и с новыми силами принимается за новое заявление. «Печать призывает нас к критике и самокритике», — говорит она.
«Рана от кинжала излечима, от языка — никогда», — говорит пословица. Лживый язык наносит раны, глазу не видимые, но разрушительные. Жало клеветы ядовито, и мы знаем немало случаев, когда она отравляла не иносказательно, а в прямом смысле этого слова: люди гибли, подточенные клеветой.
Маленькое отступление. На одном собрании встал человек и сказал:
— Я против того, чтобы избрать Петра Сидорова в местком: он горький пьяница и аморальная личность — женат в четвертый раз, а детей раскидал по свету.
Встал Петр Сидоров и ответил:
— У меня больная печень, и пить я попросту не могу. Я женился двадцать пять лет назад, с тех пор никогда не разводился и не далее как третьего дня справил серебряную свадьбу. Что до детей, то у меня их, к сожалению, нет ни одного.
Зал загудел, а человек, выдвинувший обвинение, скромно произнес оглушительную фразу:
— Мое дело — сообщить.
Над этими словами стоит задуматься. Ведь таких любителей «сообщить» немало. Их журят, они на время умолкают, а потом снова принимаются за любимое дело. Неужели из этого положения нет выхода? Есть. Если жалоба не подтверждается, написавший ее должен нести ответственность. «Мое дело — сообщить»? Нет, твое дело не только сообщить, но и отвечать. За каждое слово. Отвечать, как за удар ножом.
1963 г.
Ректор Псковского педагогического института Иван Васильевич Ковалев сказал мне однажды, что с детства не забыл, как мужики из их села ходили в соседнее — «за розумом». Видно, там жили умные люди, оттого-то к ним и ходили посоветоваться, поспорить, одним словом — за розумом. Я думаю, что в педагогический институт молодой человек приходит за тем же: за розумом. Он приходит в надежде на то, что отпущенный ему природой ум развернется, что он научится не только накапливать знания, но и широко осмысливать их. Кроме того, и это не менее важно, институт должен разбудить в студенте учителя.
Я думаю, что в каждом человеке живет учитель. Только люди не всегда это осознают. Но оно так. Ты не преподаешь в школе, но ты воспитываешь своих детей. У тебя нет своих ребятишек, но ты работаешь на заводе, в учреждении, и если в тебе жив учитель, тебе легче будет среди людей. Только условимся: учитель — это не тот, кто постоянно читает нотации и школит окружающих. Учитель — это человек, который умеет слушать другого человека и понимать каждый характер.
Я начала свою учительскую работу в Магнитогорске. Я любила свою профессию, более того — я мечтала о ней со школьных лет. Мне дали хороший, слаженный третий класс. И в первые же дни мне показалось, что все пошло прахом. Я не могла бы сказать сейчас, какие ошибки я совершила; каждый мой шаг был ошибкой. Но почему, почему, ведь я так хорошо усвоила курс естествознания, истории, арифметики и прочих наук, которые надо было преподавать в начальной школе? Я училась в очень хорошем техникуме и до сих пор благодарна своим преподавателям. И все-таки, придя в школу, я вдруг поняла, что самая трудная задача вовсе не та, которой я боялась, и отношения ни к истории, ни к арифметике она не имеет. Одной из самых трудных задач оказался Петр Логвиненко.
В свои одиннадцать лет он считал, будто учиться ему решительно незачем. Переубедить его я не могла. Родители у него разошлись, и один месяц он жил у папы в Магнитке, другой — у мамы в Челябинске, третий — у бабушки в Златоусте… Притом и мать, и отец, и бабушка имели свою концепцию этого характера, так что задача становилась совсем неразрешимой. «Только лаской, он так раним», — писала мне Петина бабушка. «Наказывать», — был уверен отец. А мама говорила: «Не обращайте внимания, все обойдется». Поиски ответа в книгах — даже самых лучших — ни к чему не вели. Наверное, страх перед новизной задачи мешал видеть…
До сих пор считаю себя счастливым человеком оттого, что в школе, где я работала, были люди с большим учительским и душевным опытом. Они приходили на мои уроки. Приглашали меня к себе: смотри, учись. Я смотрела. Спрашивала. Не всегда соглашалась с тем, что видела, но и в несогласии было нечто такое, что помогало мне: я училась думать над задачей, которая называлась — дети.
Я полагала, что, еще учась в техникуме, любила учительскую работу. Нет, только придя к детям и хлебнув горечи, я поняла, что такое учительский труд. И тогда откликнулись и пришли на помощь знания, которые дал мне техникум. А беда, как я понимаю теперь, была в том, что я готовилась к теплу и безветрию. И не захватила в дорогу снаряжения на случай грозы и мороза. И конечно же я не умела думать. А умение думать в трудном учительском походе — главное снаряжение.
В педагогических вузах искренне хотят воспитать — и воспитывают — в студенте любовь к учительской профессии. Но любовь эта — умозрительная. Школой любуются, как парусником в далеком море: какая лазурь! А парус — как крыло невиданной птицы! А белоснежные облака… И все это далеко, далеко… Поясню свою мысль примером.
К студентам Ленинградского педагогического института имени Герцена пришла учительница Наталья Григорьевна Долинина. Ее пригласил клуб интересных встреч. Студенты слушали Долинину, соглашались, не соглашались, спорили, задавали вопросы, роптали, удивлялись. Все было, как в разговоре, который всех задел и никого в стороне не оставил. Преподаватели кафедры педагогики в этом разговоре участия не приняли. Но ушли они с этого диспута в большой тревоге. Тревога была настолько глубокой, что заставила их обратиться в газету. Суть же заботы заключалась в следующем: пристало ли со студентами педагогического вуза говорить о несовершенстве педагогической науки да еще заявлять: «Я — яростный противник педагогики в том виде, в каком она сейчас находится». И еще: на вопрос, как она воспитывает коллектив, Долинина ответила: «Пока я не привязалась к каждому и каждый ко мне, коллектива не будет. Чем же их объединить, если не общим интересом к себе — для начала?» Нет ли в таком ответе себялюбия, тщеславия и, поисков дешевой популярности? И наконец, Долинина согласилась со студентами, что материальное положение учительства трудное и что, по ее мнению, надо работать, не рассчитывая на то, что оно скоро изменится.
Я разговаривала с преподавателями, хотела понять, что привело их в такое смятение? И что, по их мнению, должна была ответить Долинина, к примеру, на вопрос о материальном положении учительства?
— Она должна была увести студентов от этого вопроса, — сказали мне.
В одном из своих писем Боткину Белинский говорит так: «Многих людей я от души люблю в Питере… Но… я начинаю замечать, что общество Герцена доставляет мне больше наслаждения, чем их: с теми я или говорю о вздоре, или тщетно стараюсь завести общий интересный разговор, или проповедую, не встречая противоречия, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения, я с ним спорю и, даже когда он явно врет, вижу все-таки самостоятельный образ мыслей».
Проблема «собеседника», видимо, сильно занимала Белинского потому, что вскоре, жалуясь тому же Боткину на пресные, без спора и увлечения разговоры с друзьями, он особо выделяет Тургенева, «самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры». Как не позавидовать человеку, у которого были такие собеседники! И видно, не только студенты и дети ходят в поисках «розума»… Но если даже для такого ума, как ум Белинского, необходима была сшибка с чужим мнением, с чужой мыслью, то как же это необходимо для ума, который растет и развивается!
Клуб интересных встреч — превосходная вещь. Но когда приглашаешь к студентам интересного человека, надо помнить: интересный человек — своеобычен и думает не по шаблону. А раз он таков, он непременно взбудоражит своих слушателей, заставит их спорить, думать, искать. Если учителя учителей к этому не готовы, то вместо клуба интересных встреч следует открыть клуб бесспорных вещаний.
К сожалению, встречи студентов с людьми их будущей профессии нередко проходят по такой парадной схеме: «Перед вами сейчас выступит заслуженный учитель (сталевар, врач, агроном…)». Затем заслуженный учитель выходит на трибуну и говорит о счастье быть наставником юношества. А потом молоденькая учительница расскажет, как она блистательно справилась со всеми встретившимися ей трудностями. Разумеется, кто-нибудь из выступающих честно предупредит студентов, что работа учителя трудна… Ну как тут не вспомнить парусник в далеком море? Какая лазурь! Какая синева!
И вот перед студентами появился человек, который только что сошел с корабля. Его там швыряли штормы, обдувало всеми ветрами. Он знал и солнечные дни, но знал и суровую непогоду. И о ней он тоже рассказал. Он уважал своих слушателей. Он был уверен, что воспитательский шаблон, в котором самое главное — перекачка сведений и проповедь, не встречающая осмысления, продиктован глубоким неуважением к студенту, к его способности видеть и понимать.
В самом деле, неужели студенты только от Долининой узнали о том, что заработная плата учителей невелика? Думается, они знали об этом и прежде. Я, например, не согласна с Долининой и думаю, что вопрос о повышении заработной платы учителям решится скоро, не может не решиться. Но по существу Долинина сказала вот что — не ждите легкого. Это очень трудно — быть учителем.
Неужели студенты, читая учебники педагогики, не догадывались, что наука эта далеко не всегда отвечает высоким требованиям школы? Уверена: они понимали это и раньше. Откуда такое странное заблуждение, будто молодежь узнает о трудном в окружающей жизни только от неосторожной учительницы в клубе интересных встреч? Студенты, надо полагать, сами думают и размышляют.
Однажды Самуил Яковлевич Маршак сказал: «Когда ты слышишь слова «стругать», «рубить» — они вызывают у тебя ощущение топора и рубанка в руке. Когда ты читаешь, что кто-то «обрабатывает дерево», у тебя никаких ассоциаций не возникает».
Когда студент читает в учебнике или слышит на лекциях: учитель обязан… учитель должен… это — «обработка дерева». А слушая Долинину, студент ощущал рубанок в руке. Когда ее спросили: «Можно прийти к вам на урок?», она ответила: «Нет. При любовном свидании третий лишний. Урок настоящий — это с глазу на глаз с классом». Когда речь зашла о хорошем учителе, Долинина сказала: «По-моему, учитель начальных классов не бывает средним. Это или больше, чем хорошая мать, или ничто. Евдокия Терентьевна Никитина в сорок седьмом году подбирала себе первый класс, сидя в кабинете врача: если девочка золотушная, значит, моя. С горбом — моя. Заикается — моя… Несколько лет спустя я получила этих учеников. Какой это был славный, веселый, культурный класс!» Со всем этим можно соглашаться или не соглашаться. Но это не постные фразы, это не «обрабатывать дерево». Это — ощущение рубанка в руке…
Что же до уроков, на которые Долинина будто бы не велит приходить, так ведь это только слова: конечно же у нее на уроках бывают и студенты и учителя. Сидят, слушают, учатся думать. И она ходит на уроки своих товарищей и тоже уносит с собой и мысль, и сомнение, и радость открытия. Как же иначе? А урок с глазу на глаз с классом — все-таки самый лучший…
Почему я так подробно рассказала о случае в институте имени Герцена? Да потому, что он имеет прямое отношение к вопросу о том, как педагогический вуз должен воспитывать студентов. Если учителя будущих учителей станут бояться встреч своих питомцев с думающим, ищущим человеком, они не сумеют научить студентов по-настоящему любить школу. Раз члены кафедры педагогики не согласились с Долининой, они непременно должны были с ней поспорить. Непременно должны были противопоставить ей свое мнение, свою убежденность. Тогда различные мнения сшиблись бы и возникла бы искра, без которой нельзя разбудить в студенте учителя. Они этого не сделали. Почему?
Нет, при такой постановке дела Колумба не вырастишь. Как он станет открывателем людей, если он сам еще не раскрыт как человек и учитель?
Если студент педагогического вуза покинет стены института, обладая «розумом», т. е. умея думать, если он со всей отчетливостью понимает, что его ждет счастливый, но очень нелегкий труд, если он еще на студенческой скамье вникнет в работу учителей «хороших и разных», тогда в добрый час! На первых порах он все равно будет маяться и приходить в отчаяние. Но он непременно выстоит, и никакая непогода ему не страшна. Если же его на протяжении четырех лет «уводили» от сложных вопросов, тогда… тогда беда! Он не решит ни одной из сорока задач, что будут сидеть перед ним на партах. И жалко ребят, которых начнут «обрабатывать» его механические руки, его боязливый, неразвернутый ум.
1964 г.
В январе пятьдесят второго года я получила письмо. Помню, как раскрыла конверт, как вынула грубый, потершийся на сгибе листок и прочла: «Здравствуйте, Марина Николаевна! Прочитал сейчас книгу «Мой класс». Называю Вас так, как в этой книге называют Вас Ваши ученики. Марина Николаевна, я заключенный. Зовут меня Борис Корниенко».
Это было длинное письмо. Его писал молодой человек, самостоятельная жизнь которого началась трагически: он совершил кражу и был заключен в тюрьму. В лагерях, где он отбывал срок наказания, ему попалась моя книга — повесть о молодой учительнице и ее учениках. Рассказ в ней ведется от первого лица, вот почему в те дни, вскоре после того как книга вышла в свет, я получала письма, которые неизменно начинались словами: «Здравствуйте, Марина Николаевна» — читатели называли меня именем моей героини.
Меня обычно спрашивали, как я писала свою книгу, где сейчас мои ученики, продолжаю ли я работать в школе. Но это письмо не походило на другие. Это было письмо-исповедь. Борис Корниенко ни о чем не спрашивал. Он рассказывал о себе. Рассказывал о детстве, о раннем сиротстве.
«Мне кажется, — писал он, — я походил на Вашего ученика Диму Кирсанова. Нет, я не был таким способным, я не так хорошо учился. Но я был так же самолюбив, так же застенчив, и у меня не было друзей. И потом, знаете, я очень некрасивый: рыжий и в веснушках. Я чувствовал себя одиноким. Но Ваш Дима — настойчив, у него сильный характер. А я уже в детстве был слабым человеком. Я хотел стать инженером, изобретателем. Но я пошел кривым путем, я хотел избежать трудного, я стремился к тому, что дается легко. Может быть, я и выправился бы и стал настоящим человеком, но тут началась война, эвакуация, скитания, погиб на фронте отец, и это меня окончательно подавило. Семнадцати лет я ушел в армию. Думаю, что она повлияла на меня хорошо, но привычка судить о людях плохо в свое оправдание, замкнутость и недоверчивость — все это оставалось во мне.
О своем преступлении скажу коротко, в двух словах: я увлекся радио и украл часть радиоаппаратуры.
Конечно, настоящий человек не так добивается осуществления своей мечты. Но я хотел достичь своего быстрее, легче, я пошел кривой дорогой, а она никогда не доводит до добра. Мне никто не пишет. Ни один человек. Года два назад я послал письмо в один московский институт, а после слов «кому» написал: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке». Но мне никто не ответил».
Я читала и думала о том, что отвечать Борису Корниенко мне будет трудно. Советовать всегда трудно. Советовать человеку в неволе — просто стыдно. Ведь я-то на свободе, и многое, если не все, в моей жизни зависит от меня. А он не свободен в своих поступках. Взяться за письмо мне помогло одно обстоятельство. Во всем, что написал Борис Корниенко, были и горечь и тоска. Но не было озлобления. Когда человек озлоблен, до него не достучишься. По тому, как Борис писал об окружающих его людях, я поняла, что он не оглох, не ослеп.
«Есть у нас в бригаде один человек, Михаил Голицын, парень не то что ограниченный, а просто неразвитый и малограмотный. Характер у него несамостоятельный, легкий, переменчивый и безобидный. Так вот этого Михаила, пользуясь его слабостью, сделали у нас бригадным посмешищем. Я к этому привык, а другой раз и сам посмеюсь, когда выходит остроумно. Мишку этого я не люблю, считаю, что человека из него не выйдет. У него самолюбия нет. Оскорбят его страшно, позорно, а он через полчаса уже все забыл. И вот нашелся человек, который встал на его защиту. Нет, не я. Владимир Чумаков. Он сказал ему: «Неужели ты не видишь, что над тобой издеваются?» А другим сказал: «Если еще раз увижу, что издеваетесь, будете иметь дело со мной». Вот какой человек этот Чумаков. В лагере все стремятся отбыть свой срок и сохранить свое здоровье. Неписаное правило говорит: добивайся этого любыми путями, но только не во вред товарищам по несчастью. Но не все этому правилу следуют. А Владимир выполняет его, как закон. И он никогда ни перед каким начальством шею не гнет, чем бы это ему ни грозило. Нет, и здесь есть у кого поучиться честности».
Вот это место из письма Бориса и помогло мне ответить ему.
Я написала, что понимаю: ему трудно, очень трудно. Но пока человек живет на земле, никакое его одиночество нельзя считать окончательным. И сегодня и завтра могут встретиться на нашем пути люди, которые станут нам близки и дороги. Ведь и в лагере он сумел найти людей, о которых рассказал с уважением и любовью, — всюду нас окружают люди, и это очень хорошо, что он научился их видеть: «Я гораздо старше Вас и поэтому имею право посоветовать, сказать Вам — не надо жить тем, что будет когда-нибудь потом. Вы пишете: годы уходят. Нет, не уходят. Я по Вашему письму вижу, что они оставляют глубокий след в Вашей душе. Что Вы научились видеть и думать. И как бы ни было трудно, живите не только мыслью о том, что с Вами станет, когда Вы отбудете срок, но и сегодняшним днем — этот сегодняшний день еще очень много может дать Вам: и друзей, и книги, и мысли, и умение, которое потом очень Вам пригодится».
Трудно разговаривать с человеком, которого никогда не видел. И я не знала, не была уверена, поймут ли меня, услышат ли.
Но Борис понял и услышал. Скоро пришло ответное письмо — он снова рассказывал о людях, которые его окружают. О прочитанных книгах. О своем детстве. И с чуть меньшей горечью и безнадежностью говорил о будущем. Он писал, что каждую свободную минуту посвящает занятиям: «Я не хочу забывать то, что проходил по математике, физике, химии. Может, и правда я когда-нибудь смогу наверстать упущенное? Не очень-то я в это верю. Но Вы правы: не надо помирать раньше смерти. Не сердитесь, я хочу попросить Вас — не пошлете ли Вы мне учебник английского языка?»
«Какая книга!!! — писал он мне, прочитав «Овод». — Какой человек! Каким мелким я кажусь себе в сравнении с ним. Но почему это, объясните, книга так плохо кончается, и Овод умирает, я плакал, когда читал. А прочитал — и не умирать, а жить хочу. И надежды больше, чем прежде».
Отвечать на письма становилось все труднее. Мой корреспондент спрашивал о тысяче вещей — он хотел знать, свободна ли человеческая воля? Сможет ли он наверстать потерянное? Как я думаю, кто выше — мужчина или женщина?
Я ответила, что у меня нет привычки делить людей на мужчин и женщин. Для меня есть глупые и умные люди, хорошие и дурные, честные и бесчестные, — и среди тех и других есть мужчины и женщины. Я — человек. И, как человек думающий, работающий, равен другому человеку — думающему и работающему, независимо от того, мужчина или женщина этот другой человек.
Эти слова вызвали целый поток новых вопросов. Как человек становится дурным или хорошим, честным или бесчестным? Отчего это зависит? Почему есть много книг о хороших людях и мало — о плохих?
«Можно ли выразить душу человека языком цифр? — спрашивал Борис. — Вот сейчас поясню свою мысль. Кончает подросток школу, уходит в самостоятельную жизнь. Какой он человек, хороший или плохой для общества, для нас с Вами? Это будет видно по его влиянию на жизнь, и миллионы таких подростков, входя в море жизни, вносят каждый по капельке своего влияния в него, изменяют это море.
Разве учителям не интересно знать, какова доля их влияния на сознание людей, а значит, и на жизнь? Разве учителю не интересно знать, что сталось впоследствии с каждым из двадцати учеников его класса? Не анкетные данные, которые можно толковать по-разному, а действительное отношение человека к жизни? Действительно ли со временем из каждых в среднем двадцати бывших учеников выходит все большее число людей честных и действительно ли они живут лучше и счастливее? Разве это учителю все равно? Разве ему не надо находить все новые доказательства в оправдание своей деятельности и в своих глазах, и в глазах других людей? А доказывать и проверять надо неопровержимым и бесстрастным языком цифр».
Иногда письмо Бориса начиналось словами: «Я в себя верю». Другое было полно горечи: «Что мне делать? У меня такая тревога, и тяжесть, и тоска на сердце. Сделайте так, чтобы мне было легче, я больше не могу, не верю в себя. Как мне быть? Помогите мне не сердечным советом, помогите мне понять жизнь. Я предпочел бы оказывать поддержку, чем самому в ней нуждаться. Но я в ней очень нуждаюсь».
Нередко в письмах Бориса звучала чужая, не свойственная ему мысль, но поневоле он возвращался к ней: «Здесь говорят, что быть честным глупо и ненужно. Сам я тоже никак не могу решить: есть ли заслуга в человеческой стойкости? Если нет заслуги, то, значит, не от человеческой воли, не от своеволия человека зависят его поступки. А раз так, значит, пропадает смысл таких слов, как «стойкость», «выдержал испытание». И значит, за свои преступления человек тоже не в ответе».
Отвечать на такие письма было труднее всего. Ведь самое худшее и непростительное, что мы можем сделать со своей жизнью, — это вообразить, будто наша воля не свободна и каждый шаг предопределен, и поэтому мы уже ни за что не отвечаем — ни за хорошее, ни за плохое.
Тут мне помог Чернышевский. Его книгу «Что делать?» Борис читал не для того, чтобы пересказывать в сочинениях сны Веры Павловны, не для отметки в журнале, на экзаменах. Читая, он утолял жажду и голод. Он не только читал, он думал над книгой, и она помогала ему понять жизнь: «Герои «Что делать?» никогда не прячутся за мысль, будто от них ничего не зависит. Они сами кузнецы своего счастья. Как трудно быть кузнецом своего счастья! — писал Борис. — Для этого надо быть очень умным и очень сильным. А что, если я начну читать «Диалектику природы» Энгельса и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина?»
Вот тут я твердо была уверена в справедливости своего совета: «Для Вас сейчас самое главное, самое насущное — программа средней школы. А Ленина и Энгельса Вам не одолеть, вы заплутаетесь в этих книгах, они Вам еще не по плечу».
Борис продолжал заниматься. Читать. Работать. Думать. И когда в пятьдесят третьем году была объявлена амнистия, он получил свободу. И, приехав в Москву, пришел ко мне. На пороге стоял высокий худой юноша. Он описал себя беспощадно правдиво: веснушчатый, некрасивый. Но глаза у него были умные, пытливые.
— Я еще не верю… не верю, что на свободе… Что дома, что буду учиться!
Через неделю Борис уже работал электротехником на маленьком пригородном заводе. А еще через десять дней сел за учебник.
— У меня впереди целое лето, я буду готовиться к экзаменам в десятый класс вечерней школы, — сказал он. — Как вы думаете, выйдет из этого что-нибудь? Примут меня?
Иногда он звонил и просил разрешения прийти. Он бывал разный — как в своих письмах: то уверенный в успехе («Решил очень трудную задачу по физике!»), то печальный, поникший («Нет, сегодня я понял: ничего не получится!»).
…Пришел август, наступили дни экзаменов. Борис написал толковое сочинение по литературе. Справился с алгебраическими задачами, очень хорошо отвечал по физике. Но по истории он получил двойку. Ему попался билет, которого он совсем не знал. После экзамена по истории он пришел к нам. Лицо его было бледно, губы крепко сжаты. Но он старался держать себя в руках.
— Что ж, — сказал он, — попробую в будущем году… Не все сразу, правда?
А завтрашний день принес неожиданную весть: Бориса приняли в десятый класс.
Учителя в этой школе были умными людьми. Они знали: есть случаи, когда строго формальный подход будет несправедлив и бесчеловечен. И если юноша с такой судьбой стремится в школу, к книге — надо помочь ему. Бориса приняли с условием, что в конце первого семестра он сдаст курс истории за девятый класс.
Он работал. И учился.
Он работал и учился со страстью. Он жил нелегкой, но счастливой жизнью. «Я боялся, что меня попрекнут прошлым. Ведь все знают, что́ у меня за спиной. Нет, никогда никто ни словом не обмолвился!»
Если бы стали попрекать, он оставил бы школу. Но никто не коснулся прошлого. И все дружно помогали ему.
— У тебя был большой перерыв. Хочешь, помогу тебе по математике? — говорил кто-нибудь из учеников.
— Я вижу, у вас большой интерес к радио. Зайдите ко мне, дам вам интересную книгу, — сказал преподаватель физики.
— Успел приготовить уроки? А то отпущу пораньше, — часто говорил мастер в цехе.
…Борис кончил десятый класс вечерней школы рабочей молодежи. Через год он держал экзамен в институт. Тот самый, куда он написал когда-то письмо: «Первому попавшемуся студенту, первой попавшейся студентке».
Он поступил на заочное отделение и закончил радиофакультет. Теперь он инженер. Он женат, и у него есть дочка Наташа.
…Если бы Борис, вернувшись на свободу, встретил равнодушие, отчуждение, его жизнь сложилась бы иначе — и кто знает, какие пути легли бы перед ним. Они могли привести его назад — через злобу и одиночество — к преступлению. Если бы двойка по истории лишила его школы в тот первый, самый трудный год, может статься, он не сумел бы справиться с собой. Может быть, он надолго бы разлучился с ученьем, не вошел так скоро в товарищеский круг.
Да, были люди и в школе и на заводе, которые помогли Борису на первых порах. И это, конечно, облегчило ему первые шаги в новой жизни, породило ответную добрую волну, всколыхнуло все человеческое, что было в характере юноши.
Но я уверена: никто не смог бы ему помочь, если бы он сам не задумался над своей жизнью, не постарался бы понять ее. Самуил Яковлевич Маршак сказал мне однажды: «Если человек сызмальства не поймет, что есть нечто более драгоценное, нежели золотые часы, он непременно украдет их. Непременно. Страшный удар в легкие не так страшен, если у тебя легкие полны воздухом. И он может быть смертельным, если легкие пустые. Жизнь без высокой мысли — это улица без фонарей. На ней возможен всякий разбой».
«Помогите мне понять жизнь», — писал Борис когда-то. Но нельзя ни думать, ни понять за другого. Каждый должен сам задуматься над своей жизнью, над тем, что низко, что высоко, что подло, а что по-человечески.
Способность думать над своими поступками, думать над своей жизнью — вот достояние, которое оберегло Бориса от злобы, от одиночества в лагере и от крутых поворотов в новой жизни…
1964 г.
Однажды я написала для газеты статью, которая кончалась такими словами: «Если бы я преподавала в вузе педагогику, я на первой же лекции сказала бы студентам так: «Пока не поздно, берите свои документы и уходите из педагогического вуза. Потому что учительская работа не знает ни выходных дней, ни отпусков. Она поистине одна из труднейших, что существуют на свете, она требует всей жизни без остатка».
Вскоре редакционная почта принесла мне письмо:
«Я послала документы в педвуз, но прочитала вашу статью и забрала их. Зачем всю жизнь мучиться? Лучше я буду журналистом: работы мало, а денег много».
Я не ответила тогда на это письмо. Я решила: его написал человек пошлый. Разве можно ему объяснить, что всякая работа, если делать ее хорошо, требует всех душевных сил? Но в газету приходили новые и новые письма. И я увидела, что мысль, будто есть легкие профессии, присуща многим.
…Пятилетний мальчик погибал от болезни сердца. Он был обречен, спасти его могла только операция. Но риск, сопряженный с операцией, был так велик, что ни один врач за нее не брался.
Один доктор вызвался сделать эту операцию. Ему говорили: опасно. Не надо. Зачем вам рисковать?
А он рискнул. Мальчик жив, и есть надежда, что будет здоров. А если бы неудача? Как держать ответ перед матерью ребенка? Как самому жить, постоянно встречая укор в глазах окружающих? Так не лучше ли отступить, предоставить все случаю?
Медицинский — очень интересный институт. Но хорошенько подумайте, прежде чем подавать туда заявление.
Судя по письмам, приходящим в редакции газет, иным школьникам кажется, что профессия юриста — легкая профессия. Так ли это?
У меня есть знакомая. Зовут ее Светлана Михайловна. Она адвокат, и, как все адвокаты, она старается выручить невиноватого, облегчить участь виновного.
Иногда дело ясно с первых же слов. Факты говорят: виновен. Обвиняемый признает: да, виновен. Но бывает, что на скамье подсудимых оказывается человек, который ни в чем не виноват. Он оклеветан. Или все улики случайно ополчились против него, кажется, нельзя не поверить: этот человек совершил преступление. Но судья, прокурор, защитник обязаны взвесить все заново и не один раз: все гораздо — сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. Они сопоставляют показания подсудимого, свидетелей, они ищут, думают. Они знают, что не имеют права ошибиться. Ошибка может стоить человеку жизни. Или свободы. Судебный работник, как и сапер, не вправе ошибаться…
Но вот процесс окончен. Обвиняемый осужден и отбывает срок наказания. Светлана Михайловна переходит к новым делам, новым горьким судьбам. Но о тех, кто уехал, она не забывает. Она пишет своим прежним подзащитным, следит за их судьбой, шлет им книги, она рада любой возможности вновь и вновь хлопотать об осужденном. Обязана она это делать? Ничуть. Она вправе забыть о своем подзащитном, когда дело кончено. Но ей не нужно это право, она его отвергает! По доброй воле, потому что иначе не может, она взвалила на свои плечи огромную тяжесть, удесятерила свои заботы. Вы хотите пойти в юридический институт? Что ж, идите, это очень интересное дело. Но какое трудное, если делать его по-настоящему!
Все понимают, что труд шахтера — нелегкий труд. Но есть люди, которые думают, будто труд журналиста, к примеру, очень легок: человек много ездит, многое видит, а потом рассказывает о том, что увидел. Вот об этой работе, которая стала моей любимой работой, я тоже хотела бы сказать несколько слов.
Вы хотите стать журналистом? Превосходно! Если вы собираетесь всю жизнь писать так: «Вчера в Колонном зале состоялся бал выпускников средних школ. Бурными аплодисментами встретили собравшиеся выступление отличницы учебы такой-то…», вас, конечно, никакие особые огорчения не ждут. Но если вы хотите вступиться за невиноватого, или разоблачить подлеца, или просто помочь человеку — тогда легкого не ждите.
Вы вступитесь за человека, а вас спросят: «Да кто он вам, собственно?» Вы разоблачите подлеца, а вам вдогонку полетят анонимки, в которых вас обвинят в том, что, разоблачая, вы сводили счеты или получили взятку. Вы готовы к этому?
Есть журналисты, которые, если предложить им трудное задание, если надо спасти, вступиться, говорят: а почему я должен этим заниматься? Но они не журналисты. Настоящий журналист не только там, где радостно и легко. Он и там, где трудно, где безвыходно. И хорошо, если вашу статью напечатают. А если нет? А люди, за которых вы вступились, будут ждать и надеяться?
…Мой знакомый писатель пристально следил за сложной судьбой одного человека. Этот человек (назовем его Н.) вернулся из тюрьмы.
Вернувшись на волю, Н. не сразу нашел работу, не сразу добился доверия окружающих. Одним словом, это был путь очень трудный. Но Н. шел по нему и сумел перечеркнуть свое прошлое, стал хорошим работником, честным человеком.
Мой знакомый, узнав об этой судьбе, стал следить за ней не как сторонний зритель, стал другом Н., познакомился с его семьей и написал статью. Он рассказал об этой судьбе, считая, что она интересна и поучительна.
Вскоре после того, как статья была напечатана, Н. снова оступился. Нет, он не совершил преступления, не попал снова в тюрьму. Он просто запил.
Сколько горьких упреков пришлось выслушать литератору! Подвел, похвалил не того, кого следовало, ошибся: эх вы, доверчивая душа!..
Вы готовы к тому, что ваше доверие обманут? Вы готовы к риску, к горькому разочарованию, к несправедливому упреку?
…Журналистка Э. Малых ехала в кабине грузовика. Она спросила водителя, как его имя, отчество. Он ответил странно: «Анатолий… наверно, Иванович».
Оказалось, что во время войны, в сутолоке эвакуации, он, пятилетний мальчик, потерял родителей. Он ничего не помнит, кроме случайных, неясных подробностей. Одно он знает твердо: он из Ленинграда.
Двадцать лет кряду человек искал своих родителей и не мог найти. Равнодушные люди отвечали ему: нет. Не значится. Следов не найдено.
А журналистка взялась задело, которого ей никто не поручал, за труднейшее, почти безнадежное дело и выиграла: помогла Анатолию найти отца, семью.
Я не хочу портить пересказом отличный очерк Малых. Он напечатан в журнале «Юность», отыщите его и прочитайте. И, прочитав, вы поймете: иссушающей тревоги, сил, затраченных на поиски, не оплатил полученный гонорар. Я уже не говорю о том, как велика была ответственность перед человеком, которого журналист обнадежил.
И еще: конечно, очень важно толково собрать материал, обдумать его, понять, что ты скажешь в своем очерке. Но это — полдела. Самое трудное впереди: ты садишься за стол и вдруг видишь: слова тебе не подчиняются. Ты положил события на бумагу, но, перечитывая написанное, убеждаешься в одной странной вещи: то, что в жизни было трудно, на страницах очерка оказалось легко. События побледнели, образы людей увяли. Как это случилось? Кто в этом виноват? Виноват ты, не сумевший найти тех единственных слов, которые выразили бы твою мысль, нарисовали бы читателю людей и события.
Трудное дело — журналистика…
Но есть ли на свете легкое дело?
Недавно я читала дневник человека, которого уже нет в живых. Его звали Михаил Шнейдер, он был литератором и умер вскоре после войны от туберкулеза. Он много болел, часто жил в санаториях и больницах. В его дневнике, полном живых и точных наблюдений, я нашла две записи, которые хочу привести здесь полностью.
В первой записи речь идет о туберкулезном санатории: «Здесь в било бьют разные санитарки. Бьют равнодушно, уныло, быстро кончают и после этого сразу скидывают на землю ударник.
Я заметил, что иногда кто-то бьет энергично, долго, в глубоком и едином ритме. И подкараулил. Молоденькая девушка взяла ударник в обе руки, стала под самое било и, держа ударник над головой, бьет долго, с захлебывающейся энергией, со сдерживаемой улыбкой. У нее косенькое лицо, монгольские скулки, ей семнадцать лет, и я уверен, что это серьезный и талантливый человек».
А вторая запись такая: «Сдавал заказное письмо, обклеенное марками, на которых пушкинский портрет. Сухая, немолодая и некрасивая женщина, погашая длинным штемпелем марки, осторожно выбирала, где стукнуть, чтобы не шлепать при этом лицо Пушкина. Целый день она делала это, и в семь часов вечера ее движения вежливы и нежны».
Я не хочу с помощью этих цитат выразить общеизвестную и от частого повторения ставшую плоской мысль, что всякое дело надо делать хорошо. Все мы знаем: есть вещи скучные. Но одно верно: в каждой работе почти неизбежна первая трудная будничная полоса. И тут надо призвать на помощь воображение. Хорошо, когда начинаешь понимать: за этой смутной, безрадостной полосой непременно возникает новая — нелегкая, но серьезная, полная открытий, где возможен глубокий и единый ритм.
Выбрать работу, которая станет твоим жизненным делом, — нелегко. На земле разбросаны угольки призваний, говорит легенда. Каждый уголек может по-настоящему разгореться, только попав к своему хозяину. Если человек подберет не свой уголек, огонь будет едва мерцать, а то и совсем потухнет. С давних пор ходят люди по свету, и каждый ищет тот огонь, который ему предназначен. Иные счастливцы сразу его узнают, другие ищут всю жизнь и не находят; и много на свете людей, которые пытаются раздуть чужой огонь, но Это не приносит им счастья.
Только сам человек может угадать свое призвание. Никто со стороны за него решать не должен. Людям, которые спрашивают, кем быть, вернее всего ответить так: будь человеком. И знай: легкой работы на свете нет.
Я навсегда запомнила слова одной ленинградки, пережившей блокаду. Она сказала: «Легкого не жду. Трудного не боюсь…»
Есть на свете такое слово: долг. Мы говорим: долг совести, долг службы, врачебный долг, долг учительский. Но одного долга мало. Надо любить человека и любить свое дело.
1963 г.
1
(Подчеркнуто мною. — Ф. В.)
2
На этой теме автор останавливается более подробно в статье «Лживое слово».