Книга: Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда

Коллективная чувственность: Теории и практики левого авангарда
Посвящается коллективному в нас самих
Работа выполнена при поддержке Alexander von Humboldt-Stiftung в рамках исследовательской стипендии 2006–2007 гг., фондов Volkswagen (2010–2012 гг.) и РГНФ (2011–2013 гг.), проекты № 11-03-00600 и 12-03-00642.
Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Рецензент
доктор философских наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова ВАСИЛИЙ ВАНЧУГОВ
В оформлении обложки использован фрагмент эскиза Любови Поповой «Прозодежда актера № 7» к спектаклю «Великодушный рогоносец». 1922.
История – предмет конструкции, место которой не пустое и гомогенное время, а время, наполненное «актуальным настоящим» [Jetztzeit]. Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлое, заряженное актуальным настоящим, прошлое, которое он вырывал из исторического континуума. Французская революция понимала себя как возвращение Рима. Она цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода – тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, на которой распоряжается господствующий класс. Тот же прыжок под вольным небом истории – прыжок диалектический, как и понимал революцию Маркс.
Эта книга далась мне нелегко. В процессе ее написания произошел ряд событий личного и общественного характера, которые поставили под сомнение саму эту форму – книги, монографии на заданную тему. К тому же изначальные мотивации к ее написанию в последние годы я, скорее, утратил, претерпев характерную эволюцию от очарования левым авангардным проектом в искусстве 10–20-х годов прошлого века, которое сопровождалось чуть ли не подражанием его теоретическим установкам и политическим манифестациям, к осознанию его «вечной истины» – истины постисторического «забегания», не осуществимой в тех социальных условиях и поэтому пришедшей в своих зрелых формах конца 20-х – начала 30-х годов к сюрреализму и абсурду.
Работу над монографией я начал еще семь лет назад в Берлине. Стипендия Фонда имени Александра фон Гумбольдта, которую я тогда получил, помогла отвлечься от повседневных забот и взяться за изучение русского левого авангарда систематически. Я имею в виду прежде всего феномен производственного искусства и литературы факта, деятельность журналов «ЛЕФ» («Левый фронт искусств») и «Новый ЛЕФ» под руководством Владимира Маяковского и Сергея Третьякова и полноценные результаты соответствующего художественно-политического движения в творчестве ряда писателей и художников, традиционно рассматриваемых вне этого значимого исторического контекста (А. Родченко, В. Степанова, Д. Вертов, А. Платонов и др.).
В Университете Вильгельма фон Гумбольдта в Берлине я встретился с людьми, которые увидели в моих занятиях что-то для себя близкое и одновременно чуждое и непонятное. Моя Professorin – талантливый философ и литературовед Сильвия Зассе (Sylvia Sasse) со своими коллегами по Институту славистики познакомила меня с достижениями современной теории литературы и междисциплинарной гуманитаристики в Германии, за что я ей бесконечно благодарен, как и всему коллективу Института славистики Университета Гумбольдта в Берлине (Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin).
Конечно, я работал совсем иначе, чем мои коллеги-слависты, хотя бы уже потому, что отчасти представлял и сам материал – русскую литературу и искусство, – выстраивая по отношению к нему аналитическую дистанцию как бы изнутри соответствующих произведений. Неверно было бы сказать, что я изучал левый авангард только как «философ». В этом смысле с работой моего учителя Валерия Подороги над проблематикой мимесиса в русской культуре моя книга пересекается только в самых общих теоретических установках и словаре, частично в выборе персонажей и авторитетов. Я тоже понимаю искусство как антропологический опыт производства образов, своеобразно отвечающих на практики подавления и насилия в человеческом обществе. Это опыт привилегированный, играющий основополагающую роль в самоосвобождении человечества, но и, возможно, в его одновременном окончательном закабалении. Поэтому интересует он меня лишь постольку, поскольку может стать частью современного политического процесса, нашего собственного мыслительного и экзистенциального проекта, т. е. в той мере, в какой литература и искусство в целом способны изменять нас и окружающую действительность, а не только развлекать, утешать и приносить субъективное удовлетворение. В то же время анализ соответствующих удовольствий будет интересовать меня в не меньшей степени, хотя бы уже потому, что они не должны выступать для гуманитарных наук чем-то данным по умолчанию и само собой разумеющимся.
* * *
Первоначально мне казалось важным найти новые подходы в славистике, которые не следовали бы принятой в ней стратегии деполитизации левого проекта в искусстве 1920-х. Сейчас мне это уже не кажется столь существенным. Но большую часть подготовленных материалов я все же публикую здесь почти без изменений.
Дело в том, что феномен русского художественного авангарда в лице его наиболее значимых фигур и направлений не может быть без искажений и подмен изъят из контекста социального революционного эксперимента большевиков, чем бы этот последний исторически ни обернулся. Произведения авангардного искусства вне этого значимого контекста часто предстают ущербно и в не собственных формах, подобно тому как полихромные древнегреческие скульптуры (которые к тому же были со зрачками), вырванные из полнокровной жизни греческого полиса, известны нам сегодня только в виде монохромных римских копий. Но не претендуем на восстановление аутентичных авангардных произведений, скорее, лишь на реконструкцию логики их «продуманных руин» (В. Беньямин).
На мой взгляд, именно левые художники задали упомянутому эксперименту пути дальнейшего развития в плане организации коллективной чувственности, выраженной в формах нового быта и нового языка, в формах общения и социальных отношений. К сожалению, постепенно проект этот был подмят и раздавлен традиционными подходами к искусству со стороны функционеров советской власти и «придворных» художников. Именно в этом обстоятельстве я вижу одну из решающих причин заката и самого раннесоветского социального проекта уже к концу 20-х годов. Соответственно, через антропологический анализ литературного и художественного авангарда в его краткой истории может быть отчасти осмыслена эта неудача русской революции, приведшая феномен коллективной («пролетарской») чувственности, который в ней открылся, к коллективной же смерти, повторив тем самым судьбу чувственности индивидуальной («буржуазной»), причем с не меньшими человеческими издержками.
Но пафос нашего исследования состоит в том, чтобы не смешивать причины и результаты, провозглашаемые цели и применяемые средства, в том числе и чисто художественные, и исследовать произведения на уровне применяемых в них художественных и, соответственно, политических средств. Ибо у искусства есть собственная политика – политика чувственности, тел и образов, которую художникам совсем не обязательно заимствовать у профессиональных революционеров и политиков.
Проблематизация и переопределение границ или даже разрывов поэтического и политического, закрепленных в буржуазной культуре и науке, нашли свой благодатный материал в опытах производственного искусства, конструктивизма и фактографии, в которых традиционные оппозиции сакрального и профанного, художественного и утилитарного, агитации и фикции, вымысла и факта были децентрированы и продуктивно сняты на уровне производства самих вещей – художественных произведений левого русского авангарда. Этим последний нам сегодня и интересен.
Я хотел бы выразить особую признательность экспертам и сотрудникам Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) и особенно моему куратору Астрид Грунак (Astrid Grunack) оказывавшей мне постоянную помощь и поддержку в работе. Благодарю сотрудников и экспертов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Фонда Volkswagen и лично Николая Плотникова, поддерживавших архивные исследования по моей теме в 2010–2013 гг. Особая благодарность моему другу Валерию Анашвили, практически вынудившему меня издать эту книгу.
Сентябрь 2013 г.
Введение. Коллективная чувственность и идея левого русского авангарда
Мы исходим из понимания литературы и искусства как социального, антропологического опыта производства образов и вещей, выработки идей и построения отношений, а не всего лишь одного из видов или жанров индивидуального художественного творчества, предполагающего самовыражение личности или отражение бытия. Это предопределяет отношение к избранному нами предмету не как к объекту традиционного герменевтического и психолингвистического анализа художественных произведений, но как к саморефлексивному культурно-историческому феномену, требующему от исследователя активной критической позиции по его реактуализации и даже «спасению» от отчуждения и забвения в настоящем. При этом саму историю мы понимаем не как гомогенный процесс, протекающий в линейном хронологическом времени, а как одновременно заинтересованный бросок в постисторическое, имеющий целью избавление человечества от насилия и страданий, и вынужденное «забегание» в протоисторическое, художественными средствами провоцирующее коллективную память к воспроизводству форм ненасильственного общественного сосуществования. Эти две эксцентричные темпоральные ориентации встречаются во времени-сейчас (Jetztzeit В. Беньямина), одновременно завершающем избранные исторические этапы культуры и спасающем нуждающиеся в этом феномены. Отысканию подобной акупунктурной точки истории на теле русского общества во многом и был посвящен проект левого авангарда в его идее.
* * *
Ибо левый русский авангард – это прежде всего умопостигаемая идея, а не историческое осуществление некоего художественного проекта, развитие направлений или жанров искусства. И он актуален сегодня именно в этом неуловимом качестве – собственной идеальной, т. е. необязательно реализуемой, а, скорее, контрреализуемой исторической возможности. В то же время важны различные обстоятельства, обусловившие саму его неудавшуюся эмпирическую попытку, может быть, впервые сомкнувшую две упомянутые экстраисторические ориентации в одном времени и месте – в 20-х годах XX в. в России.
Изучение культуры русского авангарда, особенно в последние два десятилетия, столь разнообразно и в плане привлекаемого материала, и в плане способов его интерпретации, что единственным выходом для ее актуального философского осмысления может стать попытка представить ее как некую сингулярную идею. В этом плане мы хотим описать русский левый авангард как своего рода интегральную сущность, собиравшую вокруг себя различные слои культуры и жизнедеятельности революционного этапа новейшей русской истории. Подобно культуре эпохи барокко, руководящую идею и формальные принципы которой Вальтер Беньямин описал в своей второй (незащищенной) диссертации на материале немецкой драмы скорби (Trauerspiel) XVII в., искусство и литературу русского комавангарда можно понять как уникальное культурно-историческое явление, задавшее экстремальный режим взаимодействия видимого и говоримого, предложившее новые способы символизации реального и репрезентации воображаемого, основанные на принципиально иной по сравнению с предшествующими культурными этапами истории России, а также с западноевропейской и восточной культурами структуре коллективной субъективности.
Необходимо отметить, что также подобно немецкой драме XVII в., возможно, активнее других видов барочного искусства претендовавшей на исторический резонанс, но так его и не обретшей, левое производственное искусство (и литература факта), несмотря на краткую идеологическую востребованность раннесоветским государством в начале 1920-х годов, не получило широкого признания и легитимации в традиции, в отличие от других школ и направлений русского модерна. Однако это никоим образом не говорит об утрате идейной значимости его артефактов, приемов и теорий, наиболее выпукло выразивших, на наш взгляд, смысл этого важнейшего для русской истории периода[1].
* * *
Несколько забегая вперед, выскажу центральный тезис этой книги: идея русского коммунистического авангарда состоит если не в преодолении, то, во всяком случае, в выявлении и описании форм неустраняемого в обществе насилия, пронизывающего все его отношения – от экономических и политических до визуальных и сексуальных. Причем насилие понимается здесь не как внешнее привходящее качество, или эксцесс, который можно контролировать и регулировать законами права и морали, социальными механизмами и идеологическими аппаратами, а как имманентный антропологический опыт, внутреннее качество социальной жизни, во многом делающее возможной ее саму, во всяком случае, в известных наличных формах. Оно определяет эту жизнь сверху донизу, от насилия образов и дискурсивного насилия понятий до сексуального преследования и экономического принуждения тел. Вопрос состоит в том, что из этого следует в перспективе социального освобождения и какова роль авангардного искусства в соответствующих процессах.
Поэтика как политика другими средствами
Наше обращение к политическому в авангарде нужно прежде всего понимать как прием, имеющий, разумеется, и свои ограничения, т. е. не претендующий на универсальность и однозначность. Достаточно назвать авторов, к которым мы обращаемся с соответствующими инструментами анализа, – от Андрея Белого до Андрея Платонова, от Николая Евреинова до Дзиги Вертова, от Густава Шпета и его учеников по ГАХН до Сергея Третьякова и Бориса Арватова. Объединяет столь различных авторов открытие в их произведениях особого слоя чувственности и альтернативной индивидуалистической структуры бессознательного, которые мы обозначаем здесь понятием «коллективная чувственность». При этом наш подход, скорее, противоположен расхожим формам социального (психо)анализа культуры, ориентирующимся на выявление объективированных архетипов и коллективных идентичностей (юнгенианство). Коллективная чувственность и соответствующая структура бессознательного, о которых в данном случае пойдет речь, обнаруживаются исключительно в бессубъектном поле произведения во времени его анализа (В. Подорога). Это, в частности, означает, что никаких «субъектов», способных присвоить язык и производство образов, для нас не существует. Пресловутая «коллективность» означает в таком случае не внешнюю организацию, а имманентный строй образов, проявляющийся в структуре соответствующих художественных произведений.
В противоположность гонительской (Р. Жирар), «господской» мифопоэтической структуре буржуазного искусства структура пролетарской поэзии, литературы и живописи не просто открыта Другому, а выражает опыт иного предельно аутентично, не утрачивая на уровне производства образов контакта с нерешенными проблемами общества и являясь во многом ответом на них, хотя и не прямым. Сложному символическому опосредованию, делающему эту невозможную коммуникацию возможной, в основном и посвящена данная монография.
Нас будут интересовать «трансцендентальные» условия возможности появления супрематических картин К. Малевича, абстрактных композиций В. Кандинского, архитектурных проектов В. Татлина, моделей прозодежды В. Степановой и Л. Поповой, фотографий А. Родченко, кинофильмов Д. Вертова, романов А. Платонова и т. д. в контексте артикуляции своеобразного опыта, который был понят в начале прошлого века как своего рода новый мистериальный опыт труда, – опыта отрицательных страстей насилия, окончательно вытеснивших господские и христологические «страсти» (Passion) предшествующих эпох. Можно сказать, что страсти Христовы и жертвы всевозможных суверенов были замещены в революционную эпоху страстями пролетариата и страданиями крестьян, и это не простое переназывание. В последних, на наш взгляд, только и проявился заявленный в сакрализованном языке смысл первых. Следовательно, мы говорим не о заимствовании теологической лексики и христианских образов, а об их альтернативной интерпретации, отклоняющей традиционное отношение между знаком и значением, об их раскрытии на принципиально ином материале.
Подобная квазикантианская задача в ее беньяминовской редакции приобретает здесь новые расширения и ограничения. Прежде всего, мы хотим проверить тезис о единстве художественного и материального труда, общественного производства и искусства, который выдвигался рядом (пост)авангардных художественных направлений (конструктивисты, производственники, фактографы) и отдельными пролетарскими художниками 1920-х годов (Вертов, Платонов). Мы хотим рассмотреть сами произведения авангардного искусства как специфические «вещи» – продукты трудовых отношений, собственности, отношений распределения, обмена и потребления, а также существенно с ними связанных политических, сексуальных и экзистенциальных отношений. Уже только во вторую очередь нас будет интересовать искусство с точки зрения выражения «внутреннего мира» художника, опыта чувственного восприятия и связанного с ним мышления. Следует уточнить и концепцию мимесиса как отражения действительности и уподобления идеям. Ибо единственный мимесис, о котором имеет смысл говорить в отношении искусства авангарда, – это приостановка аристотелевского мимесиса, отказ от какого-либо подражания, отражения и поддержания форм существующей действительности и их отношений. Речь идет даже не о режиме негативного мимесиса, характерном для русской критической (реалистической) литературы XIX в., вышедшей из гоголевской «Шинели», а о своего рода антимимесисе – мимесисе бессознательном, сохранившемся в языке в виде архива нечувственных уподоблений (В. Беньямин).
Это искусство перехода от болезненного и неизбежно ущербного саботажа реальности в предшествующие авангарду эпохи к утопии прямого жизнестроения как производства одновременно полезных и прекрасных вещей, а также свободных общественных отношений, не отмеченных печатью насилия. То, что подобная перспектива для искусства оказалась исторически не реализованной, не отменяет достижения отдельными художниками в ее пределах имманентной политичности своих работ, предполагающей альтернативный неотчужденный порядок межчеловеческих отношений и отношений человека с вещами, принципиально иные модели чувственности и фигуры желания.
На первый план здесь вышла проблема утилизации и уничтожения «запасов» насилия и тех институтов, которые занимаются их архивацией, культивированием и прямым использованием. Именно в отношении представителей последних в культуре должна сохраняться критическая функция, которую в свое время выполняли русские левые авангардисты.
Таким образом, можно несколько уточнить наш центральный тезис: опыт отчужденного труда, истолкованный как опыт насилия, является тем самым опытом, который художники авангардного искусства и литературы порой в абсурдных, избыточных и преувеличенных образах выражали и изживали в своих произведениях. Поэтому мы предполагаем изучать авангард в разрезе экстремального опыта насилия, в котором политическое и поэтическое сплетаются порой до неразличимости. Эта интуиция, здесь только манифестированная, должна позволить выявить при дальнейшем конкретном анализе произведений идею единичности и исключительности авангардного проекта на уровне как его авторов, так и его продуктов.
* * *
Мы представляем здесь поэтику русского левого авангарда как политику «другими средствами». «Другое» русское искусство (термин В. Подороги[2]) не случайно появляется одновременно с социальным освободительным движением в России конца XIX – начала XX в. И хотя здесь нельзя говорить о какой-либо детерминации, невозможно отрицать и некую социальную, антропологическую и экзистенциальную связь этих явлений. Обусловлена эта связь не только негативным опытом несправедливости, подчинения и насилия, но и рядом позитивных составляющих социокультурного опыта. Упомянутая «друговость» предполагает в качестве центрального условия «определенность некоторого чувственного мира»[3]. В частности, это означает возможность трудиться не только в целях выживания и использовать язык не только в целях коммуникации и передачи обыденных сообщений, но и для создания специфически человеческого, альтернативного жизненного мира, в котором утилитарность продуктов общественного труда и художественность продуктов индивидуального творчества не противоречили бы друг другу.
Революционные события начала XX в. радикально повлияли на общий характер культурного поля, изменив место и роль искусства в социальной жизни России. Они открыли для художников возможность не только критики наличного состояния общества средствами реалистического изображения или беспредметных форм станкового искусства, но и прямого жизнестроения, означающего непосредственное воздействие искусства на быт и чувственно-эмоциональную сферу человека. В этой перспективе изучение опыта русского левого авангарда имеет исключительное значение для понимания логики развития современного искусства вообще в силу своеобразного исторического «забегания» в его будущее через обращение к праисторическому художественному опыту. В этом плане художественные открытия, сделанные в авангарде, до сих пор остаются по большей части невостребованными подобно тому, как в Средние века не были востребованы технические изобретения египтян, арабов и древних греков, долгое время оставаясь игрушками для развлечения базарной толпы или придворной знати.
Между тем возможности, которые открылись для искусства в 1920-е годы в Советской России, не сопоставимы с теми, которые ему может предоставить сколь угодно развитое современное демократическое государство. Фридрих Шиллер, мечтавший в своих «Письмах об эстетическом воспитании человека» о «государстве прекрасной видимости»[4], в котором бы воплотились мечты людей о всеобщем равенстве, не мог даже представить себе масштабов подобной политико-эстетической утопии. Социалистическая революция обеспечила для художника возможность доступа к реальности в непосредственном, неотчуждаемом режиме, не ограничивающемся условностями, фигурами иллюзии и фикции, открыв для художественного вмешательства области социального опыта, подвергавшиеся прежде только отрешению и остранению. Речь шла об участии художников в принятии глобальных архитектурно-строительных решений, в художественном оформлении целых городов, в режиссерской организации многотысячных революционных праздников, в создании новых видов одежды для массового потребителя и разнообразных элементов нового коммунального быта. Но основные усилия художников были направлены на изменение самих отношений между людьми, преодоление определявших их до этого форм господства, насилия и эксплуатации. Для этого, в частности, была задействована педагогическая функция нового искусства, ориентированная на трансформацию господско-рабской чувственности, глубоко укорененной в российском социальном теле.
Так понимаемое искусство оказывало воздействие на все стороны социальной и политической жизни эпохи, принятые в ней способы коммуникации и модели субъективации, обнаруживая перспективу становления человека как родового существа, способного возвыситься над несчастным сознанием буржуазного индивида и квазиживотными кодами социального общежития. Известно, что сопровождающие эти процессы противоречивые политические события вследствие известного опережения истории, международной изоляции и целого ряда внутренних причин оказались для российского общества разрушительными. Но следует более внимательно, без идеологических предубеждений разобраться в причинах случившейся неудачи – извращения уже к концу 1920-х – началу 1930-х годов проекта социального переустройства, упадка и уничтожения левого искусства и культуры, причем не только на институциональном уровне, но прежде всего на уровне установившихся в раннесоветском обществе способов социализации, отношения к женскому и мужскому телу, в широком смысле – к телу Другого. Разумеется, нас будут интересовать и традиционно рассматриваемые в связи с этим различия авангардного левого проекта с критической традицией русской классической литературы и теми псевдохудожественными и квазиполитическими формами, которые русская культура приобрела в последующие годы советской истории.
Аналитическая антропология искусства и литературы
Мы будем заниматься антропологическим анализом русского художественного авангарда, предполагающим изучение тех социально-политических и антропологических моделей, с которыми вступили во взаимодействие российское искусство и более всего интересующая нас русская литература в предреволюционные годы, на начальном этапе революции 1917 г. и в короткий период 1920-х годов, с выходом на культурно-историческую сцену носителей новой чувственности, практически не имевших до этого возможности непосредственно выражать свой социальный и экзистенциальный опыт на языке образов.
Кризисная ситуация первой пореволюционной эпохи в России, когда получившие право голоса представители широких народных масс затребовали выражения своего особого антропологического опыта на языке литературы и искусства, провоцировала нормализацию неизвестных до этого культуре моделей человеческих отношений, форм чувственности и видов телесности. Новые социальные обстоятельства буквально заставляли художников обращаться к бытующим в обществе способам и моделям общения и поведения, чтобы, с одной стороны, артикулировать соответствующий антропологический опыт, а с другой – избегать идеологического оправдывания и мифологического замораживания стоящих за социальными кризисами политических и экономических противоречий. Художники и литераторы оказались одновременно мотивированы к обнажению соответствующих противоречий, провоцируя их рецидив и преследуя цель обнаружить в символическом плане, на уровне организации художественных образов, способы преодоления саморазрушительных сценариев социального бытия.
Любой этап истории искусства и литературы проходит на общем фоне столкновения властных интересов, разлитого в обществе насилия и отношений эксплуатации, даже если следы соответствующих событий вытесняются в социальных институтах и официальных дискурсах власти. Собственно искусство выступает более-менее бессознательной реакцией на эти события, предлагая модели и способы выхода из порочного круга осуществляющихся таким образом репрессивных социальных практик. Через производство их избыточных, преувеличенных, поистине «жертвенных» образов художник стремится их символически преобразовать и в конечном счете преодолеть.
Идея К. Маркса из «18 Брюмера…» о людях как творцах собственной истории предполагала становление человека субъектом истории в том смысле, чтобы одновременно избавляться от рабского положения, не превращаясь при этом в гегелевского «господина». Вообще целью антропогенеза (согласно «Экономическо-философским рукописям 1844 г.» К. Маркса) является не столько становление индивидуальности, сколько обретение человеком своего рода, в отличие от рода животного, т. е. освоение им специфически человеческого тела и соответствующих желаний, принципиально отличающих его, как конечного существа с бесконечными задачами, от других животных.
Политическое освобождение человека не является, разумеется, единственным смыслом человеческого существования, но оно является смыслом его исторического социального существования. Это даже тавтология. Правда, что человеческая жизнь не сводится к политической борьбе, но пока неравенство людей – узаконенный факт большинства человеческих сообществ, обсуждать смысл «конечности человеческого существования», «загадки бытия» и прочих вечных вопросов философии неадекватно как с моральной, так и с фундаментальной философской точки зрения. История философии, искусства и освободительных движений имеет в этом плане единую цель – пробиться к сущности человека не только в каком-то отвлеченном и отрешенном от действительности смысле, а в смысле ее реального осуществления.
Я не зашел бы так далеко, чтобы подобно ряду марксистских философов ставить в логическую, а не только в практическую связь вопрос о достижении этой сущности в реальной исторической практике, т. е. утверждать, что эта сущность не может быть помыслена и представлена до того, как человек будет освобожден политически. На мой взгляд, этот ход мысли повторяет общие принципы религиозных доктрин. В том-то и состоит главное отличие философии и искусства от политики, что они могут не откладывать мышление или видение этой сущности до времен ее реально исторического осуществления, а полагать ее как искомый человечеством образ уже в настоящем. Тем более что именно в настоящем он и зарождается, подобно тому как производительные силы и элементы социалистического уклада, по Марксу, возникают в условиях капиталистической экономики. Но главный тезис интересующего нас художественного направления и философской мысли состоит в том, что мышление это и видение под силу только людям, оказавшимся волею судеб по эту сторону «зеленой улицы» (см. главу I).
Мы имеем в виду такого проблематичного исторического и культурного субъекта, как «широкие трудящиеся массы»: рабочие, крестьяне, представители разночинных слоев российского общества. Всех их объединял отрицательный опыт труда и насилия, отсутствия элементарных гражданских прав и свобод, с одной стороны, а с другой – положительно осознанная (причем не только благодаря рецепции марксизма) необходимость освобождения от навязываемых капитализмом и нарождавшейся буржуазной культурой моделей существования. В повестке исторического дня закономерно возникает вопрос об альтернативных формах социального общения и творческой деятельности.
Разумеется, подобный запрос может быть заподозрен в некритическом возвращении к скомпрометированным в советские времена риторическим фигурам и псевдонаучным понятиям, таким как «народные массы», «коллективные субъекты» и т. д. Но на то они и заперты у нас в иронические кавычки, маскирующие, в свою очередь, некие феноменологические скобки. Ибо ставят под сомнение возобладавший уже в постсоветский период индивидуалистический подход к изучению феномена русского левого авангарда. Ведь самый этот индивид и его «трансцендентальный» двойник – субъект истории, познания или желания, не являются чем-то само собой разумеющимся и очевидным. Связанная с их логическими характеристиками, местом в структуре символического, в порядке языка и принятых способах общения модель чувственности и телесности кардинальным образом отличается от того гетерогенного сочетания сил, который мы в дальнейшем будем называть носителем коллективной чувственности.
Но мы не намерены заниматься здесь этносоциологией, социальной антропологией или этнической психологией. Коллективная чувственность – не псевдоним массовой души или коллективного бессознательного, этнологическому, антропологическому и социально-психологическому анализу которых уделили в свое время столь большое внимание патриархи этнической психологии, социальной антропологии и психоанализа (В. Вундт, X. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Лебон, З. Фрейд, К. Юнг и др.). Мы собираемся анализировать коллективные модели чувственности там, где они единственно и могут быть обнаружены – в коммуникативных стратегиях и структуре художественных произведений авангардного искусства.
Ибо мы исходим из того, что литература и искусство участвуют в социально-политическом процессе и определяющих его практиках уподобления и социальной мимикрии не как сторонние наблюдатели, а как заинтересованные игроки. Короче говоря, художники и поэты сознательно или бессознательно участвуют в миметическом в своей основе процессе определения жертв, «козлов отпущения» и фигур исключения, направленном на легитимацию или маскировку общественных несправедливостей или обнажение стоящих за ними социальных неразрешимостей[5]. Соответственно, речь идет о двух руслах этого процесса – о господском, ориентирующемся на образцы и принуждающем к «истине», и, условно, рабском – уделе изгоев, отщепенцев и маргиналов, обреченных на ложь, бред и абсурд. Последние просто не способны осуществить в своем творчестве тотальный аристотелевский мимесис действия, будучи со всех сторон – и политически, и чувственно-телесно – ограничены в способностях его осуществления. Но это ограничение, перенесенное в язык, оказалось продуктивным квазимиметическим приемом, позволившим подвергнуть критике и смещению с исторического трона культуры господский мифологический мимесис, противопоставив ему фигуры нонсенса, абсурда и поэтику коллективной классовой смерти.
* * *
Жизнестроительные утопии 1920-х годов, идеи производственного искусства и литературы факта, манифестированные авторами «Искусства коммуны» и «ЛЕФа», пытались совместить соответствующее понимание искусства с проектами всесторонней революционизации российского общества. Теоретические парадоксы и сложности осуществления подобных идей на практике станут основным предметом нашего анализа. Нас будут интересовать объективные социальные причины и имманентные художественному процессу обстоятельства, из-за которых этот проект исторически не осуществился, хотя и имел впечатляющие художественные достижения и значимые теоретические результаты. И наконец, мы обратимся к оценке тех потенций, которые сохранились в нем для политики искусства в настоящем. Мы постараемся показать, чем авангард принципиально современен, т. е. способен соответствовать сегодняшней актуальной политической ситуации в плане ее изменения, а не только декорировать отдельные стороны современности или выступать в качестве частного или партийного ностальгического проекта.
О «партийности» в исследованиях левого русского авангарда
Хотя заявленная тема, разумеется, не нова и специально исследовалась рядом западных и российских ученых, ее разработанность на данный момент следует признать недостаточной и односторонней. Прежде всего надо упомянуть важнейшие по нашей теме работы И. Смирнова, Е. Добренко, О. Ханзена-Леве, Б. Гройса, Г. Гюнтера, И. Кондакова, И. Есаулова, Б. Хазанова, А. Аггева, К. Кантора, С. Хан-Магомедова и многих других. Остается актуальной диссертация и вышедшая впоследствии книга А. Мазаева о производственном искусстве[6]. Относительно недавно изданы специально посвященные феномену производственничества и литературы факта книги итальянской исследовательницы М. Заламбани, следующей методологии школы Ю. Лотмана[7].
Однако большинству доступных нам на сегодняшний день исследований этого феномена мешает явная или неявная идеологичность подходов, лишающая их авторов возможности беспристрастного анализа проблематики русского левого авангарда. Речь идет о как бы вывернутой наизнанку «партийности» исследовательских установок, которые могут внешне выглядеть как академически нейтральные и умеренно либеральные. При традиционном интересе к комфутуризму и русскому авангарду на Западе его стараются представлять либо как модернистскую альтернативу «коммунистическо-сталинскому» культурному проекту, либо как преамбулу к последующему уже в 1930-е годы застыванию левого искусства в соцреалистическом каноне. Особенно это характерно для исследований, выполненных в рамках западной славистики.
Такая позиция, на наш взгляд, неявно признает довольно грубые тезисы марксистско-ленинской философии, такие, например, как определенность различных форм сознания материальным и общественным бытием и отнесение искусства и литературы к так называемой надстройке, различным видам идеологии, мешая даже элементарно разобраться в исторических фактах. Большинство оценок левого литературного авангарда, кроме незначительного числа работ, являются в терминах шпионского языка простой дезинформацией, которая в свое время служила хотя бы понятным идеологическим целям, а сегодня выглядит как какой-то инертный антисоветизм. Большинство исследователей исходят из резкого противопоставления политического и поэтического, причем, пусть и негативно, в пользу политического. Даже если поэтике отводится автономная роль и придается прямо-таки «божественное» значение, политика оказывается как бы не ее делом.
Подобной пристрастности лишены разве что фундаментальные работы Оге А. Ханзена-Леве «Русский формализм» [Ханзен-Леве, 2001], «Мифопоэтический символизм» [Ханзен-Леве, 2003] и др., которым мы обязаны самим интересом к проблематике художественных теорий 1920-х годов. Существует несколько достойных работ по общей теории и отдельным представителям авангарда, к которым мы обращались в процессе написания этой книги. Это прежде всего следующие работы: П. Бюргер «Theory of the Avant-Garde» [Bürger, 1974]; В. Турчин «По лабиринтам авангарда» [Турчин, 1993]; Т. Гланц «Ви́дение русских авангардов» [Гланц, 1999]; С. Хан-Магомедов «Конструктивизм – концепция формообразования» [Хан-Магомедов, 2003]; А. Горных «Формализм: От структуры к тексту и за его пределы» [Горных, 2003]; Е. Бобринская «Русский авангард: границы искусства» [Бобринская, 2006]; Е. Деготь «Борьба за знамя. Советское искусство между Троцким и Сталиным 1926–1936» [Деготь, 2009]; Е. Андреева «Казимир Малевич. Черный квадрат» [Андреева, 2010] и др.
Очень важными для нас в рамках данного исследования стали тексты Вальтера Беньямина «Автор как производитель», «Краткая история фотографии», «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [Беньямин, 2012] и др.; Теодора Адорно «Эстетическая теория» [Адорно, 2001]; Клемента Гринберга «Авангард и китч» [Гринберг, 2005]; Поля де Мана «The Theory-Death of the Avant-Garde» [Man, 1991]; Вяч. Вс. Иванова «Практика авангарда и теоретическое знание XX века» [Иванов, 2007]; Андрея Крусанова «Русский авангард 1907–1932» [Крусанов, 2010]. Следует упомянуть также труд Розалинды Краусс «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы» [Краусс, 2003]. Интересна работа М. Лацаратто «Видеофилософия» в связи с анализом понятия коллективного восприятия у В. Беньямина и Д. Вертова[8]. Наконец, Валерий Подорога является автором нескольких важных текстов на близкие нам темы («Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы» [Подорога, 2010], «Суть вещей. Вещь: явление и уход» [Подорога, 2011] и др.). Особенно следует выделить его текст об Андрее Платонове «Евнух души» [Подорога, 1991], развернутый в целую главу II тома его классического труда «Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы» [Подорога, 2011]. Существует совсем немного исследований, выявляющих специфику интересующего нас исторического и культурного явления как раз в связи с производственным искусством и литературой факта как итогом развития исторического русского авангарда: А. Фоменко «Монтаж, фактография, эпос» [Фоменко, 2007]; Д. Фор «Советская фактография: производственное искусство в эпоху информации» [Фор, 2007]; Б. Холмс «Угроза новых авангардов?»[9]; Дж. Робертс «Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory» [Roberts, 2006], «Производственное искусство и его противоречия» [Робертс, 2009]; Г. Рауниг «Искусство и революция. Художественный активизм в долгом двадцатом веке» [Рауниг, 2012] и др.
* * *
Разумеется, хранители архивов литературы и искусства способны дезавуировать любые художественные явления, даже отрицающие предмет их неустанных хлопот – историю литературы и искусства. Но, к счастью, их интерпретативными практиками забвения до сих пор остаются не охвачены маргинальные стороны творчества некоторых художников, которые просто не могут быть ими адекватно истолкованы.
Если говорить о неадекватных интерпретациях, то это касается прежде всего творчества заумников, кубо– и комфутуристов, производственников, конструктивистов и некоторых обериутов. Это, например, Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Сергей Третьяков, Владимир Маяковский, Александр Введенский, Андрей Платонов, если называть только самые яркие имена. Традиционные литературоведческие авторитеты относятся к ним снисходительно, если не резко отрицательно, часто не признавая за их произведениями художественной ценности вообще. Говорится, что они были созданы под давлением властей или из личных заблуждений художников, а то и из-за отсутствия или потери ими «настоящего» (т. е. индивидуального) таланта. Для этого они находят, зачастую ценой обеднения и фальсификации целого, слабые звенья в этих плотных рядах. Но, опять же к счастью, в поле левого искусства есть такие цельные фигуры, которые можно растворить в истории буржуазного искусства, только уничтожив все их своеобразие. Надо сказать, что буржуазное литературоведение в отношении упомянутых фигур удовлетворяется, как правило, эрзацами своего же изготовления, но сделать на этом некий прибавочный продукт смысла у них все равно не получается. Все кошки оказываются серы. Введенский оказывается похож на Поплавского, Платонов на Пильняка, Хлебников на Г. Иванова, Вертов на Эйзенштейна, а Маяковский на Пастернака, причем не в пользу первого.
Свою задачу мы видим поэтому не в том, чтобы этим писателям были возданы какие-то дополнительные почести, а то и «всемирная слава», а в том, чтобы они вышли из гетто истории литературы и разместились на переднем крае политической борьбы и актуальной философской мысли.
* * *
Если рассматривать революцию как вид социального мимесиса, что заложено уже в самом его понятии, т. е. как возвращение к утраченному состоянию справедливости, братства между людьми, отсутствию эксплуатации и свободному труду, то можно выделить два его подвида. Первый предполагает осуществление полного мимесиса как подражания некоему доисторическому идеалу общежития, воплощение истинной идеи коммунизма в исторической действительности. Это вид политического мимесиса, задаваемый исключительно идеологическими инструментами. Второй исходит из понимания чувственно-экзистенциальной ограниченности возможностей революционного класса в плане осуществления подобного проекта.
В упомянутых выше ограничениях миметических способностей революционного класса рудиментами старорежимной чувственности и буржуазным образованием «ЛЕФы» увидели потенциал для развития искусства, предложив способ его производственной утилизации. А именно, если полностью преодолеть эти ограничения невозможно даже в условиях победы пролетарской революции, то следует просто удерживать запрет на внешнее уподобление действительности, отражение ее видимых форм и выражение психологии и «внутреннего мира» автора в художественном творчестве.
Для искусства это означало возвращение в лоно общественного производства и передачу творческого процесса некоей коллективной коммуне-машине, в работе которой отдельный автор выполнял только функцию мастера – художника-конструктора. Зависимость работы такого мастера от потребностей класса и общества в целом выражалась в идее «социального заказа», которую не следует демонизировать, отождествляя с вульгарно-социологическим лозунгом «социального приказа». Речь шла, скорее, о попытке отрефлексировать чувственно-телесную связь художника с той социальной средой, из которой он произошел или к которой тяготел. То, что такие горячие головы, как О. Брик, С. Третьяков, Б. Арватов и Н. Чужак, перебарщивали при этом с идеей осознанного исполнения подобного заказа, не должно закрывать от нас главного – обнаружения ими связи художника со своим социальным телом, природу и формы которой мы беремся здесь исследовать.
Таким образом, теоретики ЛЕФа преимущественно придерживались второго понимания мимесиса, считая, что ограничения миметических и коммуникативных способностей и, соответственно, недостоверность, условность произведенных художественных образов объясняются прежде всего дворянским происхождением или буржуазным бэкграундом авторов, т. е. чисто социальными ограничениями, и искали контакта с действительностью через ее предварительное изменение художественными методами. Ближайшая реальность, которую надо было изменять, – это реальность языка, его формальной структуры и медийной природы.
В условиях социалистического строительства для продолжения раннего кубофутуристического проекта им потребовалась более сложная ремотивация. Ибо присущая авангарду революционность формы натолкнулась на номинально истинное содержание, которое якобы не было более причин «остранять». Тем более что параллельно с комфутом в новой культурной ситуации пышном цветом расцвело поддерживаемое новыми властями «пролетарское» искусство, готовое продвигать это политическое содержание традиционными художественными средствами.
Одним из важнейших достижений производственного искусства стало понимание, что классовое сознание пролетариата – может быть, и необходимое, но явно недостаточное условие революционного искусства вследствие бессознательного характера той миметической деятельности, которую пролетарий (как художник) реально способен осуществлять. Только источники этой бессознательности должны были выводиться из широкого социального, а не душного семейно-индивидуального контекста.
Из противопоставления труду творчества, а одинокой личности художника – коммунального тела «пролетариата» мы и предлагаем интерпретировать «утилитаризм» производственников, критику ими автономии искусства, только на первый взгляд противоречащие ранним футуристическим манифестациям и теориям ранних русских формалистов[10]. Это соображение опровергает модную идею, что комфуты и производственники были крестными отцами соцреалистического канона и «стиля Сталин» (Б. Гройс). Различия здесь были принципиальными.
Ибо даже рьяно отстаивавшийся производственниками тезис о растворении искусства в общественном производстве не предполагал торжества миметической модели «Государства» Платона, а отмечал переход искусства от станка, музея и салона в саму социальную действительность в формах художественно оформленных элементов быта, новых вещей и освобожденного от эстетства и иллюзионизма языка.
Основные идеи комфута шли вразрез с догматически интерпретированным марксизмом, согласно которому искусство могло революционизироваться как бы автоматически, через постепенное воздействие базиса (новых производственных отношений) на надстройку (частью которой является искусство), при обратном воздействии ее на базис в отмеченном выше идеологическом смысле. Из лукачевско-беньяминовской альтернативы «эстетизации политики – политизации искусства» эстетическая доктрина ЛЕФа нашла выход в марксистской по происхождению идее жизнестроения, совмещенной с формалистской идеей автономии эстетического ряда. Основой различия позиций здесь выступало понимание человеческой деятельности как художественного и технического творчества на фоне открытия нерепрезентативной модели субъективности – машинно организованной «родовой» пролетарской телесности и соответствующей ей коллективной чувственности.
Подобно теоретикам раннего Пролеткульта и в отличие от троцкистов группы «Перевал», «ЛЕФы» рассчитывали на открытие творческих способностей в пролетариате без полувековой отсрочки на строительство социализма, находя в производственном искусстве модель такого открытия. Хотя пролетариат понимался у них в несколько иной по сравнению с Пролеткультом логике: не как достигнутый по факту социальный статус-кво, а как принципиальная возможность открытия у человека «пролетарского сознания». Производственное «пролетарское искусство» в этом смысле – это не «искусство для пролетариев» и не «искусство пролетариев», а искусство «художников-пролетариев»[11]. Таким образом, производственники ратовали за новый социокультурный статус художника, предлагая ему своеобразную модель субъективации – становление пролетарием и, наоборот, становление пролетария художником через участие рабочих в доступных им формах художественного и технического творчества.
Последнее оставалось, конечно, в условиях 1920-х годов не более чем благим пожеланием, слабым звеном в аргументации производственников, которое перехватывалось идеологической машиной государства, легко подменяющей утопии творчества идеологемами труда. Возможно, попытки квазигегелевского «снятия» утопии и идеологии в более поздних версиях производственничества (журнал «Новый ЛЕФ», объединение «Октябрь») стали главной причиной, из-за которой движение, пусть и вследствие внешних атак, распалось изнутри. Ибо ни для кого не было секретом, что между футуристической утопией и ее возможным осуществлением залегает смерть, в том числе и «смерть искусства». Последняя, возможно, была бы и не столь большой бедой, если бы хоть одна художественная утопия осуществилась в образе земного рая, а не оставалась лишь бесконечно достигаемой целью становления в формах самого же искусства. И хотя за этим ложно стыдливым «лишь» стоит реальная жертвенность художников (самоубийство В. Маяковского, расстрел С. Третьякова, мытарства А. Платонова), пытавшихся восполнить своими самоотверженными усилиями неустранимый разрыв между индивидуальным художественным творчеством и рутиной общественного труда, в стране победившего социализма некому было принять эту жертву.
Не решенная при новой власти проблема труда, которая очевидно не сводилась к провозглашенной общественной собственности на средства производства, привела к взлету технического утопизма, подтолкнувшего в начале 1920-х годов ряд талантливых литераторов вообще уйти из искусства в социалистическое строительство (А. Гастев, ранний А. Платонов). В соответствующих машинных утопиях рутинный труд предполагалось переложить на плечи машин (прямо по раннему Марксу). Человеку же оставалось учиться, изобретать сами эти машины и заниматься другим общественно полезным творчеством. Но чересчур оптимистические надежды на тотальную машинизацию хозяйства очень скоро пришлось умерить. Не то чтобы утопии эти оказались неосуществимы в принципе, просто на пути их реализации встали, помимо чисто технических проблем, мирового капиталистического окружения, разрухи и голода, достаточно консервативные залежи коллективной российской чувственности: стереотипы господства-рабства, объектное, насильственное отношение к телу Другого и т. д.
К этому положению дел, как и к факту сохранившегося при социализме разделения труда и социальной дифференциации, можно было отнестись двумя разными способами: утопическим и идеологическим. Поверяя Адорно К. Мангеймом, можно сказать, что левое искусство, чтобы не предать утопию «ради видимости и утешения», не имело права становиться идеологией. Между тем большинство левых художественных течений пошло в 1920-е годы по пути «предательства» утопии, т. е. представляя существующее в виде уже реализовавшейся «истинной идеи», без того, чтобы изменять согласно ей существующую действительность, совершенствуя по ходу дела средства своего производства.
Именно тогда теоретики, поэты и художники, сплотившиеся в начале 20-х вокруг возглавляемого В.В. Маяковским журнала «ЛЕФ», ответили на эти охранительные тенденции идеей производственного искусства и литературы факта. На их примере видны сегодня все преимущества и издержки принятия на себя искусством прямых политических задач и властных функций в культуре.
Неэтаблированные теории Мимесиса (В. Беньямин, Т. Адорно, Р. Жирар, Ж. Делез, В. Подорога)
Язык как архив нечувственных уподоблений. Вальтер Беньямин
Для прояснения концептуальных оснований нашего проекта обратимся к проблематике ряда работ В. Беньямина о языке, переводе, насилии и медиа. Существенная связь между различными сторонами творчества Беньямина позволяет говорить о некоей их общей основе и, возможно, о единственном концептуальном учении («Lehre vom Ähnlichen»), которое он всю жизнь разрабатывал, но так и не завершил. Речь идет о теории нечувственных подобий и бессознательного мимесиса, заявленной им в ряде работ 1930-х годов[12].
Но теория эта обусловлена его ранним пониманием языка не как сознательного выражения заранее известных значений, а как продолжительного исторического и по большей части бессознательного процесса производства слов через нахождение подобий между телами и их отношениями, опосредованных связью с соответствующими сторонами знаков как вещей и отношением с ними самого человека. Согласно Беньямину, осознанно воспринимаемые подобия представляют лишь верхушку айсберга «по сравнению с бесчисленным множеством воспринимаемых бессознательно или же вообще не воспринимаемых подобий»[13]. Следствием этой гипотезы выступает рассмотрение им языка как системы взаимосвязанных соответствий, которой человек не управляет, но лишь репродуцирует ее активно или пассивно на письме и в речи[14].
Ранний Беньямин исходил из понимания языка не как средства коммуникации и передачи значений вне и помимо него существующих означаемых, а как непосредственного выражения «духовной сущности» человека, вещей и отношений. Подобная непосредственность, понимаемая им как подлинная медиальность языка, означает, что язык обладает несводимой языковой сущностью, которая и есть духовное в человеке. Духовное, по Беньямину, сообщает себя не посредством языка, а им самим, что позволяет говорить даже о своеобразной языковой магии. В языковом сообщении прежде всего выражается не что-то внешнее языку, а сам язык. Это утверждение только по видимости тавтологично. Духовная сущность вещи не является чем-то внешним по отношению к его языковой сущности, хотя и не сводится к последней. Она тождественна языковой сущности лишь постольку, поскольку сообщает о себе в языке, т. е. поскольку она сообщаема. И, наоборот, язык выражает свою сообщаемость как таковую, но лишь в той мере, в какой в нем сообщает себя духовная сущность. Именно этот смысл имеет утверждение Беньямина о том, что духовная сущность сообщает себя не посредством языка, а в самом языке.
Разумеется, статус подобной «духовности» и возможность какого-то дополнительного, сверхъязыкового доступа к нему вызывают некоторые сомнения. Но понятия духа, а тем более «Бога» не предполагали у Беньямина какого-либо приватного религиозного верования и тем более допущения персонифицированного божества. Он неоднократно оговаривался, что «существование, которое не состояло бы ни в какой связи с языком, – это идея; но такую идею не сделать продуктивной, в том числе и для тех идей, сфера которых очерчивается идеей Бога». Более того, он писал, что «наивысшая духовная сущность, такая, какой она является в религии, в чистоте своей опирается на человека и обитающий в нем язык»[15].
В конечном выражении понимание Беньямином духа (под никами «Бог» и даже «Мессия») оспаривает идею имманентности сущего, не нуждающегося якобы ни в каком медиуме. Ибо такая имманентность – всего лишь секуляризованная идея Бога, также понимаемого внемедийно, т. е. независимо от якобы сотворенного им мира и человека. Соответственно верно и обратное: духовное без выражающего его медиа ничем не отличается от образа имманентной материальности, оказываясь всего лишь его концептуальным двойником. Причина подобной ловушки в фундаментальной определенности понятийного языка онтотеологическими предпосылками, вырваться из которых не так-то просто. Материалистических и атеистических деклараций для этого явно недостаточно. Поэтому, в частности, в своем незаконченном «Труде о пассажах» Беньямин изображал отношение своей мысли к идее Бога в диалектическом образе: «Отношение моего мышления и теологии можно сравнить с отношением промокательной бумаги к чернилам. Бумага насквозь пропитана чернилами. Но если попытаться на ней что-то написать, все исчезнет без следа»[16]. Отсюда и задача – не познание данного, а раскрытие в языке, в этом архиве нечувственных и по большей части бессознательных уподоблений, следов утраченного цельного миметического опыта. Характеристики этого опыта отнюдь не сводятся у него к чувственному или интеллектуальному восприятию. Язык Беньямина – это такой альтернативный кантовско-хайдеггеровскому времени интерфейс, обеспечивающий перевод видимого в говоримое в обход онтотеологической матрицы коммуникативного языка.
Но «духовное» не сводится у Беньямина и к языку, к смыслу языковых выражений, разуму или сознанию. Оно отсылает к дорефлексивным, допредикативным видам опыта, который поздний Беньямин связывал с утраченной современностью миметической способностью, сохранившейся лишь в языке в заархивированном виде нечувственных уподоблений. Отношение между немым «языком вещей» и именующим человеческим языком, которое ранний Беньямин предлагал понимать как осуществялемый через континуум превращений перевод различных по плотности языковых медиумов, было позднее им интерпретировано как миметический процесс. Ибо «магию природы», переходящую в «магию языка» в процессе уподобления вещей «именам Бога», через их превращение в знаки для возможного считывания человеком, никак иначе не понять[17].
* * *
Способность к усмотрению подобий, по Беньямину, была основополагающей для первобытного способа мышления, всецело определяя и артикулируя соответствующий жизненный опыт. Миметическая способность выражалась в ритуальных обрядах, танце, орнаменте, чуть позже в астрологии. Речь при этом шла не о фиксации внешних феноменологических сходств, а о непосредственном соотнесении порой совершенно несхожих явлений в голове жреца или провидца, об усмотрении связей земной жизни людей с положением звезд в предсказаниях астролога, об уподоблениях микрокосма и макрокосма в движениях танцора и ремесле орнаменталиста. Мимесис представал здесь не как усмотрение созерцающим субъектом внешних подобий, а как его становление подобным – рождение человека как существа, производящего схожести и способного их запоминать[18]. Способность к усмотрению сходств и различий в исторической ретроспективе основывается, таким образом, не на соотнесении с априорным предметным тождеством или скрытым прообразом, а на даре уподобления сравниваемых предметов самому себе, которым обладал древний миметик[19].
В современном мире подобный дар встречается разве что в детских играх и в необъяснимом усмотрении физиогномических сходств. Астрология давно выродилась в род шарлатанства. Но Беньямин не был намерен воскрешать реликты магической чувственности, не утратившие, однако, доверия в массовом сознании и сегодня. Он обратил внимание на нечто иное. Та же астрология не сводится к антинаучным бредням о влиянии звезд и космических сил на повседневную жизнь людей, а указывает, пусть и в искаженном виде, на оригинальный и в рудиментарном виде сохраняющийся миметический образ мысли и жизни. Когда астролог фиксировал соответствия положения звезд и человеческих судеб, он и не претендовал на научность, а, скорее, использовал донаучный способ организации опыта, альтернативный научному. Чтение по звездам предполагало вычитывание в их сочетаниях как некоей целостности подобия с человеческой жизнью, которая также рассматривалась как целое, сопряженное с образом космического бытия в интенсивном темпоральном режиме. Беньямин полагал, что здесь можно говорить об альтернативном понимании самого человеческого духа как мгновенной репрезентации идей в потоке самоуподобляющихся вещей[20].
В «критико-познавательном» предисловии к «Происхождению немецкой барочной драмы» (1928) он выразил суть различия упомянутых способов организации опыта и генезиса духовного в емкой формуле: «Идеи относятся к вещам так же, как созвездия – к звездам»[21]. Беньямин неоднократно обращается в своих текстах к этому астрологическому образу и соответствующему режиму сочетания чувственного и интеллектуального, который в дальнейшем мы будем именовать констелляцией – альтернативным ratio способом организации и выражения опыта.
Согласно Беньямину, феномены ясновидения и чтения судеб по звездам и внутренностям животных нужно понимать не только как исток древних искусств танца и орнамента, но как вообще прообраз письма и чтения, которые одновременно являются специфическими видами телесной и визуальной памяти. В этом плане Беньямин связывал рождение человека с возможностью чтения созвездий на плоскости, что предполагало возникновение поверхности записи, экрана его миметических проекций, и соответствующего (нефонетического, доалфавитного) письма, производящего ономатопоэтические знаки. Такие знаки уподоблялись не единичным вещам, а их сочетаниям, и выражали значимые миметические соответствия на уровне почерка и шрифтового рисунка[22].
* * *
Беньяминова версия языкового генезиса намечала некий срединный путь между ономатопоэтической теорией, согласно которой существует смысловая связь между словами и вещами, и конвенциональной концепцией знаков, настаивающей на произвольности этой связи. Беньямин прослеживает исторические этапы способности к уподоблениям, в течение которых миметическая способность постепенно поглощается языком, утрачивая свой чувственный характер, но сохраняя прочные позиции в бессознательном и воображении. Однако архаический опыт уподоблений не мог не оказать влияния и на современный язык. Отвергая в этой связи конвенциональную теорию происхождения языка, Беньямин пытается найти для ономатопоэтической гипотезы новую основу и находит ее в идее нечувственного подобия. В понимании языка как «архива нечувственных подобий» Беньямином отстаивается его творческая природа, в той мере, в какой язык постепенно принимает на себя осуществляемые прежде по чувственным каналам миметические функции и пользуется их архивом, перенесенным на другие носители. Идея Беньямина состояла в том, что с преодолением магии связанный с ней способ бессознательных уподоблений как чувственного (в этом смысле – «иррационального») отношения к миру не исчезает, а лишь меняет медиума. Так он постепенно проникает в письмо и разговорный язык, существенно определяя сам способ их функционирования. Знаки языка как бы поглощают подобия мира и закрывают доступ к миру вещей, их дальнейшему производству или изменению, а подобия усматриваются теперь только на уровне знаков[23].
Таким образом, письмо понималось Беньямином как седиментация мировых взаимосвязей, противостоя различного рода натуралистическим концепциям, теориям эманации и мимикрии. В своих работах Беньямин почти не касается этой формы натурального мимесиса, только вскользь о ней упоминая. На наш взгляд, это связано с тем, что столь важная для понимания мимикрии идея приспособления к враждебной среде, предполагающая ужас перед Другим и задающая режим уподобления как господства и подчинения, была Беньямину не близка. Не разделял он и идею имманентности, не предполагающей исхода из круга природного насилия и de facto его легитимирующей. Даже в отношении отмечаемого им преимущественно бессознательного характера мимесиса он делал ту существенную оговорку, что природные соответствия и бессознательные миметические процессы имеют значение, только если стимулируют определенные способности человека, т. е. находят у него отклик[24].
Мотивом к самим занятиям проблематикой мимесиса для Беньямина послужил поиск не зараженных насилием человеческих практик, т. е. такой организации человеческого опыта, которая не сводилась бы к получению превосходства, господства и т. д. Именно в этом плане он пишет в ряде своих текстов о спасении, наступлении мессианской эпохи вслед за эпохой призраков и демонов. Усложненная метафоричность и диалектичность его письма обусловлена актуальной политической задачей – выскользнуть из тотализующего мифопоэсиса, открывая способ иного понимания истории, альтернативного его движения. Преодолеть онтотеологическую, мифологическую языковую матрицу можно, по Беньямину, только путем творческой работы с языком, ориентированной, однако, на внеязыковые цели. Свежесть языка и его действенность может быть восстановлена не в регрессивном плане поиска утраченных архаичных смыслов, а в производстве новых, с учетом его бессознательномиметической структуры, посредством которой чувственные впечатления переводятся в идеальный план[25].
На раскрытие соответствующих миметических пластов языка было, в частности, ориентировано, по Беньямину, творчество Бодлера, Пруста, Валери и сюрреалистов. Однако то же самое, и даже в еще большей мере, можно сказать об авангардном искусстве вообще и русском кубофутуризме в частности, эволюционировавшем в 1920-е годы в производственное искусство и литературу факта. В концепции «автора-производителя» Беньямин во многом следовал за идеями русских производственников, и прежде всего Сергея Третьякова, о чем у нас еще будет идти речь в дальнейшем (см. главу III; «Вместо заключения»). Кстати, Беньямин был знаком с рядом персонажей русской авангардной сцены благодаря своему посещению Москвы в 1926–1927 гг., общению с А. Лацис и Б. Райхом[26].
Чтение авангардного художественного текста, как и самое его производство, провоцирует создание новых, небывших вещей и неведомых чувственному опыту различий, направляемых примысливаемым тождеством предметного смысла. Подобная операция противостоит процедурам онтотеологического порядка. Ее открытие Беньямином идет следом за поэтическими и политическими практиками русского левого авангарда, развернувшего перед искусством неисчерпаемый горизонт развития, освободив его от обслуживания уже установившейся реальности и ввергнув последнюю в неостановимый поток становлений и преобразований.
Так, «самовитое», самоценное слово В. Хлебникова[27] не просто несет его словарное значение, но и отсылает к прежде в нем немыслимому, только записанному на его социальном теле аффективному подобию, к вызвавшей его телесной практике[28]. Поэтому воспринимаем мы его в чтении не чувственно-пассивно, а как бы повторяя шаги творческого воображения автора, приведшие к «раз-иннервированию» в тексте стоящего за письмом аффекта[29].
Субверсивный мимесис Теодора В. Адорно
Мы не претендуем здесь на анализ эстетической теории Теодора Адорно, и даже специально его теории мимесиса. Она станет для нас только поводом сказать нечто существенное о том, что вообще спрашивается, когда спрашивается об искусстве. Соответственно, у нас нет цели полемизировать с Адорно и адорнианцами. В вопросе, номинально касающемся природы искусства, важно не попасть в ловушку внешнего к нему отношения. Хотя сам факт философской рефлексии нас на это вроде бы обрекает. Но мы не вводим пока никаких специальных различий, чтобы дистанцировать эту запись от обсуждаемых в ней искусства и литературы. Искусство как внешний предмет нас вообще не интересует, хотя мы и не можем заранее претендовать на то, что без этой объективации, как бы имманентно, через письмо нам что-то удастся о нем сказать.
Претензия на понимание искусства не менее амбициозна, чем на его производство. Но мы собираемся войти в это пространство без всяких прав и заранее обговоренных полномочий, следуя исключительно желанию разобраться, где мы находимся, когда спрашиваем об искусстве. А когда мы спрашиваем об искусстве, даже не будучи художниками, мы уже оказываемся вовлечены в него, если и не на уровне создаваемого произведения, то хотя бы на уровне осуществляемого в нем опыта. Потому что искусство, хотя и неизвестно, что это такое «в себе», является социальной практикой и антропологическим опытом, к которым в том или ином плане, в той или иной мере причастен всякий член общества, частный человек, или мы сами. Именно исходя из условий собственной изначальной включенности в игру мы здесь и размышляем. Иначе чего стоили бы эти слова об искусстве как об антропологической практике и социальном опыте? Но они, несмотря на высокий уровень абстрактности и общности, не бессмысленны. Не претендуя на создание и подмену собой искусства, только они позволяют понять его произведения.
Мы попытаемся отвечать на неправильно поставленный вопрос об искусстве правильно, т. е. возвращаясь к первому тезису – через учитываемую заинтересованность в этом вопросе, а не из праздного теоретического любопытства, обрекающего нас на внешний взгляд и объективизм. Таким образом, мы спрашиваем об опыте, частью которого является искусство, который запускает искусство, производит искусство, выражается в искусстве или отражается в нем. Сам этот опыт есть опыт неизвестного, о котором известно лишь то, что он как-то касается нас самих.
Ошибкой было бы описывать только сам этот опыт, разлагая, например, искусство в его реализации, на его социальные и природные условия, художественные способности и продукты. Это действительно было бы «вульгарным социологизмом», «антропологизмом» и т. д. Ибо нет такой вещи или сущности, заранее нам известной и названной, которую мы могли бы таким образом анализировать.
* * *
Адорно, не отрицая необходимости науки эстетики, исходит в своей «эстетической теории» из тезиса загадочности искусства и нерешаемости его проблем в смысле какого-то позитивного утверждения сущности искусства или стоящего за ним опыта. Поэтому сказать, что его понимание искусства исходит из идеи негативно понимаемого мимесиса, диалектически опосредованного разумом и верно и не верно. Ибо в его описаниях эстетического и художественного всегда сохраняется некий неулавливаемый этой формулой остаток, который не сводится ни к миметическому поведению и его импульсам, ни к понятиям или идеям. Само искусство в своем автономном бытии способно превосходить возможности природы, разума, чувств и самого человека, хотя, разумеется, без них оно никогда не имело бы места.
Адорно даже замечает, что вопрос об искусстве: что это такое, вернее, зачем оно нужно, – сродни по уровню абстракции вопросу о смысле жизни. Но важно не отождествлять невозможность прямого ответа на этот последний с безответностью первого, вызванного его неправильной формулировкой. На так поставленный вопрос можно ответить только вопросом – о смысле, о том, зачем искать смысл искусства, т. е. об условиях его постановки. И не для того, чтобы ответить вопросом на вопрос, а чтобы через вопрос об искусстве действительно приблизиться к вопросу о смысле («жизни»), и наоборот. Определенный ответ («да» или «нет») здесь только уничтожил бы предмет.
Другими словами, при ответе на вопрос об искусстве мы учитываем, что оно как-то есть, например как социальный и антропологический опыт, способ жизни или бытия. Но мы не подменяем его собственным именем, в котором что-то уже раз и навсегда определено. Ибо ему нет имени, хотя и к его отсутствию оно также не сводится. Несомненно лишь то, что искусство пытается осуществлять этот опыт и сам этот опыт отчасти осуществляется в нем. Отвечать, следовательно, мы можем только из собственной включенности в его «что», объявляя себя ответственными за исход объявленной игры. Ибо мы не можем исключить себя из нее, если все еще хотим отвечать именно на поставленный выше вопрос, а не на какой-нибудь другой. Но именно с этой включенностью прежде всего и следует разобраться. За вопросом об искусстве скрывается извечный вопрос о человеческом в человеке, о том, что делает его понятным самому себе и выносимым.
* * *
Адорно анализирует искусство с самых различных сторон: со стороны природы и социально-политической реальности, из антропологического опыта, человеческих способностей восприятия и художественного производства, со стороны формального устройства самих произведений и оформляемого ими содержания. Исследуемый феномен – это всегда результат взаимоналожения различных пластов или страт, не сводимых только к одной способности или точке зрения.
Понятия мимесиса, подражания, уподобления и копирования находятся у него в сложной взаимосвязи со своим «другим»: мимесис и рацио, мимесис и выражение, технический прием («Funktion der Verfahrungsweise») и миметическое поведение и т. д. Для подхода Адорно характерно, что он не противопоставляет друг другу художественный опыт, его осмысление и само мышление. У него речь всегда идет о диалектической конструкции, в которой взаимодействуют разум, связанный в частности с открытием новых художественных приемов, и мимесис, или миметическое поведение, связанное с чувственно-психической сферой, психомимикрией субъекта по отношению к миру. Миметическое поведение берет свое начало в архаических практиках уподоблений вещам, действиям и отношениям природы.
Согласно Адорно, в основе подобного уподобления – природный страх и трепет первобытного человека, но не проекция его «божественной» субъективности на источники ужаса. Скорее, это источник субъективности самого божественного. Квазимарксистское переосмысление интуиций Р. Кайуа[30] позволило Адорно сформулировать тезис, принципиально недоступный консервативному типу мышления: «Вопль ужаса, который вырывается при встрече с непривычным, становится его именем. Им фиксируется трансцендентность неведомого по отношению к известному и тем самым святость ужаса»[31].
Определение мимесиса у Адорно выглядит достаточно традиционно: «Неумирающий мимесис, внепонятийное родство субъективно созданного с его “другим”, существующим само по себе, не созданным, определяет искусство как форму познания, и в этом смысле как явление “рациональное”»[32]. Но он придает ему совершенно необычный смысл, обусловленный новыми конфигурациями, в которые вступила неустранимая миметическая способность в истории. Рацио и мимесис постепенно обретают в современности черты друг друга, как бы обмениваясь местами. Мимесис образует с рацио диалектическую пару: разум становится миметичным, мимесис же получает способность к рефлексии и отрицанию. Как и у Беньямина, мимесис у Адорно постепенно приобретает нечувственный характер, нерасторжимую связь с разумом, который, в свою очередь, начинает производить подобия, выраженные в художественных (технических) приемах. Существенно здесь то, что у мимесиса соответственно изменяется и предмет: место пугающих древнего человека сил природы все больше заступает запугивающая и уничтожающая исторического человека социально-политическая реальность, структурированная аппаратами власти и идеологии. В результате меняется и характер самого мимесиса: если раньше он служил гармонизации отношений человека с природой, ответом на ее непредсказуемость и хаос, то теперь как бы вошел в модус критики социальных практик и установлений.
Здесь требуются некоторые уточнения. Изменение миметического отношения к реальности в искусстве Адорно связывал с историческим процессом расколдовывания, десакрализации и рационализации мира культурными усилиями человечества. Но ход этого процесса нелинеен и неоднозначен. Основная мысль «Диалектики Просвещения» Адорно и Хоркхаймера состояла в том, что просвещенческий проект рационализации скомпрометировал себя в идеологических формах государственного разума. Только искусство в этом смысле сохранило, по Адорно, истину человеческого, поддерживая духовный процесс путем показа иррациональности происходящего рациональному по форме государственному разуму. И в этом плане оно выступает у Адорно антитезой обществу, отрицанием принятых в нем иррациональных и прямо абсурдных отношений и ценностей, т. е. «другим» власти и политики как рационального осуществления иррациональных целей. Как пишет Адорно, «искусство представляет истину в двойном понимании этого слова: в том, что оно сохраняет скрытую от мира рациональностью картину ее целей и устремлений, и в том, что искусство изобличает реальную суть иррациональности этих целей – ее абсурдность»[33].
Однако сложность состоит в том, что само искусство может существовать, только проецируя себя на эти же самые феномены, пусть и в негативном режиме. По сути, Адорно лишает мимесис спонтанности, опосредуя, а вернее, перепоручая его не чувствам, а разуму. Правда, речь идет о рациональности особого рода – эстетической, в свою очередь, опосредованной чувственностью. Поэтому предположение, что мимесис для Адорно остается чувственной реакцией на ужас, не точно, – скорее, это результат критической работы мысли. Здесь нельзя не учитывать, что появление искусства, а соответственно, миметическое поведение Адорно, как и Беньямин, связывал с процессами секуляризации в обществе, исторически выводя его из магических ритуальных практик. Упрощением было бы считать в этой связи подход Адорно психологистическим и иррационалистическим. Адорно смотрел на проблему негативности, скорее, метафизически, чем психологически[34]. Известно также его критическое отношение к психоанализу именно в связи с темой генеалогии художественных образов[35].
Мимесис насилия и жертвенность текста: позиция Рене Жирара
Как у вас обстоят дела с «козлами отпущения»?
Концепция насилия Рене Жирара[36] исходит из важного в пределах нашей проблематики понятия миметического кризиса, связанного с утратой баланса уподоблений и различий как бессознательных механизмов, контролирующих экономику насилия в обществе. Миметический кризис выливается в жертвенный кризис, когда избираемые в прежней миметической логике искупительные жертвы перестают отвечать достаточно противоречивым требованиям сходства и различия с субъектом, которого они призваны заместить, искупая чужую вину. И насилие выплескивается наружу, уравнивая правых и виноватых в потоках безразличной смерти, грозящей коллапсом, правда, лишь достаточно небольшим, закрытым сообществам. Но и в нашем мире в относительно локальных зонах возможность такого системного сбоя все еще сохраняется.
Насилие выступает в этой концепции в качестве универсального объяснительного принципа всех общественных практик и институтов, включая литературу и искусство. Хотя, пожалуй, именно с ним самим стоило бы здесь разобраться в первую очередь. Основной тезис Жирара звучит одновременно и банально, и интригующе: «В начале было насилие». И это практически единственная его идея, все остальное – это описание его инфраструктуры, механизмов трансформации и контроля в первобытных сообществах. Прежде всего, это религиозные, ритуально-жертвенные механизмы, функционирующие вокруг жертвы отпущения и стоящего за ней единодушного решения общества придать ее смерти, якобы только и позволяющие разорвать грозящий самому этому обществу порочный круг мести.
Различия, о которых в данном случае идет речь, не сводятся к экономическим или социальным рангам. Жирар настаивает на более изначальном слое подобных различений правого и виноватого, жертвы и преступника, причем, как это ни странно звучит для современного уха, в пользу последних. В ритуальной системе жертвоприношений остановка насилия происходит не через наказание виновного, а на уровне выбора очистительной жертвы, не виноватой ни перед кем.
Собственно миметический кризис наступает в тот момент, когда насилие начинает подражать себе самому, когда устраняется его направленность на иное. Объект, в принципе, становится не то чтобы безразличным, скорее, он уравнивается со всеми иными возможными объектами насилия. Насилие лишается оснований, потому что все члены общества имеют одинаковые основания для его применения, вернее, не нуждаются ни в каких основаниях. Но главное – при жертвенном кризисе, по Жирару, исчезает различие между жертвой прямого насилия и очистительной жертвой, нечистым и священным насилием, и оно разливается в общем неразличимом потоке.
На самом деле здесь Жирар вынужден признать, что жертвенные ритуальные механизмы ненадежны, и именно потому, что освящаемый ими исток находится в забвении и скрывает свою подлинную природу – совершенное и перманентно совершаемое в человеческом обществе насилие. Логика избираемых жертв, которая должна соответствовать двум противоречивым условиям – в чем-то походить на замещаемый объект и одновременно быть ему иным, чтобы обмануть призраков мести и отвести насилие в другое русло, предстает у Жирара скрытой логикой самой истории культуры.
Но ведь этнографический факт двойного кризиса, которому Жирар посвящает целую главу книги «Насилие и священное», предполагает единственное объяснение: эксплуатируемые виды уподоблений как способы понимания мира средствами мифологии и религии оказываются нерелевантными тем явлениям, объяснению которых вроде бы призваны служить. Можно даже предположить, что насилию они вполне адекватны, выступая как его агенты, но есть что-то по ту сторону самого насилия, что заставляет формы, в которых оно исторически представлено в культуре, постоянно трансформироваться, выступать в несобственном виде, в фигурах неузнавания, замещения, а в конечном счете и вовсе разрушаться.
В актив Жирара следует отнести способ имманентного рассмотрения этих механизмов вытеснения и сокрытия насилия в культуре и общественном сознании, из ловушек которых, с его точки зрения, не может выбраться и большинство современных научных теорией. Он обнаружил в них изощренную символическую игру уподоблений, замещений и различий, позволяющую якобы держать насилие под контролем, запирая его в системе запретов, конвенций и жертвенных формул, но никогда не избавляясь от него полностью.
Согласно Жирару, мифы выполняют функцию консервации и контроля насилия, но, выступая частью ритуала жертвоприношений, ничего не знают о его источниках и смысле. Именно поэтому контроль этот ненадежен, а мифы, как зашифрованные законы-загадки, как бы дважды скрывающие смысл произошедших в прошлом чудовищных событий, постепенно приходят к символической инфляции. Короче говоря, мифы не могут надежно предупреждать периодические паводки насилия. Они способны лишь временно отвлечь внимание заинтересованных сторон от реальных причин происходящего. Причины жертвенных кризисов, которые миф пытается заклясть в чисто номинативном плане восстановления различий путем жесткой трансфигурации и реструктурации приведшего к ним состояния дел, нужно, следовательно, искать не в самом насилии как некоей безосновной субстанции, а в структуре общества, которая заставляет его воспроизводиться, несмотря на все предосторожности или даже благодаря им.
* * *
Возможность такого системного сбоя сохраняется и в современности, хотя и в относительно локальных зонах. В «Козле отпущения» Жирар переходит к более современным историческим сюжетам, связанным с проявлениями коллективного насилия. На формальном уровне он пытается обосновать здесь довольно своеобразную, квазиструктуралистскую версию объяснения воспроизводящихся в различных обществах гонений на избранных жертв. Своеобразие ее состоит не только в том, что автор настаивает на единстве структуры гонений в мифах, трагедиях, священных и профанных «гонительских» текстах, повествующих о преследованиях, «разоблачениях» и убийстве неких «козлов», псевдовиновных в традиционных социальных кризисах – чуме, голоде, депрессиях, разгуле преступности и даже революциях. Более существенно, что Жирар не разделяет характерную для структурализма идею самореферентности подобных текстов, отсылая (несмотря на единство их структуры и даже благодаря ему) к некоему вытесненному событию, которое, даже несмотря на его обнаружение, указание на него как на коллективное насилие, остается не понятым и не принимаемым научным сообществом, интеллигенцией и широким общественным сознанием.
В «Козле…» навязчивым примером такой структуры выступает текст куртуазного поэта XIV в. Гийома де Машо «Суд короля Наваррского», повествующий о чуме («черной смерти») во Франции 1349–1350 гг. Открытие, которое тщательно аргументирует здесь Жирар, состоит в ретроспективной проекции на уровне структурного принципа, обнаруженного им в этой поэме оправдания и даже провоцирования реально произошедшего в те годы холокоста, на всю мифологию и ряд современных гонительских текстов и дискурсов.
Вопросы Жирара: стоят ли за гонительскими репрезентациями реальные гонения, и участвуют ли авторы гонительских текстов в этих гонениях, влияют ли на них? Ответы положительные. Заметить это мешают искажения, которые возникают при такого рода гонительской репрезентации. Ибо мифы историчны, а носители мифологического сознания склонны постепенно вытеснять следы коллективного насилия, маскировать убийство рассказами о ритуальных жертвоприношениях богам и о самопожертвованиях богов[37]. Гонительские искажения сакрализуют жертвы, зачастую превращая их в невинных богов. В приводимых примерах мифов (греческих, ацтекских, скандинавских, ветхозаветных) Жирар убедительно обнаруживает за мнимыми самопожертвованиями таких богов признаки виктимного отбора, следы принуждения и коллективных убийств. Парадоксальная природа «козла» совмещает в себе проклятие и благословение общества. Мифы одновременно трепещут перед его могуществом, сакрализуют его, но и вешают на него всех собак, то и дело приговаривая к смерти. На этом основании Жирар приходит к скандальному выводу: мифы представляют собой замаскированные гонительские тексты, и в нашем восхищении ими присутствует не изжитая в современной культуре жажда жертвенной крови.
Но наиболее любопытным у Жирара представляется интерпретация им трагедии как одновременно реакции на жертвенный кризис и провокатора этого кризиса. В отличие от мифа, у которого она, правда, берет все сюжеты и сам язык, трагедия «дует на остывшую золу жертвенного кризиса, <…> заново сшивает разрозненные фрагменты исчезнувшей взаимности <…> заново уравновешивает то, что вывели из равновесия мифологические сигнификации <…> поднимает вихрь взаимности насилия; различия плавятся в этом горниле, как они некогда плавились в кризисе, подвергшемся затем трансфигурации в мифе»[38]. Но и в трагедии, также обреченной на язык различий, насилие замещается всевозможными формами его миметических двойников, например, в фигурах инцеста, в образах брато– и отцеубийц и т. д. По Жирару, трагедии не удается полностью деконструировать миф, отчасти поддерживая его гонительскую логику. По Жирару, этого удалось добиться в истории только Евангелиям (sic!).
* * *
К несомненным достоинствам работ Жирара принадлежат тонкие наблюдения в отношении повторяющихся, ключевых мотивов в структуре древнегреческих трагедий, выводящих в них на свет репрессивное первособытие. Но именно при анализе символических структур, превращающих трагедию в частичную альтернативу мифу и делающих соответствующее мышление исходом из насилия, Жирар вступает в противоречие с политическими предпосылками собственного дискурса.
Опасность редукционизма и эссенциализации насилия у Жирара, неизбежно ввергающая его в круг самообоснования, состоит в приписывании человеку априори «злой природы». Это превращает любые наши попытки объяснять самих себя в изощренный самообман – в форму замаскированного насилия, оправдывающего и скрывающего перманентно и бессознательно осуществляемую нами «волю к власти». Этот парадокс, который стал своеобразным итогом философии XIX в., Жирару, очевидно, разрешить не удалось[39], как еще ранее не удалось это сделать ни Ф. Ницше, ни К. Шмитту, ни сообществу «Акефал»[40].
Хотя в «Козле…» он и попытался это сделать, обратив свой способ анализа на евангельские тексты, но явно поспешил найти в них эликсир от гонительского синдрома. Поэтому дальше главы X его интересной книжки нам за ним проследовать не удалось. Этот ход с христианством слишком подозрителен, ведь, в отличие от мифологии, в пользу истин Евангелия от собственных научных принципов и здравого смысла готовы отказаться далеко не только этнографы, но и идеологи, и политики.
Проблема состоит в том, что, рассматривая насилие как первичный социально-антропологический феномен, Жирар невольно приходит к консервативным выводам: единственное спасение человека от самого себя он видит в трансформирующихся в истории формах жертвенного ритуала, религии, права, судебной системы и т. д., поддерживаемых идеей сильной централизованной власти, якобы только и гарантирующей своими «учредительными» решениями[41] их весьма относительные успехи по обузданию этого «монстра». Люди оказываются повязаны в этой логике своей якобы неутолимой жаждой крови и неизживаемой животной агрессией, превратно истолкованной доверчивыми читателями Конрада Лоренца. Они становятся как бы заложниками собственного насилия, приобретающего форму неискупимой вины и долга.
Эта логика позволяет Жирару уличать в недооценке и забвении насилия любые попытки культуры обмануть его, переиграть или изжить. Насилие превращается у него в аналог «бытия» у Хайдеггера[42]. Любые попытки помыслить альтернативный насилию источник антропогенеза отвергаются. Идея жертвенности самих литературных текстов, которая на самом деле относится к наиболее удачным интуициям Жирара, им самим отклоняется как всего лишь бессознательное потакание моделям жертвоприношения. Знание, по Жирару, сводится к принятию страшной истины о самих себе и сознательному, я бы сказал циничному, использованию уверток для ее преодоления. Но именно в метафизике и герменевтической философии, в отношении которых Жирар не скупится на иронические филиппики, присутствует идея разрыва любой, не только мифической, психической и социологической, континуальности, связанная с осознанием человеком собственной конечности. Именно эта, кажущаяся позитивистскому типу мышления слишком абстрактной, идея смерти остается более верным мотивом трагического поэта в его противостоянии действительно недооцененным литературоведами и этнографами практикам насилия. А «великолепное изобилие» мифологии, религии и трагедии, которое Жирар столь остроумно, но неубедительно пытался дезавуировать[43], связано не только с драматическим нарративом, но и с такой трагической альтернативой насилию, как любовь. Как минимум, бедновато было бы, к примеру, интерпретировать самопожертвование Ромео и Джульетты в контексте кровной вражды Монтекки и Капулетти.
Однако повторимся: его впечатляющий сравнительный анализ древнегреческой трагедии и ряда мифологических и библейских сюжетов, как и смелая интерпретация на его основе природы самой литературы, может с учетом упомянутых противоречий открыть плодотворное направление антропологических исследований на совершенно неожиданном в этом контексте материале – русском авангарде. Ибо именно в русской авангардной литературе 10–20-х годов XX в. трагедия возрождается как жанр, выполняя близкие описанным Жираром культурные и социальные функции, но добившись на пути проблематизации и изживания насилия более значимых результатов[44].
Писать в пользу революционного народа: Жиль Делез
Противопоставление Ж. Делезом подражания становлению не должно помешать нам увидеть в его понимании литературы своеобразную версию мимесиса. Он выступает только против узкого его понимания, ориентированного на цельные объекты представления. Его критика подражания, имитации и даже воображения связана с отказом от идеи субъекта, который будто бы придает условную художественную форму материи пережитого («жизненного») опыта[45]. Отказ Делеза от любой целостной формы реальности, которой субъект мог бы подражать, обусловлен тем простым наблюдением, что литература как процесс письма, скорее, прорастает в незавершенном и живет этой незавершенностью, нежели берет готовые образцы из действительности. Литература ничего не может принять в себя без изменений, она все должна переработать или вырастить сама, зачастую впервые. Кроме как в становлении и осуществлении прежде не бывшего, только возможного или переживаемого заново она не может состояться. В качестве письма она сама является процессом, неотделимым от реальных становлений, сквозь/через которые «прорастает»[46].
Литература не может ориентироваться на уже доминантную в культуре форму выражения – человека-белого-мужчину-гетеросексуала и т. д., но может принимать в себя уклоняющиеся от такой формализации становления – женщиной, животным или молекулой. Правда, «человек» в литературе тоже может претерпевать становления, но не в той форме, которая доминирует на сегодняшний день в общественном сознании, а в полуразрушенном виде, более соответствующем, кстати, реальному положению дел. «Стыдно быть человеком, – часто повторял Делез слова Примо Леви и добавлял: – Есть ли лучший повод для письма?»[47].
Когда Делез пишет о становлении, он, разумеется, не имеет в виду реальное или воображаемое превращение автора-художника или его персонажа в «женщину», «ребенка», «негра» или «животное». Такая альтернатива мимесиса была бы действительно абсурдной. Он говорит о «становлении женщиной» в самой литературе, в письме, в изобретаемом ею языке и синтаксисе. Потому что вне ее (в обществе, в культуре) женщина еще не обрела полноценной символической формы, способной сравниться, например, с формой «мужчина». Поэтому ей по факту, кроме образов мужского желания, даже и нечему подражать. В этом смысле Делез пишет о «недооформленности», о состоянии «на полпути» к целостной форме «женского».
Но в какой-то миметической близости с женщиной этот род становления все же должен находиться. Образ литературного письма должен разделить «судьбу женщины», стать неразличимым с ней. В этом смысл подобного становления. Мимесис распространяется здесь, скорее, по горизонтали, нежели по вертикали. Делез говорит об обнаружении в литературном образе зон близости со своим прототипом (если он вообще существует), а не о заимствовании его готовой формы, о неразличимости образа такого становления и того, чего он образ, ввиду элементарного отсутствия чего-то, что могло бы выступать его прообразом[48]. Персонаж, например, становится неразличимым с жуком в себе, а не с каким-то реальным жуком, претерпевая таким образом двойное становление человеком-жуком и жуком-человеком, как Грегор Замза у Кафки.
Именно поэтому литературные образы сугубо индивидуализированы. Это не «типы», а выделенные из популяции единичности, «сингулярности». Становления таких единичностей в литературе осуществляются, по словам Делеза, «между» или «среди» подобных себе (женщины между женщин, животное среди других животных), а не через идентификацию с кем-либо в действительности. И индивидуацию свою они получают не через формальные признаки тождественного самому себе объекта, а, скорее, через его саморазрушение, потерю, распадение его цельности. Таким образом, литературный мимесис, скорее, разрушает цельное тело, чем подражает ему. Мимесис понимается Делезом как становление смертным ради поиска возможностей для жизни, заключаемой в тюрьму самими людьми. Ибо литература дает язык не бессмертному, а живому, не совершенному, а конечному[49].
Перестает ли пловец у Кафки быть чемпионом, когда выясняется, что он не умеет плавать? Почему это не происходит в литературе, но легко обнаруживается в легкой атлетике? Ответ напрашивается сам собой: потому что это абсурд. Ответ как будто верен. Делез поддакивает: «Литература – это бред». Но это бред самой жизни, самой истории, наконец, той же атлетики – легкой или тяжелой. Ведь литература, скорее, диагностирует и врачует безумие, нежели его производит. В этом смысле писатель пишет не от своего «Я», своих воспоминаний, неврозов, «тяжелого жизненного опыта» и т. д., а «за», «вместо» или даже «в пользу» тех, кто лишен такой возможности по факту своего социального бытия. Это может быть и несуществующий еще народ (хотя и не оттого, что он не существует, а оттого, что только становится), реально репрессированная раса, или… «умирающие телята»[50].
Здесь важно понять, что писатель, согласно Делезу, пишет не от своего лица, но и не от лица народа, понимаемого как национальная или географическая общность, призванная властвовать над миром. Он пишет от третьего, «среднего» лица[51]. Но это не какое-то абстрактное лицо. Это существующий в теле самого писателя угнетенный и задавленный «малый народ», вписанный, по емкому выражению Делеза, в атомы писателя и рельеф самой литературы как процесс становления этого народа революционным.
Разумеется, отношение общего и единичного, коллективного и индивидуального в литературе необходимо еще прояснять на уровне анализа конкретных художественных произведений. Делез ссылается на Мелвилла и Кафку, у которых литература понималась «как коллективное высказывание малого народа или всех малых народов, которые находят выражение только в писателе и через него». Сам Делез понимает это отношение как сложное взаимодействие языка, литературы, социального и личного опыта.
Аргументация Делеза изобилует яркими метафорическими образами и спекулятивными оппозициями, иногда сбивающими с толку. Что не означает, разумеется, что она не строга или недостаточно последовательна. Так, Делез говорит о литературе как о «коллективном ансамбле высказываний», только отсылающем к своим индивидуальным агентам – авторам. Но при этом, как мы уже говорили, квалифицирует соответствующие высказывания как «бред», преследующий человеческую историю. Противопоставление этого бреда лепету психоаналитического пациента о «мамочке и папочке», к критике которого обращается Делез, не делает его веским свидетельством в пользу коллективистской природы бреда.
Согласно Делезу, литература изобретает свой язык на границе двух типов бреда, понимаемых в качестве видов коллективного высказывания. Это бред рессентимента и бред революции: «Бред – это болезнь, болезнь по преимуществу всякий раз, когда он возвеличивает претендующую на чистоту и господство расу. Он является мерой здоровья, когда вызывает в мыслях угнетенную расу бастардов, которая непрерывно волнуется под сапогом господства, сопротивляется всему, что подавляет и порабощает, вырисовывается во впадинах литературы как процесса»[52].
И та и другая «раса» вписана, как хорошо известно, в «рельеф литературы». Есть поэты-фашисты, есть поэты-коммунисты, поэтов-либералов народы любят меньше. Но бред как болезнь господства может только прервать процесс, остановить становление, когда, смешиваясь с «бредом незаконнорожденности», он порождает фашизм. Делез обыграл здесь известную формулу В. Райха о наложении в фашизме революционной по природе эмоции на реакционные социальные идеи. «Незаконнорожденность», указывающая, по Делезу, на движение или перемещение задавленных и угнетенных рас-изгоев, присутствует в фашистах и связывает их через этот канал с коммунистами (не позволяя договориться с либералами).
Но именно через эту «незаконнорожденность» поэт должен добраться до фашизма и противостоять ему и в себе, и в своем народе. Он должен изобрести несуществующий народ, лишенный желания господства, но не утративший желания быть свободным в сообществе незаконнорожденных[53]. Изобретение народа, по Делезу, означает прежде всего изобретение языка, языка нового, «уклоняющегося от доминантной системы», становящегося другим, почти иностранным в рамках материнского. А значит, и изобретение новых форм общения и общности. Это изобретение Делез мыслит не как производство неологизмов, а как творение нового синтаксиса и стиля. Но это невозможно, если не деконструировать материнский язык и не изобретать новый. Делез выделяет и третий аспект: «…иностранного языка не выдолбить в собственном языке без того, чтобы при этом не зашаталась, в свою очередь, всякая речь, без того, чтобы она не была доведена до предела, до некоей внеположности, или обратной стороны, состоящей из Видений и Слушаний, каковые не принадлежат уже никакому языку»[54].
Нужно развоплотить слова и языковые конструкции с застывшими значениями, разложить их на звуки и зрительные впечатления, но только для того, чтобы пробиться к утраченному в них смыслу, а не наслаждаться их индивидуальным потреблением на фоне праздно объявленной бессмысленности жизни[55]. Реальный угнетенный или «изобретаемый» народ не обязан знать, что писатель должен делать со своим языком, чтобы дать ему слово, а не «мычание». Как, впрочем, и самого писателя, согласно А. Платонову, должны заботить не парадоксы письма и поиски оригинального стиля, а нечто совсем другое[56].
Известно, что Делез недолюбливал авангард. Но только потому, что был плохо знаком с русским кубофутуризмом и производственным искусством. Практически все, что он говорит о языке важного, можно полностью отнести к литературе В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Платонова и др. Но и более того, нам даже не нужен Делез, чтобы понимать произведения Хлебникова или Платонова. Ибо это более чем примеры «иностранного» языка в родном и нового стиля, выворачивающего язык наизнанку, за пределы всякого синтаксиса. Это прежде всего язык не существовавшего прежде народа, который впервые заговорил через свою литературу и искусство. Ибо, чтобы дать угнетенным слово, язык сам должен быть выведен из угнетения, чтобы быть не языком угнетенных, а становящимся языком их освобождения.
Внутри– и внепроизведенческий мимесис: версия Валерия Подороги[57]
В.А. Подорога исходит из понимания литературы как «языковой тотальности чувственного опыта образов»[58]. Антропологический анализ литературных текстов противостоит здесь традиционным методам литературоведения, которые усматривают в искусстве лишь виды подражания образцам так или иначе понимаемой реальности, или фундированную мифопоэтической структурой комбинацию условных знаков, образующую мир фиктивных образов и персонажей. Литература, понимаемая как тотальный социальный и культурный факт (Э. Дюркгейм, М. Мосс[59]), не сводится к представлению об отдельном жанре искусства, но предстает, по словам Подороги, неограниченной областью формирования чувственно-телесных миметических практик. То есть она прежде всего является опосредованной работой с языком, выражением исторически изменяющегося социального и антропологического опыта, который отливается в определенные способы поведения и общественные отношения той или иной эпохи. Помимо функции накопления общественно полезного знания, литература выступает индикатором существующих в обществе противоречий и обратно воздействует на периодически возникающие в нем кризисы. Литература предстает здесь как трагическое видение эпохой самой себя, мотивированное осознанием ее границ и поиском возможностей выхода за их пределы.
Так понимаемая литература не может быть сведена к отражению «большой» физической или даже метафизической реальности, но становится своеобразной произведенческой реальностью тогда, когда оказывается чувственно доступной в художественных образах. Очевидный на первый взгляд разрыв между реальной чувственностью как восприимчивостью нашего тела к внешним раздражителям и чувственностью литературной – ощущениями, испытываемыми при чтении и эстетическом восприятии произведений искусства, переходим здесь в обе стороны. Более того, именно художественно организованные знаки-образы способны взломать нашу психическую защиту, уже приспособленную к определенному порогу боли и нормализующую его на уровне повседневного чувственного восприятия, телесного опыта и организации обыденного языка. Задача антропологического изучения литературы в этом смысле состоит в анализе форм бессознательного нечувственного мимесиса, обеспечивающих перевод общеупотребительного языка на язык художественных образов и обратно.
Подобный анализ позволяет обнаруживать в каждом историческом времени скрытые способы уподоблений и замещений, позволяющих одним слоям общества контролировать циркулирующие в нем потоки насилия через язык власти, а другим – раскрывать и оспаривать этот язык средствами языка искусства и политической борьбы.
* * *
Подорога рассматривает мимесис в двух принципиально различных, но неразрывных планах. Мимесис внешний представляет собой общую для искусства стратегию отражения и выражения в языке, инсценировки и симуляции реальности. В арсенал этого мимесиса-I могут входить такие художественные средства, как фабула, сюжет, идея, план, герои, персонажи, нарративная конструкция и весь набор риторических приемов и поэтических тропов. Но вся эта машинерия текста еще не создает художественного произведения: «Произведение строится на условиях ему имманентной и разветвленной миметической практики, но внутрипроизведенческой (в оппозиции к внешнему подражанию)»[60]. Художественная форма возникает не по образцам осуществляемого автором в поле «большой» культуры и языка аристотелевского мимесиса как подражания образам-действиям реального мира, а, скорее, вопреки сознательному авторскому желанию чему-то здесь «подражать». Проблема состоит в том, что, пытаясь перевести свои впечатления на доступный восприятию другого язык, автор сталкивается с порогами собственной чувственности, антропологическими ограничениями или, наоборот, с избыточностями, на кромках которых формируются образы его идеальной телесности, которым он в конечном счете и подражает как себе-другому. Внутренний или обращенный мимесис является, таким образом, чуть ли не вынужденной защитной реакцией автора на случайно открывшийся ему на собственном теле разрыв. Он ощущается им одновременно и как часть бесконечного и хаотичного мира, и как присвоенная «я-чувством» ограниченная телесная собственность. Функцию разрешения соответствующего миметического конфликта берет на себя язык (обладающий собственным миметизмом), экспериментирование с которым автор только и может себе позволить.
Поэтому главной характеристикой мимесиса-II является практика «нечувственного уподобления» (В. Беньямин) как символического восстановления через особым образом организованный язык утраченного современным человеком чувственного единства, которое обеспечивает взаимодействие частей его от рождения разорванного тела как одновременно природного и общественного, коллективного и индивидуального и т. д.
Вопрос только в том, как движутся образы этого «третьего тела» – от внутреннего к внешнему или наоборот. В зависимости от ответа мы будем иметь дело с литературой «большой» – Пушкина, Толстого, Солженицына – или с литературой «малой» – Гоголя, Достоевского, Шаламова.
Наш подход к проблематике коллективной чувственности и телесности в русском левом авангарде во многом следует методам аналитической антропологии, разработанным В.А. Подорогой на избранном материале русской литературы конца XIX – начала XX в.[61], но не без критической коррекции базовых онтологических и социально-политических установок. Когда мы обратились к концептуальным источникам темы мимесиса у Вальтера Беньямина и Теодора Адорно, выяснилось, в частности, что бессознательный характер мимесиса, на который указывал в своих текстах Беньямин, был обусловлен не страхом первобытного человека перед природой или «ничто», а, скорее, ужасом перед историческим социусом. Другими словами, пресловутый Angst всегда уже был опосредован коллективными практиками насилия, в которые уже вплетались или которым противостояли соответствующие художественные стратегии – мифопоэтическая или трагическая, подражательно-изобразительная или миметически-жизнестроительная, идеологическая или критическая. И образ ужаса не обязательно замещался здесь на контролируемый субъектом образ-фетиш (как это понимал Фрейд), с помощью которого можно было избавляться от собственных страхов, одновременно запугивая других[62].
Имманентная политичность искусства
Классическое философское определение того или иного явления грешит своего рода одержимостью тавтологией. Философия берется выявлять сущность явления, отличающую его от всех других возможных сущностей, на основании предикатов, свойственных исключительно ей. Как если бы в реальности существовали такие автономные единичности. На деле имеют место сложные переплетения различных сторон явления, позволяющие отдельным вещам заступать места друг друга, меняться этими местами и, соответственно, сущностями – становиться иными себе. Искусство производит модели подобных замещений – тропы, с помощью которых достигает сущности феноменов не через применение родовидовой логики, перечисление специфических признаков или усмотрение сущности созерцаемой вещи, а через ее обнаружение и высвечивание в ином, актуально невоспринимаемом образе. Упомянутые отношения-замещения не подменяют одно явление другим, а лишь означают, что смысл вещи никогда не сводится к самой этой вещи, как и не пребывает в каком-то идеальном месте. Он всегда в другой вещи как ее собственной возможности, через которую она только и существует, обретая уникальные смысловые очертания на границе иного.
Так, смысл искусства расположен в иноприродном ему топосе – политическом. Искусство в этом смысле всегда политично, даже когда оно намеренно дистанцируется от публичной институциональной политики. В свою очередь, и политика охотно использует для своих целей эстетический арсенал. Это не значит, что можно обойтись политикой, сводя к ней всякое искусство как всего лишь идеологическое средство. Как и обратно – нельзя подменять борьбу человечества за свой целостный образ, за реализацию сущности человеческого эстетической и знаковой игрой. В этом смысле автономность искусства можно понимать не как его иноприродность миру, а, напротив, как условие его воздействия на социально-политическую действительность.
Подобным образом понимал отношение искусства и общества Теодор В. Адорно: «Нерешенные антагонистические противоречия реальности вновь проявляются в произведениях искусства как внутренние проблемы их формы. Именно это, а не влияние материально-предметных моментов определяет отношение искусства к обществу. Напряженные взаимосвязи различных позиций, рождающие новые импульсы, кристаллизуются во всей чистоте в художественных произведениях и благодаря их эмансипации от реально фактического фасада внешнего мира затрагивают непосредственно самую суть дела»[63].
Искусство обладает собственным политическим измерением и имманентными критериями «художественности», которые не являются ни чисто эстетическими, ни узкополитическими. Ибо они происходят не из политического дискурса, и вообще не из дискурса, а следуют из политических задач искусства как социального опыта труда, эксплуатации и насилия, которому в той или иной мере, по факту жизни в обществе оказывается причастен любой художник. Вообще тезис автономности искусства имеет смысл только в плане его независимости от «политического» как якобы такого же однородного, замкнутого на себе феномена. В исторической реальности сферы политики и поэтики, скорее, анаморфичны. Понимание политики как эксклюзивно автономной социальной практики ведет только к дегуманизации ее целей. А ведь результаты социальной борьбы должны в конечном счете совпасть с целями подлинного искусства. Даже если до этого «конечного счета» никто никогда не досчитается.
Но что такое «подлинное искусство»? Согласно этимологии слова «подлинное» означает «полученное под линьками». Голландские линьки – это применявшиеся для телесных наказаний еще в XIX в. в России плетки с узелками. Добытое под линьками признание и считалось «подлинным». Нас здесь не интересует вопрос, насколько можно было доверять «истинам», открытым таким образом. Мы хотим только указать на выраженную в языке смысловую связь когнитивных и художественных практик с практиками насилия, которые человечество издревле применяло в отношении самого себя. Мы, конечно, не заходим так далеко, чтобы истолковывать, например, способность насилия смещаться с одного объекта на другой как прафеномен поэзии, бессознательный механизм производства тропов и т. д. Но какая-то связь здесь имеется.
* * *
Следует воздержаться от избыточного теоретизирования, сопровождающегося незаметной подменой рассматриваемого явления его понятийными психоаналитическими субститутами, как это получилось, например, у Юлии Кристевой[64]. Выводя литературу из испытываемого людьми отвращения, страха и ужаса, которые художник отклоняет в языковой символизации, она невольно подменила причины этих аффектов соответствующими понятиями[65]. Но «страх» и «ужас» не существуют «в себе», в виде понятий. Поэтому выводить произведения искусства из отвращения и ужаса все равно что пытаться выяснить, чем занимается стоматолог, через изучение зубной боли. Подобно тому, как зубной врач лечит не боль, а зубы, художник создает свои произведения не для того, чтобы всего лишь отвлечься от какого-то абстрактного ужаса или субъективного испуга, а чтобы вскрыть художественными средствами их причины и найти средства их преодоления.
Можно, конечно, сказать, что стоматолог излечивает и зубную боль, но это будет всего лишь метафорой. Стоматолог лечит зубы, боль он вылечить не может. Кстати, боль в стоматологическом кресле только усиливается, а проходит позже, и во многом от самого человека зависит, будут ли и дальше болеть его зубы.
То же и с искусством. Художник выявляет возможные источники страха, но не путем эстетизации и концепирования самого этого чувства, а через разыгрывание условий его возникновения, их символической деконструкции и дальнейшего устранения. Кстати, иногда это не менее больно.
Мы вплотную подошли к вопросу, что такое вообще искусство. Без ответа на него дальше двигаться не удастся. Но надо сразу заметить, что речь не пойдет о позитивном его определении. Хотя мы не отвергаем никаких существующих определений, указывая только на их недостаточность. Наша исследовательская установка находится на равном удалении от понимания искусства как секуляризованного жертвенного ритуала, профанной молитвы, мастерского отражения-подражания образцам реальности или самовыражения внутреннего мира художника. Речь пойдет, скорее, об отрицательных определениях, причем не того, чем искусство не является, а того, что к искусству в искусстве не сводится, являясь в нем, однако, наиболее интересным, наиболее притягивающим, наиболее запоминающимся и, в конечном счете, хотя это и парадоксально, отличающим искусство от не-искусства.
* * *
Мы исходим из понимания насилия с его травматическими последствиями как причины ограничения чувственных способностей автора, т. е. из соображения, что художник не столько является носителем подобного травматического опыта, сколько ограничен в возможностях его выражения. Следовательно, речь идет не о каком-то непосредственном влиянии насилия на письмо, а о целой системе социальных опосредований – от положения в семье до бытующих в обществе отношений к телу, – которая определяет работу внутренних миметических механизмов. Причем сценой этих первичных процессов является не столько семья, сколько социум, и касаются они не столько индивидуальной психики, сколько коллективной телесности, которой художник оказывается причастен как представитель определенного социального слоя, или класса. Лефовская идея «социального заказа» выглядит в контексте этих соображений не столь уж и брутально. Только понимать ее нужно не как зависимость индивидуального сознания от коллективных интересов социальной группы, к которой принадлежит его носитель, а как причастность любого индивидуального телесного переживания социальному, коллективному телу, состояния которого и следует в точном смысле называть бессознательными.
Область этого бессознательного, в свою очередь, очерчивает набор социальных и бытовых привычек, стереотипов поведения и моделей отношений в обществе, включая допустимые в нем пороги насилия и типы сексуальности. Причем причастность индивида репрессивному социальному опыту совсем не обязательно означает его номинальную принадлежность угнетенному классу, «пролетариату» и т. д., а касается в той или иной мере всех членов общества.
Соответствующий слой телесности В. Подорога[66] вводит через наблюдение, согласно которому наше тело принадлежит не только нам и лишь частично может быть присвоено субъектом, будучи со всех сторон вовлечено в потоки природного становления и умирания. Но то же самое можно сказать и о нашем социальном, коллективном теле, которое касается нас отнюдь не только через идеологические механизмы. В отличие от косного природного тела, налагающего ограничения на наши действия и заставляющего даже нас самих воспринимать наше тело как объект, социальное тело выступает носителем исторической памяти, того бессознательного, которое мы необдуманно называем коллективным, считая его субъектом какой-то внешний коллектив с его по аналогии примысливаемым «коммунальным» телом. Но единственным субъектом социального тела, как это ни парадоксально, являемся «мы сами», олицетворяя и воплощая его даже в более гуманитарном смысле, чем столь знакомое нам «природное» тело. Но это говорит не столько о заданности и определенности нашей индивидуальности телесной коллективностью, сколько о нашей ответственности за социальное тело, возможность трансформации его привычек, стереотипов и ограничений.
Различие социального тела и тела природного в их взаимоотношениях с индивидуальным можно прояснить по аналогии двух видов причинности и эффектов смысла-события у Ж. Делеза: «Хрупкость смысла легко можно объяснить. У атрибута совсем иная природа, чем у телесных качеств. У события совсем иная природа, чем у действий и страданий тела. Но оно вытекает из них: смысл – это результат телесных причин и их смесей. Таким образом, причина всегда угрожает присечь событие. Последнее избегает этого и подтверждает свою самобытность, но только в той мере, в какой причинная связь подразумевает неоднородность причины и эффекта: связь причин между собой и связь эффектов между собой. Иными словами, бестелесный смысл – как результат действий и страданий тела – сохраняет свое отличие от телесной причины лишь в той мере, в какой он связан на поверхности с квазипричинами, которые сами бестелесны»[67].
* * *
Встреча с событием в чистом виде – как с источником миметической на него реакции, выливающейся в художественное разыгрывание этого события с целью изживания его травматичности или повтора связанного с ним удовольствия, – представляется достаточно сомнительным источником искусства. Даже если предположить эту возможность и разместить вслед за расхожими психоаналитическими теориями очаг подобной травмогенной событийности в интерьере современной мелкобуржуазной семьи, останется непонятным, почему она имеет нетривиальные последствия только в одном случае на миллион, чаще всего заканчиваясь приватной психической травмой заурядного человека, о которой ему нечего рассказать, кроме тривиальности.
Событие в этом смысле опосредовано сложнейшими социокультурными механизмами, целой системой социальных ролей, с которыми от рождения встречается и вынужден считаться человек. К такого рода событиям и их претерпеваниям относятся в современном мире насильственные манипуляции над человеческим телом, которые формально повторяются в искусстве, воспроизводя структуру соответствующих травм на уровне задействуемой произведением чувственности. Но в этом случае событие не просто трансформирует чувственность, оно разрушающе действует на ее первичные принимающие каналы, и в зависимости от характера полученной травмы художник восполняет недостаток поврежденной способности (например, сонорной, зрительной и т. д.) за счет избыточной нагрузки на неповрежденную. Отсюда странность, или остраненность, его художественных образов и своеобразие почерка, фактуры произведения.
Причем речь идет в большей степени о бессознательных процессах, нежели о сознательных художественных приемах (хотя во вторичном подражании и обработке они могут стать и сознательными). Вопрос, однако, не в том, является ли искусство подражанием-отражением внешней действительности, образцов прекрасного или безобразного, а в том, в какой степени конкретный художник способен соответствовать подобному ожиданию от искусства, чтобы таким образом их «отражать». Неверно было бы предположить, что художник является субъектом каких-то надындивидуальных влечений, агентом биокосмических сценариев, а то и медиумом божественных предначертаний. Более дифференцированное понимание мимесиса позволяет также избежать банального субъективизма, идеи творческой исключительности и мистического объективизма, в избрании которых отчасти сходятся материалистическое учение об отражении и доктрина божественного происхождения искусства.
Сложности, разумеется, остаются. Так, недостаточно ясно, как взаимодействуют негативный и позитивный миметические каналы в историческом времени. А объяснять искусство только из чувственного недостатка на самом деле столь же сложно, как из совершенных способностей индивида, его гения или таланта. Но более-менее ясно, что одним из фундаментальных источников искусства выступает социальное насилие или, точнее, импульс избавления от него. В этом плане история искусства похожа на историю политической борьбы, которой движет преимущественно желание людей избавиться от тяжелых природных и социальных условий жизни. Проблема состоит в том, что господствующие классы перманентно перехватывают и перекраивают на свой лад коды этого желания. Опыт насилия принципиально разделяет тех, кто его претерпевает, от тех, кто его только наблюдает и тем более причиняет.
Пример: Лев Толстой и Федор Достоевский на «Зеленой улице»
В дореволюционной России дать адекватный язык опыту насилия впервые смогли разночинцы, пробившиеся в конце концов в культурное поле и даже впервые вспахавшие его, создав русскую светскую культуру во второй половине XIX в. Например, литература Ф.М. Достоевского была не столько выражением, сколько организацией репрессивного опыта своей эпохи, той самой «записью на теле», которой и определяется искусство в его уникальной сущности. Упомянутая кафкианская запись здесь не более чем свернутый образ, совмещающий в себе практику письма и область его приложения – социальное тело человека как негативное единство его чувственных способностей. Но можно спросить: как эта запись переходит в литературу и вообще в искусство? Ибо сама по себе она, разумеется, ничем иным кроме репрессии не является? А причастность художника социально и телесно соответствующему опыту не является, как мы уже писали, достаточным условием ценности его произведений. Но, возможно, она является необходимым его условием? Причем необходима она не в каком-то позитивном смысле жизненного опыта как испытанного «на собственной шкуре» содержания. Подобное требование к художнику отвергалось еще русскими формалистами: чтобы написать «Холстомера», Льву Толстому совсем не обязательно было становиться лошадью. Но ведь и к приему остранения материала как его оформления все не сводится. Ибо требуется еще объяснить, откуда берется эта остраняющая материал форма и чем обусловлен используемый автором прием.
Тому же графу Толстому, сумевшему войти в шкуру лошади, при всем его интересе к проблематике насилия и негодующем его осуждении, никогда не удавалось, подобно Достоевскому, проникнуть в тело пешеходов «зеленой улицы», чтобы чувственно-телесно, а не спекулятивно-моралистически выразить особенности национального прогона сквозь строй.
В.А. Подорога отмечает, что в русской реалистической литературе толстовской традиции мы найдем множество образов и свидетельств насилия, не искорененного и в пореформенной России. Но только Достоевский сделал насилие способом, каким реальность вообще может быть представлена. Только у него стала очевидна событийность насилия как стихии и субстрата русского быта. Мимесис-подражание в отношении насилия носит у Достоевского, в отличие от Толстого, совершенно иной, имманентный характер. Можно сказать, что если Толстой подражает насилию извне, описательно, только изображая его, то Достоевский подражает ему на уровне самого своего тела, имманентного антропологического опыта, перенося его формы на структуру художественного произведения. Герои «Записок из мертвого дома» живут этим насилием, рассматривая и оценивая через него все прочие явления жизни. Поэтому и никакого морализаторства по поводу телесных наказаний у Достоевского не встретишь. Даже описания самых отъявленных палачей в этом смысле, скорее, нейтральны, а их оценка жертвами не является осуждающей с позиции какого-то правового или морального идеала.
Подорога считает, что невосполнимый разрыв между двумя отмеченными ветвями русской литературы обусловлен принятыми в них начальными образами тела, выражающими различный телесный опыт «поротого» и «непоротого», «господского» и «униженного-оскорбленного». Тела Толстого в этом смысле завершены и незатронуты в феноменальном плане, это поистине «полные тела». Напротив, частичные, раздробленные тела Достоевского собираются в столь же частичные образы боли и муки, представляя проблему насилия в совершенно ином свете.
В. Подорога пишет о Достоевском: «Литература Достоевского – одно из наиболее выразительных свидетельств опыта подавленного, оттесненного и одинокого тела в общей картине тогдашних крепостных и пенитенциарных практик. Насилие казалось ему могущественным, сколь и отвратительным посредником между произволом имперской власти и послушанием в пореформенной имперской России. Как если бы можно было составить общую карательную карту отечественной литературы для двух литератур: одной – придворно-дворянской, «барской», и другой – разночинной, литературы по происхождению «холопской» (отчасти рожденной воображением и рессентиментной памятью бывших крепостных); одна – поротая, а другая – нет. Вот откуда разрыв между литературами, который ничем не восполнить, хотя бы потому, что их разъединяют начальные образы тела: одно – достаточное и полное, завершенное в своей физической и феноменальной проекции, тело незатронутое (тело, которого никогда не касалась ни розга, ни плеть, ни веревка); а другое – затронутое (тело униженное и оскорбленное, “обнаженное”, раздробленное на части, несобранное, слепленное из боли, подавленности и презрения). И один общий критерий, их различающий: телесное наказание… Для литературы Достоевского насилие – не предмет изображения, а способ, каким реальность может быть представлена. Литературная имманентность насилия очевидна, ее нельзя устранить, это стихия, если угодно, само вещество отраженного литературой исторического бытия. Насилие становится художественным приемом, самой литературой. Жить насилием и через него обращаться к бытию: быть-через-насилие»[68].
* * *
Никто, разумеется, не станет сегодня всерьез оспаривать величие Льва Толстого как писателя. Это было бы под силу разве что конгениальным ему художникам. Но из этого не следует, что мы не можем подвергать критическому анализу отдельные произведения, идеологические стратегии и политические взгляды классика. Было бы тем более странно отказывать современному исследователю в возможности ставить под сомнение сложившиеся стереотипы в оценках его творчества, особенно в сравнении с другими представителями «великой русской литературы».
Я исхожу из уже упомянутого различения у Подороги двух основных стволов развития русской литературы: придворно-дворянской литературы, идущей от Пушкина к Толстому и далее к Бунину и Набокову, и литературы разночинной («холопской»), идущей от Гоголя к Достоевскому и далее к А. Белому и А. Платонову. Надо сказать, что различение это не выступает в качестве какой-то объяснительной социологической модели, т. е. не им что-то объясняется, а оно должно быть объяснено из имманентной логики соответствующих художественных произведений, из присутствующих в них зрительных, сонорных, тактильных ориентаций и других антропологических составляющих литературного опыта. Таким образом, подход этот носит не идеологический характер, который был свойствен советской социологии искусства уже с 1920-х годов, а, скорее, антропологический. Но произведение не объясняется и не сводится и к набору антропологических и социологических клише, в которых невозможно выразить его уникальность. Оно может быть только описано в окрестности соответствующих «условий», которые, в свою очередь, именно в нем и проявляются. Другими словами, из самих произведений Толстого и Достоевского мы должны увидеть, что означает это «барство» или «рабство» в литературе, и фундированный ими «реализм», а не объяснять этими сверхдетерминированными, как бы заранее известными определениями соответствующие произведения. Но разве имеет какое-то значение для вопроса о реализме принадлежность Толстого к определенной социальной группе русского общества? Да, имеет, но не то, о котором вы могли (лениво) подумать.
* * *
Различение усадебно-дворянской и разночинной литературы было предложено еще в 1920-е годы таким бескомпромиссным левым теоретиком искусства, как Н. Чужак, в лефовском сборнике «Литература факта» (1928). И хотя позднее оно стало карающим инструментом советской литературной критики, позволявшим функционерам мгновенно отличать своих от чужаков, в первоначальной своей редакции, в контексте идей производственного искусства и литературы факта оно имело принципиально иной смысл.
Чужак был чужд наивного социологического редукционизма – различение это проводилось им не в связи с личной сословно-классовой принадлежностью писателей, а по «признаку литературного влечения», с точки зрения «приемов обработки человеческо-общественного материала и его целевого назначения»[69]. Он пытался нащупать корни этого различия, указывая на образец уподоблений первого вида литературы – помещика, барина и его устойчивого, как бы естественного мира, держащегося, однако, на сословных предрассудках – идее некоей нормы господского взгляда, полноты барского быта и соответствующих ему удовольствий. В связи с этим он характеризовал тургеневский реализм как пассивно-созерцательный, практикующий внешний, опирающийся на представление мимесис, как любование действительностью «под знаком красоты и изящества»[70]. Реализм Решетникова и Достоевского Чужак, напротив, квалифицировал как не удовлетворяющийся правдоподобием (основой традиционной эстетики), отказывающийся от внешних уподоблений, сомневающийся в извечных устоях жизни и пытающийся добраться «до самой жуткой правды».
Чужак пытался далее восстановить связь футуризма и современной ему коммунистической литературы с частью литературной традиции через понятие жизнестроения, которое сущностно характеризует, с его точки зрения, разночинный реализм. Пафос жизнестроения и соответствующие способы работы с материалом действительно были характерны для поэзии будетлян и зауми, образцы которых публиковались в «ЛЕФе» (прежде всего В. Хлебников и А. Крученых), и для поэтов-кубофутуристов круга Маяковского (В. Каменский), для производственников (Б. Арватов и Б. Кушнер), для фактографов и формалистов (С. Третьяков, О. Брик и В. Шкловский), для художников-конструктивистов (А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова, А. Лавинский) и режиссеров (Д. Вертов, Вс. Мейерхольд).
Но Чужак не смог объяснить, по каким причинам русские писатели XIX в., принадлежащие даже к одному сословию, тем не менее осуществляли принципиально различные миметические стратегии. Его перекочевавшее затем в советские учебники истории литературы социологическое объяснение, связанное с культурным выдвижением разночинства как социального слоя на фоне развития городов, промышленного капитала и новых производственных отношений, не объясняет также, почему большинство пролетарских писателей 1920-х вернулись к эстетике и поэтике «дворянского» реализма, не приняв идей коммунистического футуризма.
А понятия опыта, симпатии, влечения и мироощущения, которые Чужак только декларирует, следует еще уточнять. Причины, по которым он их не разбирает, очевидно, связаны с запретом на психологизм в формалистских и структуралистских кругах ЛЕФа. Это же обстоятельство не позволило заумникам и футуристам узнать свои корни в дооктябрьской поэзии и литературе, несмотря даже на недвусмысленные филологические подсказки В. Шкловского. Как мы помним, с корабля современности футуристы попросили всех классиков без разбора. Но психологизму души и грубому биографизму текста здесь можно противопоставить антропологический анализ коллективной чувственности не менее авангардных произведений, возникших несколько ранее эпохи русского авангарда.
* * *
Итак, я собираюсь говорить о превратностях жизнеподобия, соответствия художественного образа некоей «истине», или «истинной идее», и «изображению жизни в формах самой жизни» (Мих. Лифшиц), т. е. определений, которыми характеризуется реализм, на примере изображения Толстым и Достоевским телесных наказаний в рассказе «После бала» и в «Записках из мертвого дома» соответственно.
Первое, на что стоит обратить внимание, – это топология авторского взгляда, т. е. откуда смотрят наши писатели на место пытки или казни, ибо соответствующие позиции во многом предопределяют сами способы их письма и оценки рассматриваемого феномена. А они стоят как бы по разные стороны так называемой «зеленой улицы» – строя солдат в два ряда, сквозь который проводят наказуемых. Персонаж Достоевского, хотя и не подвергается сам прямому насилию, смотрит на его осуществление изнутри, из середины солдатских шеренг, а не с обочины, как персонаж Толстого. И соответствующая топология взгляда вовсе не условна. Как известно, Достоевский биографически побывал и в роли невольного палача, стоя в строю солдат, приводящих в исполнение приговор, и в роли жертвы, когда сам был на каторге. Возможно, именно это позволило ему занять невозможную позицию казнимого палача, избежав тем самым ловушек дискурса жертвы.
Толстой же смотрел на насилие со стороны, извне, не включаясь в ситуацию тактильно-телесно. И в этом смысле был носителем господского взгляда, как бы он сам к подобному господству ни относился. Поэтому лично травмирующее его (или даже его брата Сергея – ведь это чуть ли не «случай из жизни») зрелище насилия способно было вызвать в его персонаже лишь некие брезгливые чувства, а именно «тошноту» и «тоску» (так по тексту рассказа «После бала») и моральное осуждение палачей.
«После бала» выстроен на резком диссонансе между манерами полковника в кругу семьи и светского общества и его же поведением «после бала», на армейском плацу. Но Толстой был не способен понять, что второе служит не просто оборотной стороной первого, а его базовым условием. Проблема состояла не в потере каким-то армейским начальником чести и совести, а в насильственной, но не замечаемой Толстым подоснове великолепия балов, бросающей тень даже на беззаботных толстовских барышень. Соответственно, и его «реалистические» образы – это в основном генералы, бравые офицеры, дамочки на содержании и т. д. Не случайно и тяготы войны Толстой разместил на теле Пьера Безухова – графского сына. Разумеется, нельзя сказать, что реализм этот не демонстрировал ничего реального. И я даже не пресловутого Платона Каратаева имею в виду[71]. В определенном смысле в выборе подобных персонажей проявилась даже известная честность графа Толстого – он же в конце концов не Короленко.
* * *
На основе вышесказанного понятно, почему надо осторожно употреблять термин «реализм» в отношении таких больших и таких разных писателей, как Толстой и Достоевский[72]. Очевидно, что одна и та же реальность виделась ими совершенно по-разному. И никакими формальными приемами, природной гениальностью или достижениями мастерства не объяснишь этого различия во взглядах. «Реализм» оказывается здесь не только слишком расплывчатым определением, не способным ухватить специфику конкретных произведений, но и сбивающим с толку. Ибо он не отвечает на вопрос, почему, несмотря на общую миметическую стратегию уподобления реальным феноменам, характерную для классического искусства вообще, и на разделяемое теми же Толстым и Достоевским аналоговое отношение к действительности, конечный результат получился у них столь различным и на уровне содержания, и на уровне выражения конкретных социальных феноменов тех же телесных наказаний. Мы уже показали, что здесь недостаточно будет сказать, что они по-разному понимали одно и то же явление или что пользовались различными художественными приемами для выражения одного и того же содержания или оформления материала. На наш взгляд, Толстой и Достоевский прежде всего работали с различными структурами чувственности и планами выражения.
Экскурс 1. «Трансцендентальная аффектология» Андрея Белого
Таков феномен лирического поэта: как гений-аполлониец, он интерпретирует музыку в образе воли, между тем как сам он, избавленный от алчности волевого, всецело есть лишь чистое, незамутненное око Солнца.
Белый-философ: маски и вуали
В своих мемуарах Белый неоднократно и охотно вспоминает своего друга Густава Шпета, не скупясь на лестные отзывы и признавая справедливость его разоблачений кантианского маскарада, который Белый не без успеха устраивал в интеллектуальных кругах Москвы и Санкт-Петербурга начала XX в. Характерный эпизод из «Начала века»:
«На моем реферате у Морозовой на тему “Будущее искусство” (кажется, в 1908 году) профессора, рвавшие и метавшие по адресу “Белого”, возражали мне в приятно-академическом тоне (и не без комплиментов); Лопатин, доселе лишь надо мной издевавшийся, вдруг завозражал по существу; Евгений Трубецкой на треть соглашался с моими тезисами; даже неокантианцы не столько спорили, сколько обменивались мыслями со мной. Только мой в то время друг, любивший меня как художника, Г.Г. Шпет, иронически отнесясь к вынужденно-паточному тону между седыми профессорами и непричесанным “скандалистом” (в ту эпоху гремели мои “скандалы” в “кружке”), нанес позиции моей удар жесточайший и после реферата дразнил меня: “Это я – нарочно; зачем надел ты из приличия философский фрак; он тебе не идет; если бы ты выступал без защитного цвета, я бы тебя поддерживал”. “Защитный цвет” – тон необыкновенной “культурной вежливости” и терпимости к позициям друг друга, который впервые установила Морозова между университетскими кругами и символистами […]»[74].
И еще, там же:
«Я года присутствовал при съедании схоластиков одной масти схоластиками другой масти; “кассирерианцы” и “ласкианцы” съедали, жестоко, как термиты, – всё, оставаясь такими же сухими и тощими; между прочим, съедали они и схоластику Льва Лопатина; с ними мне приходилось считаться, чтобы не сдать своих позиций; и термины их я изучал, упражняяся в их жаргоне; в этом и состояла моя партия в шахматы: мимикрировать жаргон Риккерта, чтобы впоследствии его языком опрокинуть его же твердыню: ценность – “норма долженствования”. Шпет, меня видя насквозь, мне шутливо грозил: “Я приду в “Кружок” сорвать с тебя маску!” Приходилось бронировать себя; а от злости Лопатина даже не приходилось: партия его была сыграна; в существе неправые неокантианцы с правотой загрызали его».
Итак, Шпет усматривал в кантианстве Белого лишь маску, философское травести. Виктор Шкловский, в свою очередь, упрекал писателя в навязывании им литературе антропософской линии – внешней мировоззренческой задачи, которую искусство выполнить не может ввиду инородности его любой идеологии[75].
Еще на раннем этапе творчества «профессионалы» уличали Белого в плохом знании Канта[76]. Да и в «Истории становления самосознающей души» (ИССД)[77] образное и ироническое представление Канта, аттестуемое самим Белым как шарж[78], могло подействовать на профессиональных читателей философских текстов, скорее, раздражающе. Между тем критика Белым Канта в ИССД и в других поздних работах[79] вполне адекватна, разве что за вычетом излишней драматизации и резковатой образности[80].
И все же тезис «Андрей Белый – философ» звучит несколько двусмысленно. Ведь, сколько бы усилий мы к этому ни прилагали, его ИССД, например, никогда не станет новой «Феноменологией духа» или «Критикой чистого разума». С другой стороны, мысль Белого ценна не столько ассоциативной связью с канонизированными именами всемирной философии и даже ее законным местом в истории русской религиозной философии начала XX в., сколько открывшимися в его произведениях актуальными философскими сюжетами, которые стали доступны современному анализу в результате длительной исторической рецепции, задействующей источники, которые не могли быть непосредственно известны самому Белому.
Я хочу сказать, что Белый важен для современности не как в прямом смысле «философ», а как носитель уникального художественно-антропологического опыта, значение которого становится доступным философской рефлексии только сегодня ввиду переосмысления в современной философии роли литературы и собственного мышления художника. Это переосмысление предполагает прежде всего идею незавершенности «произведения» изучаемого нами автора в его собственном времени и времени известной ему традиции, необходимость учета произошедших после его смерти событий в культуре мысли и, главное, временных характеристик нашего собственного анализа, в котором соответствующее произведение только и может быть завершено.
Рефлексивные усилия самого Белого по осмыслению своего художественного опыта, получившие в том числе отражение в ИССД, являются с данной точки зрения привилегированной частью этого опыта и требуют соответствующих методов изучения. В частности, невозможно не признать, что, как и его литературные произведения, они носят на уровне выражения не столько концептуально-терминологический, сколько образный и символический характер. Стиль этого выражения, его «как», гораздо важнее его «что», хотя именно это «что» только благодаря упомянутому стилю и выявляется. Именно в этом проблемном переходе от «как» к «что» получает свое место и оправдание современная аналитическая работа с литературой.
ИССД – наиболее показательное в этом плане сочинение. Его важнейшие части представляют собой впечатляющую попытку рефлексии над аффективной жизнью тела, зашифрованную в квазиантропософских понятиях. Использование мифологического словаря антропософии в этом плане обусловлено у Белого целями остранения, «воскрешения» и инсценирования проблематики, которая в языке современной ему (прежде всего неокантианской) философии потеряла живость, формализовалась. Но само обращение к антропософии не являлось для Белого отходом от Канта и тем более «изменой» философии. Не сводился замысел Белого и к задаче простого совмещения кантианского и антропософского словарей. Штейнерианство позволило Белому перенести современные ему философские сюжеты на другую сцену, как бы олицетворить и разыграть их на театре антропософских мифологем[81]. Но речь не шла при этом о какой-то «образной» словесной игре, размещающейся за пределами философии. Напротив, Белый на протяжении всей своей творческой практики настойчиво продумывал отношение образа и понятия в опыте сознания[82] и в результате самостоятельно пришел к выводам, вполне совместимым с современными философскими достижениями в этой области. В частности, я имею в виду теории образа, получившие развитие, с одной стороны, в феноменологической и герменевтической традициях (например, у Г. Шпета, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти и др.), а с другой – в современном психоанализе (идущем от Ж. Лакана).
И в этом нет ничего удивительного. Белый – художник, и вопрос о его «философичности» осмыслен по преимуществу в плоскости его рефлексии на художественное (в том числе собственное) творчество, природу и смысл искусства. Именно в этой области, т. е. в отношении анализа творчества художников, наиболее близких ему, так сказать, по типу чувственности и телесности как способности воспринимать, переживать и понимать действительность, Белый и проявил себя в большей степени как философ, причем философ постсовременный. То есть такой, который равно избегает объективирующих репрезентаций (бога, бытия, единого и т. д.) и некритической опоры на чувственные и когнитивные акты некоего «субъекта», приобретающие якобы за счет этого статус самодостоверности.
Поэтому мы категорически не согласны с тем, что Белый занимался лишь «художественной символизацией» Канта и неокантианцев в духе их учений, а «отвлеченные философские конструкции давали ему материал (прежде всего эмоциональный, не идейный) для создания новых художественных образов»[83]. Напротив, он, как художник, утверждал права действительности в доступном восприятию образе и в таком виде предоставлял ее себе же, но уже как философу[84].
Другими словами, философия в лице своих ведущих представителей в XX в. дошла до уровня художественной рефлексии, перестав рассматривать искусство как всего лишь иллюстрацию понятийных конструкций, открыв для себя литературу как антропологический опыт образов и сделав его привилегированным предметом своего анализа.
В этом плане сам Белый привнес в известный набор традиционных философских сюжетов ряд оригинальных постановок вопросов, оказавшись в авангарде философской мысли своего времени. Это прежде всего проблематика телесности, не сводимая к физическому, объектному пониманию тела, рассматриваемая Белым в отпугивающих философов-позитивистов пространствах «эфира» и «астрала». Это связанная с «астралом» тема аффектов, или страстей, условиями возможности которых для становления сознания, истории и бытия духовной культуры Белый подробно занимался в ИССД. Наконец, это тема звукообраза и проблема символа как знака, обладающего смыслом, но не сводимого к своей логической форме и словарному значению.
Астральное тело и путь «само»-сознания
Все обозначенные темы зрелой мысли Белого существенно связаны между собой. Так, целое астрального мира[85], который есть мир желающих тел, страстей и аффектов, мыслимо только в виде образа, мысле-образа. Мысля таким образом целое, сознание встречается с «собой самим», с тем «само», которое только и имеет отношение к «астралу» как целому мировых тел. Другими словами, в идее астрального целого желающих тел для Белого было важно не полагание какой-либо цельности (религиозно-мистической, метафизической, онтологической), а соотнесение ее с непосредственным опытом сознания, или переживаний самосознающего «Я».
Означенное «Я», однако, остается у него в кавычках[86]. Объяснение этих кавычек – в различии, которое можно провести, например, между позицией марбургской школы неокантианства в лице П. Наторпа и бессубъектной и нерепрезентативной традицией в понимании сознания, к которой, помимо Ф. Ницше, В. Соловьева и Г. Шпета (называя только источники Белого), принадлежал и сам Андрей Белый. Спрашивается: почему ему было недостаточно, подобно Наторпу, понимать самосознание как обращенность субъекта сознания на самого себя, как «первоиндивидуальное» и «первоконкретное» в их сочетании[87]?
Но почему Белый вообще отправляет самосознающее «Я» в «бездны астрала», эту смутную и двоящуюся область, полную соблазнов и рисков[88]? Прежде всего потому, что сознательное отношение человека к миру, по Белому, не сводится только к представлению[89], будучи включено в его непосредственный чувственно-телесный опыт. Самосознающее «Я» уже находится в пресловутом «астрале». Согласно Белому, мы должны пройти через процесс узнавания самих себя в астрале – в страстях и аффектах тела. Ибо только в таком случае возможно их имманентное изживание и «переплавленье». А это, в свою очередь, возможно, если тело перестанет исключительно рассматриваться как греховная плоть (религия), или психофизический организм (наука), т. е. как тело мертвое, объектное (или, что то же, сакральное и вечное). Важно также отметить, что «душа самосознающая» в этом процессе не остается, согласно Белому, без изменения, она «плавится», проницаясь эмоциями, обретая диффузную форму «чувство-мыслия»[90].
Обращение Белого в этом контексте к антропософской аксиоматике не должно нас смущать. Даже когда Белый раскавычивает свое «Я» в понятии само-духа («манас»), оно все равно не превращается у него в субъект сознания[91], а становится сознанием «космическим», вбирающим в себя множество «Я», коллективом, которым выступает и само это «Я»[92].
Кавычки, в которые заключены слова «трансцендентальная аффектология», означают, что Андрей Белый, разумеется, никакой «аффектологии», на манер Аристотеля, Декарта, Спинозы или Гоббса, нам не оставил, тем более «трансцендентальной». Но вот изучать его творчество, и прежде всего теоретические тексты, я предложил бы именно в перспективе заявки своего рода учения о страстях, получивших от критической постановки вопроса запрос на выяснение условий их возможности, их имманентной связи с миром тел, социальным миром, их отношений с ratio, наконец.
Прежде всего, для нас важно здесь наблюдение Белого, что художественный образ неразложим на эмоции и логические понятия, он представляет собой совершенно автономную область, не сводимую к его онтологическим, психическим или когнитивным характеристикам. Но именно в отношении к этой области различаются и артикулируются концепты и аффекты. С материальными телами человек входит во взаимодействие специфическим образом, т. е. никогда не непосредственно, а через отношения с другими людьми – через язык, сферу знаков и интерпретаций. Именно из этой области можно поставить вопрос об аффектах и их роли в духовном становлении человека трансцендентально, на уровне их возможности, не подменяя его вопросом об их происхождении, природе и соотношениях в рамках какой-либо классификации. Такой подход предполагает изучение аффектов в широком интердисциплинарном контексте, задействующем инструментарий сравнительного литературоведения, психоанализа, философской антропологии, политической философии и этики.
Страсть в этом контексте предстает как ответ на запрос желания, который субъект не может вынести в одиночку, точнее, не способен контролировать исключительно рассудочными средствами. Причина тому – неподконтрольность субъекту самого желания, у истоков и на пути которого всегда стоит Другой, если, конечно, речь не идет о потребности. Другой одновременно конституирует и ограничивает это желание, стоит на страже его (не)исполнения. Столкновение с желанием Другого конституирует наше собственное желание на уровне самого его субъекта (отнюдь не только объекта) и поэтому приводит к аффектам как переходным состояниям от неудовольствия к удовольствию, от сознания к бессознательности, от жизни к смерти, и обратно[93].
В своих рассуждениях о страстях и аффектах Белый не просто близок установкам постсовременной философской мысли, он является их оригинальным предтечей[94].
Обратимся за подтверждением этого тезиса к характерному фрагменту из ИССД, где Белый прибегает к настоящим истокам своего учения об аффектах – произведениям Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского:
«Факта “Я”, о котором рассказано – столько, написано столько; и все оказалось не “Я”; это “Я” захотело пред нами явить неприличие физиологической жизни сознания; мысли его оказались не мыслями, не рассуждениями, вовсе не чувствами, фактами, видимыми, осязаемыми, точно тело; нас “Я” потрясло своей “вещностью” у Достоевского; и восприятье явления этого “Я” вне душевных одежд – оказалося явлением тела во всех его срамах, в действительностях самосознанья; действительности – в факте слиянности “Я” с телом страсти, иль – “как бы” слиянности; до Достоевского этой слиянности не было; после него, она – факт: и не видеть его невозможно; сознание себя изживает не в “чувстве прикрашенном”, и не в сентенции здравой, – нет, нет: в них сознание спит; в них оно еще эмбрион, тень, иль – “субъект”; Достоевский нам вскрыл: все понятья о мире конкретного “Я”, – без которых действительность “Я” – верх скандала, – понятья такие – младенческий лепет еще не окрепшего “самосознания”; “самосознанье” впервые подобно инстинкту телесному, страсти; и “Я”, само, – страсть: как бы страсть; Достоевский подчеркивает: что не страсть, а – как бы страсть; говоря о страстях, как о “Я”, он страстит наше “Я”, остраняет его; в этом метод, подобный реалистическому остранению Гоголя; Гоголь – страннит; Достоевский – страстит проявления нашего конкретного “Я”; острастненьем сознания хочет он выразить факт непреложный, что корень сознанья, нащупанный нами в его содержаниях, живописуем реальнее в символах мира страстей, чем – душевных движений, что самые эти движенья – покров, аллегория на организме вполне полнокровного “Я”; это ж “Я”, в своем голом, вполне беспокровном раскрытьи отныне решает себя изживать не в работе над миром душевным, – в попытке продушевления телесности; у Достоевского в бане астральной, нагие, себя изживаем в борьбе со страстями мы, падая в страсти, страстясь» [ИССД, ч. II, гл. «Реализм: Гоголь, Достоевский»].
Здесь намечена целая теория художественного аффекта. Белый эксплицитно откликается на концепции уже упомянутых нами Шкловского и Шпета, которые пытались понять природу художественного творчества и искусства с помощью таких достаточно абстрактных и общих характеристик, как соответственно остранение[95] и отрешение[96]. На материале Достоевского Белый предлагает радикальное истолкование метода остранения, понимая его как своего рода управление страстью – «страстение нашего “Я”», позволяющее переходить от одних психотелесных состояний к другим, осуществляющее сдвиг в нашем телесном бытии, «машина» которого, собственно, и запускается художественным про-изведением[97].
При этом он отвергает (вслед за Ницше, см. эпиграф к Экскурсу) возможность прямого обмена эмоциями между автором и читателем, как и непосредственной аффектации чувственности вещами физического мира, открывая в работе художника с аффектом своего рода медиум соответствующих практик[98]. Он пишет о «как бы» страстях самосознающего «Я», своего рода аналогиях аффективного чувственно-телесного опыта, которыми Достоевский «страстит» и «отстраняет» наше «Я».
Этот ход созвучен уже эстетическим идеям Густава Шпета, для которого сфера эмоций, которая проявляется в произведениях искусства на уровне их экспрессивно-символических форм, является единственным пристанищем уникального «Я» художника. Именно благодаря этим формам мы можем почувствовать его индивидуальный почерк и стиль. Парадоксальным образом на эмоциональном уровне произведения «Я» художника наиболее дистанцировано от него, как индивида-особи, обнаруживаясь в изначальной общности с другими «Я», в открывающемся здесь неограниченном «Мы»[99]. Во внутренних же, смысловых, логических формах слова это «Я» всегда представлено как «объективированная субъективность», «социальная вещь», знак, имеющий анонимное культурно-историческое значение[100].
В художественных произведениях упомянутая «работа над аффектами» проводилась Белым на уровне слова, вернее, языковой организации звукообразов. Белый пытался ритмически организовывать роящиеся в его сознании звуки Другого[101] во всей их неясности и смутности, проборматывая их и как бы сворачивая вызываемые ими аффекты в звуковые символы. Не случайно для понимания своих текстов он советовал читателям произносить их вслух[102].
Ранний Белый писал:
«Мое “Я”, оторванное от всего окружающего, не существует вовсе; мир, оторванный от меня, не существует тоже: “Я” и “мир” возникают только в процессе соединения их в звуке. Внеиндивидуальное сознание, как и вне-индивидуальная природа, соприкасаются, соединяются только в процессе наименования […] Слово создает новый третий мир – мир звуковых символов, посредством которого освящаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу; мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове и только в слове воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я – слово, и только слово»[103].
«Ритмизация астрала» [ИССД, ч. II, гл. «Ницше»], о которой Белый часто упоминает в ИССД, также предполагала гармонизацию голосов (воль, нот) астрального мира[104]. Ритм здесь понимался Белым как «дух», выражающийся «в вариациях стиля целого», «как индивидуальная кривая в ее отнесении к жесту смысла», по отношению к внешним формам слова эта кривая выступала как «эмблема, печать, марка души самосознающей, как символа духа в душе […]» (ИССД, ч. II, гл. «Понятие ритма»).
Главное, что выгодно отличало взгляды Белого на аффективную жизнь от греков, философов Нового времени и того же Канта, – это понимание, что человеческое желание не всегда стремится к благу, чаще оно стремится к страданию и смерти, не переставая быть при этом свободным. Желание желает желания Другого, а аффекты различаются на жизнеутверждающие и разрушительные в зависимости от того, соглашается ли Другой удовлетворить подобное желание или нет.
Белый полагал, что аффекты не следует ни укрощать, ни пускать на самотек стихийных сил, учитывая их транзитивный характер, роль своеобразных телесно-духовных медиумов в мистическом пресуществлении астрального тела в самосознающее «Я»[105]. То есть, согласно Белому, аффекты не являются препятствиями на пути самосознания, а, напротив, служат привилегированным коммуникативным каналом, позволяющим самосознающему «Я» сообщаться с сущим в целом, с бытием (не в хайдеггеровском смысле, разумеется) или «астралом». Другими словами, самосознающее «Я» Белого встречается с астральным телом мира в точке аффекта. В результате этой встречи наши телесность и чувственность должны индивидуализироваться, а сознание – обрести собственную страстность.
Но не все так просто. В «астрале» «само»-сознание встречается не с дружелюбными двойниками истины – красотой и добром, а со своим Другим, заставляющим его пройти путем Желания – путем лжи, подлости и насилия – до конца; оно встречается там cо своим маленьким «Смердяковым», своим «мерзавцем», желающим всем гибели, «а мне чаю пить!». Но именно эта встреча, согласно Белому, является условием возможного поворота души рассуждающей, голой воли к власти, к себе, как «Я» самосознающему.
Поэтому подлинная трагическая литература, образец каковой Белый находит в разные эпохи у Шекспира, Гете, Достоевского[106], занимается не тем, чтобы катарсически «очищать» страсти души, а, напротив, тем, чтобы производить собственные – альтернативные, инсценируя встречу «Я» самосознающего со своим Другим. Искусство артикулирует аффекты в языке образов, чтобы самосознающее «Я» смогло узнать трагическую истину о себе в зеркале Другого. Ее негласная цель – обратить энергию вызываемого в нас аффекта на самих себя, чтобы уже не обрекать этого Другого на страдание и смерть ради исполнения наших суверенных желаний:
«Душа рассуждающая, утопически чувствующая, не знает (и – к счастью) действительной жизни страстей; знает лишь “сантименты”; когда бы узнала она правду жизни своей, – вероятно, узнала б: любовь ея к ближнему напоминает садизм. Для того, чтоб любить, – надо прежде всего полюбить свое “Я”, а для этого надо узнать (любить то, что не знаешь – нельзя); личность “Я” своего никогда не узнает; ведь “Я” же ея – не ея: рода личностей; [одна только] точка которого – личность; собой отделиться от личности, снять с себя маску и разоблачить себя, вынести ужас действительности многих личностей в “личности”, многих “мерзавцев” в себе воспитать в человека, – вот что означает любить себя; и – бескорыстно любить; так любить – уже значит: уметь любить ближнего […]» [ИССД, ч. III, гл. «Познание и чувство в самопознании»].
Речь опять же идет у Белого не о борьбе с эгоизмом, а, напротив, о его углублении, об «эгоизации», о «страсти овладения страстью»:
«[…] то, чем наше “Я” собирается перековать свой астрал, в перепыле становится самым астралом; а то, что стоит перед “Я”, как чудовище страсти, в минуту подмены сознания страстью, осознает свое “Я” […]» [ИССД, ч. II, гл. «Реализм: Гоголь, Достоевский»].
Другими словами, в аффекте мы встречаемся со своим монструозным двойником (называемым Белым антропософским термином «страж порога») – неудержимой страстью к власти «души рассуждающей», индивида, субъекта, способных привести нас только к смерти от рук таких же рассудительных особей. Но именно эта встреча дает шанс на рождение в нас «души самосознающей», не прикрывающей более свою животную, «ощущающую душу» моральными ценностями, «субъектами познания» и прочими метафизическими и сакральными масками. Но дело состоит не в том, чтобы в очередной раз обрести право на смерть Другого (теперь «сознательное»), а в том, чтобы занять дистантную, «самосознающую» позицию по отношению к жертвам и палачам, рабам и господам, пролетариям и буржуа, добровольно отшатнувшись от увиденного в зеркале своей страсти образа чужого страдания. Это похоже на самопожертвование.
А «астрал» в ответ, возможно, начнет меняться на уровне своей символической структуры, переставая быть ареной столкновения неудовлетворимых желаний. В этом состояла утопическая надежда Андрея Белого, которую он спроецировал на всю культурную историю человечества, представшей в ИССД драмой некоего самосознающего «Я».
II. Центральные концепты беспредметного искусства и комфутуризма
Между бессмыслицей и абсурдом: статус футуризма и беспредметного искусства в эстетических теориях 1920-х годов (в. шкловский, л. выготский, в. кандинский, г. шпет и гахн)
Поверхность литературной вещи как граница смысла и нонсенса
Здесь мы рассмотрим несколько связанных между собой интеллектуальных и художественных проектов начала XX в. в России в отношении понятия фактуры, этой поверхности художественного произведения, понимаемой нами как место встречи смысла и нонсенса, вернее, их взаимного превращения и обнаружения. Мы покажем, что оппозиции содержания и формы, значения и изображения, которые довольно активно эксплуатировались в 1920-х годах в философских и литературоведческих кругах в России, не способны адекватно представить отношение смысла и бессмыслицы в литературном тексте. Также мы намерены отстаивать тезис, что совокупными усилиями различных интеллектуальных и художественных направлений 1910–1930-х годов в русской культуре удалось эти оппозиции децентрировать, если не отказаться от их использования вовсе, благодаря проблематизации фактуры как поверхности художественного произведения.
Привлекая концептуальный образ Жиля Делеза, можно сказать, что поверхность литературной вещи завернута в виде складки – ленты Мебиуса, разграничивающей мир повседневных вещей и дел и мир литературный, принципиально ему альтернативный[107]. При движении вдоль этой ленты смысл и нонсенс постоянно меняются местами по отношению к наблюдателю, порождая соответствующие эффекты. За этими почти цирковыми трюками произведения мы и хотим проследить, вовсе не претендуя расставить все по своим местам, неизбежно разрывая эту ленту, но и не смешивая эффекты смысла и нонсенса, не отождествляя их на каждом участке разворачиваемой поверхности.
Фактура как индивидуализирующий элемент произведения искусства
Здесь мы следуем прежде всего за формалистами и такими психологами искусства, как Л. Выготский, чьи теоретические работы подчинялись той логике художественного творчества, которую они усматривали в современной им литературе.
Фактура одновременно несет на себе и след материала, и след художника, являясь в этом смысле границей между материальным миром и произведением искусства. В качестве наиболее близкой к телу художника части художественной вещи она несет на себе печать его экспрессивности. В качестве самого внешнего слоя художественного целого она играет роль формообразующего и одновременно смыслообразующего момента. Фактура – это собственная, имманентная форма материи-материала, которую художник не контролирует на уровне задания, цели или идеи произведения, если он, конечно, не декоратор, ремесленник или дизайнер. В этом смысле она как бы является бессознательным произведения и этим прежде всего и интересна аналитику, позволяя подойти к пониманию произведения искусства без подсказок автора, зачастую ложных, обращая внимание только на не контролируемые им мелочи оформления текста и целостную картину произведения как индивидуального авторского мифа.
Так понимаемая фактура выступает как один из важнейших индивидуализирующих и идентифицирующих признаков произведения, тот момент в нем, на основании которого можно произвести его атрибуцию в случае неопределенного или анонимного авторства. В этом смысле она подобна почерку при письме, интонации при разговоре, отпечаткам пальцев в криминалистике. Только в случае фактуры художественного произведения речь идет о сумме следов обработки художником материала. Понятие следа широко используется в криминалистике, как, впрочем, и в деконструкции. В обоих случаях речь идет о телесной практике, которая является более существенной уликой по сравнению с любыми устными свидетельствами.
В применении к нашей проблематике фактура – смыслонесущий слой произведения в гораздо большей степени, чем моменты его содержания: истории, идеологемы, нарочитые символы и образы как выражения каких-то заурядных мыслей. Потому что произведения не выражают никакой заранее задуманной автором идеи, вернее, выражение это для искусства несущественно и представляет собой план общезначимого содержания – тривиального житейского смысла, который в лучшем случае является для художника материалом, а не направляющей целью художественного выражения.
Два вида абсурда: смысл бессмыслицы заумников и ОБЭРИУ
Смысл произведения размещен на его границах, а фактура и представляет собой такую границу – поверхность художественной вещи. Само ее устройство таково, что она одной стороной является границей языка обыденного, другой – языка поэтического.
Формалисты очень точно представляли цели актуальной поэзии – сопротивление и даже разрушение языка поседневного общения, в котором стерта изначально присущая языку образность. Язык этот уже бессмыслен, мертв и лишь называет вещи без какого-либо их осмысления – переживания смысла как события встречи человека с реальным. Он бессмыслен еще и потому, что вещи, им называемые, понятны сами собой. Слова этого языка имеют значение, но смысла они как бы лишены. Мы здесь сталкиваемся с тем видом абсурда или нонсенса, о котором говорят, когда осознают бессмысленность мелких человеческих занятий перед лицом принципиальной конечности человеческого бытия. Это нонсенс поверхности – границы практических вещей и обыденного языка. Но он лишь изнанка «глубинного смысла», который всегда искала метафизика, полагая, что смысл может быть выражен в языке непосредственно или символически, если предположить, что слово и есть бытие, гарантированное голосом и дыханием самоналичного в них субъекта.
Но у поэтического языка есть своя поверхность и свои автономные смысл и нонсенс, несводимые к взаимоотношениям вышеупомянутой пары. Ибо смерть лишена смысла в принципиально другом смысле, как можно сказать, рискуя быть уличенным в игре словами. И никакому обыденному и научному языку не под силу даже обозначить эту центральную для поэзии тему. Поэзия задействует здесь нонсенс глубины, соотносящийся со смыслом как эффектом поверхности. Ведь если у смерти смысла нет, то, с другой стороны, смысл жизни придает как раз этот глубинный нонсенс. Таким образом, если смыслом жизни оказывается бессмыслица, то и выражаться он может лишь апофатически, негативно – в затрудненной, остраняющей, по идее Шкловского, форме, а то и в форме откровенной бессмыслицы.
Шкловский демонстрировал это на таком жизнерадостном материале, как эротическая поэзия и проза[108]. Существенно, что, приводя примеры эротических эвфемизмов, он видел свою задачу как аналитика не в том, чтобы сводить «неузнанные» в поэтическом тексте интимные части тела к какой-то порнографической «сути», а в том, чтобы прояснить прием, с помощью которого они, не будучи обнаженными – названными, могут служить «фрагментами любовного дискурса».
Шкловский прекрасно понимал, что поле сексуальности, также относящееся к реальному, может быть доступно человеку только в форме символического, и смысл ее не сводится к созерцанию пресловутой «истины» пола, щедро демонстрируемой на порносайтах и в некоторых литературоведческих работах.
* * *
Рискну высказать догадку, что самые интересные с аналитической точки зрения поэтические проекты начала XX в. в России – заумь и ОБЭРИУ – занимались не бессмыслицей синтаксического и семантического плана соответственно, как принято считать, а нонсенсом поверхности и глубины. Заумное слово было иронией над самоосмысленностью слов обыденного языка – показом их поверхностной бессмысленности, ибо и без них можно было вполне обойтись, достаточно организовать заумные словечки по принципам поэтической речи. Из этого уже следует, что использование заумных слов, как бы ни понимать их статус – как неологизмов, знаков переживаний, невыразимых в обыденных словах, или катализаторов аффектов и эмоций, – не могло составить главного в опытах футуристов. Главным с формалистической точки зрения должна была стать формальная конструкция стихотворений, основанная на их пространственной композиции и ритмической основе, ибо именно по этим каналам до нас доходит смысл произведений, даже если он целиком состоит из синтаксически и семантически бессмысленных слов и фраз.
Заумь Шкловский объяснял как сознательный отказ переводить «звуковой праобраз», лежащий в основе любого стихотворения, в план общезначимого содержания: «В стихах слова подбираются так: омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной, звукоречи»[109]. Таким образом, с точки зрения теоретика, в классическом стихотворчестве элементам первичной неартикулированной звукоречи поэт подбирает осмысленные словесные субституты на основе звукоподражания. О синонимах здесь не может быть и речи, ибо, как мы уже сказали, никто не знает заранее смысла выражаемого звукообраза. Заумь в этом смысле последовательнее любого реалистического или символистского стихотворения. Но, повторяем, речь не идет просто о замене синтаксически осмысленных слов на синтаксически бессмысленные. Главное в зауми, как и в любом подлинно поэтическом произведении, – целостная поэтическая конструкция, эвфоническая структура, построенная на ритме, ассонансных и аллитерационных группах и других фактурных элементах текста.
Бессмыслица А. Введенского и Д. Хармса носила более глубинный характер и поэтому не нуждалась в отдельных заумных словечках. Она выражала бессмысленность мира, не отказываясь от значений обыденного языка, а именно благодаря их использованию. Основные «темы» поэзии Введенского – «Бог», «время» и «смерть» – вообще не относились к плану содержания его работ. Они также выражались в целостной организации формальных элементов его текстов. Но, в отличие от заумников (к которым они, как известно, относились двойственно, будучи, с одной стороны, их прямыми учениками, а с другой – их суровыми критиками), обэриуты имели дело с нонсенсом глубины и смыслом поверхности. Поэтому у Введенского нужно искать не глубинные смыслы, а фундаментальные бессмыслицы. А у Хармса – достаточно неглубокие смыслы, когда логически возможное событие – несколько выпавших из окна старушек – предстает как непристойное происшествие на языке остраняемых им милицейских протоколов и медицинских заключений.
Но в обоих случаях неверно было бы говорить, что звукоречь и записанные на ее ритмической и омонимической базе стихотворения не имеют смысла. Поэтому в противоречие своим интерпретаторам от филологии Введенский писал, что бессмыслица, которой полны его тексты, лишь «видимость». Просто добраться до ее смысла чисто филологическими приемами едва ли возможно. Необходимо выходить на металексический уровень стихотворений, а затем аналитическими методами попытаться их интерпретировать, но не на основе содержания (как в примитивном психоанализе текста), а на основе выявленных формальных (фактурных) элементов произведения.
Психологический анализ искусства как художественный проект (Л. Выготский, В. Кандинский и ГАХН)
В 1920-е годы анализ поэзии в работах философов, психологов и литературоведов был сам столь эффектным с эстетической точки зрения, столь конкурентным по отношению к предмету их исследований, что некоторые его образцы можно рассматривать как неотъемлемую часть художественного и литературного авангарда.
Так, Лев Выготский, одним из первых в рассматриваемое время обратившийся к проблематике искусства, считал (несколько трансформируя подходы формалистов), что смысл искусства присущ не психологии автора или читателя, а самому произведению, исследуемому, однако, на уровне его восприятия – так называемой «эстетической реакции». Автор, по Выготскому, придает фабульным событиям, взятым художником чуть ли не из жизни, новый смысл благодаря особому выстраиванию сюжета, направленному на то, чтобы вызвать у читателя психическую реакцию, противоположную по заряду реакции от восприятия фабулы. Добраться, например, до смысла литературного текста, по Выготскому, возможно только объективными психологическими средствами, а именно фиксацией и протоколированием различных рядов психических реакций читателя на его фабулу и сюжет. При чтении рассказа «Легкое дыхание» Бунина Выготский вычерчивал, например, пневмографическую кривую, которая показывала, что дыхание читателя в самых трудных и трагических местах рассказа оказывалось, напротив, легким и свободным, благодаря сознательному изменению Буниным последовательности фабульных событий в сюжетной линии. Смыслом произведения, по Выготскому, здесь оказывается это «легкое дыхание» как содержание психической реакции при чтении рассказа[110]. Мы склонны утверждать, что яркость и легкость самой этой концепции превосходит ее научное значение в перспективе психологического исследования искусства. Дышать при чтении самого Выготского действительно становится легче. Хотя я не уверен в реальности пневмографических опытов, на которые ссылается Выготский, сам проект выглядит впечатляюще, вполне в духе 1920-х. Представьте себе обвязанного датчиками читателя бунинских рассказов! Это уже само по себе похоже на концептуальный перформанс.
То же самое можно сказать и о проекте Кандинского, беспредметное искусство которого ставят в один ряд с литературным футуризмом. Известно, что и он характеризовал идейное содержание произведения искусства как предельно абстрактное, а истоком творческой деятельности считал эмоцию, передаваемую зрителю через чувственную аффектацию автора и оформление ее в художественной форме, под которой он понимал совмещение фигуры и цвета. Проект, который Кандинский оставил в наследство основанной им Государственной академии художественных наук (ГАХН), понимаемый как формальный, предполагал качественное воздействие формы на зрителя, которое могло быть заранее выяснено путем научных экспериментов над его восприятием. Речь шла о классификации перцептивных воздействий различных комбинаций цвета и фигуры на реципиента.
Если целью Кандинского было создание и развитие нового языка живописи, то цель психологов ГАХН – обосновать существование несводимой к перцепции и рефлексии психической способности, ответственной за создание произведений искусства и их адекватное эстетическое восприятие. Произведение искусства должно, по Кандинскому, вызывать планируемую автором реакцию (в случае изобразительного искусства – определенным сочетанием цвета и плоскости). Отсюда задача: выяснить эмпирическим путем, какие эмоциональные реакции вызывает то или иное сочетание фигуры и фона. По результатам лабораторных исследований в упомянутой академии он надеялся разработать целую науку – своего рода грамматику чувственности, которая могла бы позволить искусству интенсивно развиваться в предложенных им направлениях.
Кстати, философы ГАХН во главе с Г.Г. Шпетом не вполне справедливо критиковали подобные эксперименты за элементарность и примитивность исследуемых форм, не позволяющие перейти от их классификаций к анализу традиционных видов искусства и реальных художественных произведений. Ибо этот проект следует прежде всего воспринимать как часть грандиозного эстетического и художественного эксперимента 1920-х годов, провозглашенного представителями русского авангарда, а не как тривиальный факт научного шарлатанства или рутинной деятельности профессиональных психологов.
Философский мастер-класс формальной школы, или проблема вещи
Русских формалистов часто подозревали в отсутствии достаточной философской подготовки, подобной той, что была за плечами у западноевропейской традиции формальных исследований[111]. Однако очевидна содержательная связь первоначального методологического импульса формалистов с различными школами в психологии XIX–XX вв.[112], а главное – с феноменологическим проектом Эдмунда Гуссерля, имевшего активных протагонистов и в России, например в лице формально-философской школы Г. Шпета (см. ниже)[113].
От феноменологии русский формализм унаследовал и ряд проблем концептуально-систематического плана. В феноменологии «возврат к самим вещам» был связан с операцией или приемом трансцендентально-феноменологической редукции (один из источников понятия остранения у В. Шкловского), в результате которой экзистенциальные характеристики вещи оказывались как бы за скобками (аналогично понятию содержания у формалистов). Рассматривались только значение вещи, ее смысл и та модификация сознания, в форме которой это значение конституировалось (т. е., например, представление, суждение, оценка). Другими словами, с феноменологической точки зрения было совершенно не важно, существовал ли мыслимый таким образом предмет в реальности или нет. Главное – был ли он осмыслен, обладал ли ноэмой. Кентавр в этом смысле осмыслен не менее, чем человек и лошадь по отдельности, вот только модификации сознания (ноэза) будут разными: при мышлении кентавра мы имеем дело с представлением воображения или фантазии, а лошадь и человека можем воспринимать наглядно. Для феноменологии было важно показать, что сознание и коррелятивная ему сфера идеального столь же экзистенциально автономны, как и материальный мир. И более того, что только в ноэтико-ноэматической корреляции мир этот может быть открыт для человеческого сознания.
Но феноменологи, как позднее и формалисты, сталкивались с большими сложностями при систематическом проведении подобной исследовательской установки. Ибо трансцендентально-феноменологическую редукцию можно было понимать одновременно и как условно-методическую процедуру, которая впервые позволяет открыть сознание самому себе, и как универсальную характеристику самобытия сознания, которое как бы всегда уже спонтанно осуществляет операцию выключения реальности в режиме эпохи. Здесь мы сталкиваемся с тем же парадоксом, который в отношении формалистической концепции остранения сформулировал в упомянутой книге Оге А. Ханзен-Леве, когда писал, что остранение можно понимать одновременно как универсальный эстетический принцип и как конкретный, обусловленный исторической эпохой, единичный художественный акт.
Однако в отличие от формалистов феноменологи так и не смогли извлечь из этого парадокса концептуальных следствий. Когда Гуссерль наряду с миром идеального, миром смыслов – достояния установки феноменологической, вынужден был признать мир установки наивной, естественной, мир dox’a – мнения, мир вещей, он, по сути, отказался от своего первоначального радикализма. Ибо в понятии предметного значения сохранялся тот момент психологизма и натурализма, которому феноменология с самого своего возникновения вроде бы объявила бескомпромиссную войну.
Предположу, что трудности, отмечаемые исследователями раннего формализма в связи с понятием вещи и ощущением «каменности камня»[114] как требуемого эффекта искусства, обусловлены попыткой Шкловского соотнести свои интуиции с глоссарием неокантианской и феноменологической философии, крайне популярным в России начала XX в. Так, вещь Шкловский понимал как уже опосредованную восприятием (чувственным или интеллектуальным), т. е. рассматривал ее в плане представления. Поэтому и противопоставлял «автоматическое узнавание» вещи и ее «поэтическое видение», достигаемое усложнением формы. Последнее увеличивает, по Шкловскому, время восприятия, позволяя ощутить «каменность камня» как смысл вещи. Следует подчеркнуть, что восприятие здесь у Шкловского не сводится к чувственному, поэтому говорить только о сенсуализме и психологических корнях ранних формалистических подходов недостаточно.
Здесь же можно отметить принципиальное отличие понимания вещи в русской формальной школе по сравнению с неокантианской философией, от которой феноменология так до конца и не эмансипировалась. Проблема состоит в бессознательно осуществляемой в этих мыслительных традициях подмене смысла как такового смыслом восприятия соответствующих вещей. Акт такого восприятия оказывается в этом случае якобы единственным событием, которое может произойти с человеком в жизни. По сути это подмена события восприятием, т. е. тот же самый психологизм. Ибо восприятие восстанавливает бытие, понимаемое как наличие и присутствие, т. е. мир естественной установки, строй существующего уже мира, которому не нужны никакое искусство, никакая экзистенциальная альтернатива. Бытийный порядок, в котором логос выражается в голосе, гарантирующем, в свою очередь, самоналичие субъекта, – метафизическая цепочка, которую в феноменологической традиции поставил под вопрос уже Ж. Деррида[115].
Представляется, однако, что русское авангардное искусство, футуризм, тексты ОБЭРИУ и ряд теоретических усилий русских литературоведов 1920-х годов смогли обойти навязчивую альтернативу голоса и графизма, вернее, переосмыслить и понятие фонии, и понятие письма в концепциях «самовитости», «звукоречи», «звукописи» и «звукового праобраза» как основ поэтического образа[116]. Соответствующие концепты, к которым можно добавить оригинальное понимание символа Андреем Белым, Деррида едва ли смог бы использовать в качестве примера нерефлексивных и бессмысленных звуков и дыханий как эмотивных проводников некоего субъекта, удостоверяемого в своем бытии некритическим полаганием тождества логоса, смысла и голоса. Кроме того, они не улавливаются и классическими оппозициями выражения и изображения[117]. Ибо смысл образов в этих концепциях проступает именно на эвфонических, изобразительных элементах текста, открывая возможность аналитического прослеживания аффективной генеалогии образа.
* * *
Оставляя уже в покое понятие остранения как достаточно общую и абстрактную характеристику того нового и действительно необычного качества, которое приобретает привлекаемое содержание в результате работы художника, мы можем констатировать, что смысл у формалистов и позднего Белого перестает быть социальным назначением отдельных вещей, употребляемых в быту, как это формулировалось в московской феноменологической школе. Смысл ощущается здесь через восприятие произведения в целом, вернее, его ментального видения: не через понимание значений отдельных слов и даже предложений текста, а через интеллектуальное созерцание целого произведения на надфразовом уровне текста, экспликацию его звуковой и ритмической организации, позволяющие не просто видеть глазами, а как бы проговаривать, артикулировать написанное, фиксируя смысл в своеобразном повторе произведения в анализе.
Что же касается содержания, то поиск в нем всех ответов на вопросы о смысле произведения был неправомерен именно потому, что содержательный фон с формалистической точки зрения выступал в качестве прокладки здравого общезначимого смысла между сферой реального и художественным произведением. В последнем он остраняется, преобразуется, приобретая свой эксклюзивный поэтический смысл. Только это не смысл каких-то новых вещей, выраженных образно, а смысл самого художественного образа, который может и не иметь референта в физической реальности. Таким образом, смысл этот не является лишь прояснением некоей смутной фоновой картинки, а выступает следом какого-то события (возможно, идеального), произошедшего где-то между регулярным восприятием фона повседневности и творимым произведением искусства.
То, что речь не идет о внутритекстовом событии, должно быть более-менее понятно. Идея самореферентности текста только уводит в сторону от главной проблемы современных исследований литературы. Может быть, текст и самореферентен в отношении содержательных элементов – предметов или идей, но не в отношении своего аффективного a priori[118] как проявления того типа чувственности, которого не лишен пока ни один автор и исследователь как живой человек. Ибо именно описанные выше фактурные моменты произведения несут на себе следы этого a priori, позволяя говорить о необходимости восстановления если не фигуры автора-индивида (здесь возможно восстановление психологизма), то хотя бы автора как носителя и/или исследователя определенного типа чувственности, разыгрыванию и исследованию которого посвящено в основном его произведение.
Идея целого произведения, сформулированная в формалистической школе как смысловая связь всех материальных моментов внутри формы, позволяет поставить вопрос о семантике этой связи не только на надфразовом уровне, преодолевающем рамки лексических и грамматических форм, но и в пространстве, выходящем за пределы отдельного текста, – пространстве произведения. Антропологический анализ движется по направлению к идее целого произведения как некоей виртуальности, возникающей в качестве эффекта на пересечении серий биографических свидетельств, исторических и социальных контекстов и собственно исследуемых текстов, взаимно друг друга истолковывающих в перспективе прояснения типа чувственности, приобретающего доминирование в ту или иную историческую эпоху.
Феноменологи и футуристы. К вопросу об отношении Г.Г. Шпета к русскому авангарду
Среди учеников Гуссерля именно Шпету удалось одному из первых осознать необходимость переориентации феноменологических и, шире, философских исследований на проблематику искусства и непосредственный художественный опыт. Дело не ограничивалось только областью философской эстетики, нуждавшейся в срочной ревизии ее психологических предпосылок. Для школы и круга Шпета в Москве предреволюционных и первых революционных лет речь шла о создании общей науки об искусстве как философии искусства, не сводившейся ни к искусствознанию, ни к эстетике, хотя бы и лишенных традиционного для этих дисциплин психологизма. Задолго до Хайдеггера, а тем более французских протагонистов феноменологии, русские философы и искусствоведы, объединившиеся уже в 1921–1922 гг. на возглавляемом Шпетом философском отделении ГАХН, обратились к искусству не как к частному региону приложения феноменологичеких процедур, а как к посредствующему и даже привилегированному опыту сознания и, шире, опыту социальному и антропологическому как преимущественному предмету философского знания вообще. Такое расширение предмета философии (и одновременно его конкретизация) подготавливалось, разумеется, всем ходом развития западноевропейской философии начала XX в., но в случае российских философов, как и российских авангардистов, во многом его возглавлявших, оно было обусловлено революционными социальными процессами и событиями личной творческой биографии. Для Шпета переход в соответствующую сферу исследований не только не был неожиданным или вынужденным, но был совершенно логичным развитием его ранней попытки ревизии феноменологии («Явление и смысл», 1914) и реконструкции исторической логики гуманитарных наук («История как проблема логики», 1916).
Здесь мы ограничимся только вопросом оценки релевантности эстетической доктрины Шпета русскому художественному авангарду.
Известно, что Шпет достаточно скептически относился к футуризму, хотя и имел в виду под ним только громкие манифесты Маринетти и слабые стихи какого-нибудь Шершневича[119]. Последнее из современных ему направлений в поэзии, которое он принимал всерьез, была поэзия символистов, особенно А. Белого[120]. Именно применительно к такой поэзии, только и имевшей, по мнению Шпета, шанс вернуться к классике, надо понимать его слова о преимуществе поэтического опыта над опытом философским в отношении реальности при одновременном утверждении возможности его перевода «без остатка» на язык логики.
Но парадокс состоит в том, что из всего символистского круга именно выделяемый Шпетом Андрей Белый был праотцем футуристов и в поэзии, и в прозе, и в теоретических разработках. Поэтому нужно еще уточнять, к какому виду футуризма могли бы быть приложимы эстетические идеи Шпета, а какие виды подверглись бы негативной критике с его философских позиций. На наш взгляд, провести здесь принципиальные различия можно только на уровне интенционального анализа фантазирующего сознания, теории знаков и природы повседневного и поэтического языков.
Там, где Шпет движется проторенными тропами феноменологической эстетики, он вполне традиционный философский зануда, похожий на всех гуссерлианцев сразу: упомяну здесь любовь к классике и реализму (включающую, правда, Сезанна), опору на мимесис, Schönheitsästhetik, понимание тропов и символов как sui generis suppositio заранее помысленных идей, истолкование искусства как «прикладной философии» и т. д.[121]. Но, в отличие от позитивных реконструкций феноменологического опыта (М. Гайгер, Р. Ингарден, М. Дюфрен и пр.), Шпет исходит из острого ощущения утраты цельности бытия, уповая на возрождение стиля и «реализм духа»[122]. В таком реализме речь идет о мимесисе духа как воплощении смысла исторического бытия, а не о подражании какой-то вне истории и культуры существующей субстанции.
Однако проблема состояла в том, каким именно идеям должен этот неоклассицизм подражать, чтобы восполнить пресловутую утрату.
* * *
Искусство изначально интересовало Шпета не столько с точки зрения феноменологии восприятия, сколько в плане выражающих определенные культурные смыслы знаков. Соответственно типы знаков-признаков, оповещений и т. д. оставались вне поля интересов Шпета, хотя он достаточно подробно очертил их границы и функции. Отсюда следует, что беспредметное искусство и футуристическая поэзия, ориентируясь именно на такие виды знаков, располагались на другом семиотическом уровне и оказались не релевантны шпетовской стратегии понимания знаков как выражений смысла[123]. С ними феноменологической герменевтике просто нечего было делать.
Но здесь начинаются нестыковки. В тексте 1922 г. «Проблемы современной эстетики», планировавшемся в качестве части IV упомянутых «Эстетических фрагментов» и опубликованном в гахновском журнале «Искусство», можно встретить следы его близкого знакомства с идеями Кандинского, идущие вразрез с традиционными феноменологическими ходами. Не удовлетворяясь феноменологической корреляцией введенного им для онтологической характеристики произведений понятия отрешенного бытия и конституирующего его фантазирующего сознания, Шпет неожиданно замечает: «Простейшие геометрические фигуры могут быть “воображаемы” нами почти с чувственной наглядностью. Это, конечно, не есть чувственное “видение идеального”, а только некоторая экземплифицирующая подстановка фантазируемого “случая” на место умозримого предмета. Бытие такой воображаемой фигуры есть бытие отрешенное, но от этого оно не становится непосредственным предметом эстетического восприятия. Нужно выполнение каких-то дополнительных требований, нужны новые даты и новые акты, чтобы сделать воображаемую фигуру предметом эстетического созерцания, – например, сравнение данной фигуры с другими, заполнение цветом ее поверхности и сопоставление с другими цветными поверхностями и т. п.»[124].
Последнее замечание может служить пересказом экспериментов Кандинского с цветом и формой в те же годы[125]. И, кстати, надо заметить, что при всем своем антипсихологизме именно Шпет уже после отъезда Кандинского в Германию был (вместе с В. Экземплярским) инициатором создания экспериментальной лаборатории эстетико-психологических исследований с очень близкой цитированному фрагменту программой анализа эстетического восприятия[126]. Но его принципиальное отличие от Кандинского (и предмет спора с физико-психологическим отделением ГАХН) состояло в отказе от психологических предпосылок и объяснительных теорий, связанных прежде всего с ролью психологического субъекта, которые понимали сознание как психический процесс, безотносительно к усматриваемым в нем логическим смыслам и плану словесного выражения.
Поэтому далее в цитированной статье Шпет признает только относительную самостоятельность экспрессивной и изобразительной функции выражения в произведениях искусства, поскольку она не противоречит функции сигнификативносмысловой, а только надстраивает над ее формами свои – «поэтические» и «эстетические». Признание автономии искусств не означает, следовательно, устранения их субординации – явное предпочтение и перед музыкой, и перед изобразительными искусствами Шпет отдает поэзии. Понимание слова как «алгоритма культуры» означает, в частности, что только в словесных искусствах есть и своя мелодичность, и своя изобразительность, но не наоборот. Поэтому Шпет был против смешения различных искусств и функций искусства. И только поэзия обладает, так сказать, естественной синтетичностью. Получалось, что музыка и живопись могут выполнять только развлекательные функции, заполнять паузы между познавательной и практической деятельностью человека[127]. За поэзией же сохраняется привилегия утверждения прав действительности даже перед философией, хотя и в формах «отрешенного» бытия.
Даже в фантазии Шпет подчеркивал ее предметный характер, объективную, а не психологическую основу соответствующих актов, разрывая воображение и чувство. Фантазия характеризовалась им как акт отрешения от действительности и подражание идее, т. е. выступала в качестве интенционального, а не реально психического отношения субъекта к действительности. Соответственно уточнялась и формула «искусство как вид знания» – о когнитивных возможностях искусства Шпет пишет здесь в условной модальности[128]. Художник не подражает в этом смысле существующим вещам, а воплощает некоторый идеал вещи, впервые его реализуя. В этом состоит первенство искусства перед философией в отношении реальности, опосредованное, однако, некоторым предпонятым в коммуникативном языке и выраженным в слове смысловым содержанием.
Именно отсюда берет начало идея проекта реконструкции логики гуманитарных наук и создания философской науки об искусстве, предложенного Шпетом и его учениками для ГАХН и других научно-исследовательских институтов 1920-х годов. Она состояла в разработке герменевтического инструментария для понимания и интерпретации предосмысленных в словах коммуникативного языка положений вещей. Философия искусства представала здесь как способ осмысления человечеством самого себя в его истории через многоуровневый анализ знаков культуры и произведений искусства: «Искусство, эстетический предмет должны быть исследованы в контексте других видов и типов культурной действительности… Философия же культуры есть, по-видимому, предельный вопрос и самой философии, как сама культура есть предельная действительность – предельное осуществление и овнешнение, и как культурное сознание есть предельное сознание»[129].
* * *
Здесь также есть момент, существенно отличающий Шпета от Гуссерля. Ибо основатель феноменологии довольно четко связывал в 1-м исследовании тома II «Логических исследований» акты значения, обладающие функцией наделения смыслом, с одинокой душевной жизнью, а знаки как признаки – с функцией оповещения, т. е. с коммуникативной речью. По крайней мере, он указывал на более широкий объем применения знака как признака в коммуникативной речи и более узкий – в одинокой душевной жизни (коммуникации с собой). Для Шпета же, скорее, наоборот: логическое значение – результат историко-культурной практики, а номинативные знаки-признаки, знаки-указания – результат субъективного творчества.
Поэтому, например, опыты К. Малевича можно, скорее, хотя и с известными оговорками, соотнести с гуссерлевской логикой[130], нежели со шпетовской.
Тем более странным выглядит неузнавание Шпетом своей теоретической стратегии в практике левого авангарда и производственного искусства, также ориентировавшейся на язык, социальную природу артефактов, внешность-поверхность и т. д. Как и поздний отказ Шпета от прагматических аспектов в понимании природы искусства. Ибо еще в «Явлении и смысле» (1914) он интерпретировал смысл как социальную цель предмета и практику (смысл секиры – «рубить»)[131], что сближало его с производственниками. Да и как иначе можно понять цитированный призыв к «овнешнению» и утверждению в этом экстериорном режиме всей культуры как второй и даже «предельной» природы человека?
Представляется, что эти противоречия связаны со сложными обстоятельствами жизни первых послереволюционных лет. Соглашаясь, как и его ученик Н. Жинкин[132], с необходимостью очистительного пламени для культуры и придания ее новым формам чисто феноменального характера, Шпет в то же время не без основания боялся, что обратным движением по этой логике будет уничтожение ценностей классической культуры. Поэтому он и предлагает не вырывать их из контекста остальных сторон человеческой деятельности, разрабатывая сложную иерархическую структуру культурных форм, поднимаясь или спускаясь по которым, человек остается все-таки в своем жизненном мире.
Но даже когда в «Проблемах…» и не опубликованной в то время статье «Социализм или гуманизм»[133] он вроде бы восстанавливает права личности против своего раннего представления о ней как социальной вещи («Сознание и его собственник», 1916), речь идет просто о другом уровне анализа. Шпет и здесь четко отличает личность от индивида, и тем более от психологического субъекта познания[134]. Он просто хочет проложить культурную подушку между утраченной реальностью и агрессивными вызовами настоящего. Поэтому, не давая окончательного рецепта, Шпет ограничивается в своих «Эстетических фрагментах» призывом к школе и кропотливой экспериментальной работе, ставшей, в частности, содержательным импульсом к коллективным усилиям ученых ГАХН.
Но возможности для перехода искусства в открытую Кантом сферу возвышенного Шпет не видел, вернее, даже в рамках своей логики справедливо отклонял, замечая, что в результате произведение искусства может потерять свои эстетические критерии и качества в пользу метафизических, моральных и, вообще, идеологических. Здесь он, кстати, очень близок к позиции Шкловского. По всей видимости, речь тут идет просто о личных художественных пристрастиях мыслителей, часто встающих в противоречие с их революционными теоретическими положениями, и в этой связи, помимо Гуссерля, можно вспомнить и Маркса, и Ленина.
* * *
Итак, рассмотренные нами авторы сходились в том, что произведения искусства обладают собственным уникальным смыслом, причем расположен он не в психике автора или читателя, не в авторском замысле и не в истории искусства, а в самом произведении, на уровне его формального устройства, поверхностной организации знаков. Но вот в ответе на вопрос, в каких же элементах произведения он размещен и какими средствами можно до него добраться, у них имелись существенные разногласия, вернее, движения по разные стороны вышеупомянутой ленты Мебиуса.
Введение Шпетом и Шкловским близких понятий отрешенности и остраненности, указывающих на фантазматический, фиктивный характер искусства, было, конечно, прогрессивным шагом в ходе саморефлексии русской культуры, в которой некритическое смешение искусства и жизни часто приводило к опасным иллюзиям и заблуждениям.
Но отличать художественную иллюзию от жизни нужно не для наслаждения этой иллюзией, а для ее преодоления в перспективе трансформации реальности на основе моделируемого в искусстве идеала. Ибо по этой же логике можно дойти и до некритического примирения с действительностью в ее существующих формах.
Разумеется, у наших «формалистов» речь шла о другом. Например, для Шпета искусство выступало орудием и средством познания человеком самого себя и поэтому не должно было подменять собою его цели, во всяком случае, в такой головокружительной эскалации, которую предлагали в его время наследники футуризма. Справедливо его мотто: «Если жизнь есть искусство, то искусства нет»[135]. С другой стороны, подлинное искусство всегда может стать частью нашей жизни, не подменяя ее собой. Ибо оно подражает в пределе ее наиболее парадоксальной идее – смерти, полагающей предел и смысл всему остальному.
Освобожденная вещь vs овеществленное сознание. Взаимодействие понятий «остранение» (Verfremdung) и «отчуждение» (Entfremdung) в русском авангарде
Непредметное (ungegenständliches) существо есть невозможное, нелепое существо (Unwesen)…
Наша книжка преследует среди прочего достаточно конкретную цель: разобраться в отношении опытов русского футуризма, беспредметного искусства и левого литературного авангарда к социально-политическим процессам начала XX в., связанным прежде всего с марксизмом, т. е. с соответствующей критикой буржуазного, капиталистического строя и проектом коммунизма. Но эта задача поднимает такое количество проблем философского, эстетического, социального, политического и исторического характера, что только их перечислению могла быть посвящена целая глава. Поэтому здесь мы ограничимся только одним сюжетом – анализом связи такого важного понятия марксистского архива, как «отчуждение», с центральным концептом формалистской поэтики – «остранением».
Проблема предметности в этом контексте, безусловно, ключевая, и смысловую корреляцию понятий отчуждения и остранения можно провести только на ее основе, потому что именно здесь точка пересечения левой политики и авангардной поэтики. Главное, что связывает и одновременно разделяет марксизм и авангард, – это понимание вещи (das Ding) не как чего-то абстрактно противостоящего абстрактному же процессу познания и его субъекту, а как продукта социальной деятельности, конкретные формы которого определяются в контексте истории человеческих отношений, а не являются какими-то естественными данностями, которым остается только соответствовать, репрезентуя их в произведениях искусства.
Историографическая оправданность подобного сопоставления сомнений не вызывает, хотя содержательной текстуальной коммуникации между названными архивами, по крайней мере в рассматриваемый промежуток времени, а именно в 1920-е годы, почти не наблюдается[137]. С полной ответственностью здесь можно говорить не столько о текстуальных влияниях или глубоком знакомстве российских авангардных художников и литераторов начала XX в. с марксизмом, сколько о подобных процессах в искусстве, философии и политэкономической мысли, которые мы сегодня можем рассматривать в некоем едином проблемном поле, имеющем и актуальное значение.
Понимание вещи. Историко-философский экскурс
В контексте этой темы я бы выделил несколько основных подходов к пониманию вещи, которые имеют ряд пересечений и в синтезированном виде представлены в русском авангардном проекте как условном целом.
Отношение к вещи как к предмету познания можно считать общефилософской стратегией Нового времени, которая существенно не менялась до критики Маркса и Ницше, Фрейда и Бергсона. Несколько упрощая, можно сказать, что она менялась только в отношении понимания сознания, но не его предмета. Понимание же сознания двигалось от наивно-онтологического к аналитическому через стадии психологизма и феноменологической рефлексии. Во всех этих стратегиях можно наблюдать попытку по-своему восстановить утраченную по независимым от философов обстоятельствам связь человека с природой, так или иначе понимаемым общемировым единством, реальностью, бытием и т. д. Наличность вещей всегда воспринималась здесь как нечто само собой разумеющееся, сомнения возникали лишь в способности человека эту вещность адекватно воспринять. Проблема, разумеется, состояла не в пресловутом разделении на идеалистов и материалистов, а в попытках опереться на какую-то существующую причину, помимо человеческой деятельности, – автономно существующую вещь, понятие которой опосредовало любое истолкование собственно человеческих вещей, произведенных в культуре. Здесь не важно, каким образом эта вещь истолковывалась: как материальная или спиритуальная субстанция, как индивидуализированное или родовое сознание, психическое бытие и т. д. Даже когда оно понималось как понятие самого себя (Гегель), проблемы вещи это не решало.
Вплотную к ее постановке философия приблизилась только через концепты обуславливания (Bedingungen), овнешнения (Entäußerung, Veräußerung) и отчуждения (Entfremdung), характеризующие собственно человеческую практику. Понятие отчуждения, происходящее из юридического языка и означавшее отчуждение прав индивида в пользу общества и государства в результате общественного договора, имело еще и другой смысл, происходящий от английского alimentation и немецкого Veräußerung – выбрасывание товара на рынок.
В немецком идеализме (Фихте, Шеллинг, Гегель) понятие «отчуждение» объясняло природную жизнь вообще и человеческую в частности. Отчуждение, о котором при этом шла речь, представляло собой разнообразную оторванность объекта от субъекта, материи от сознания, интеллекта от чувственности, индивида от общества и т. д., обнаруживаемую разными философами в абстрактном процессе рефлексивной мысли.
В монографии о раннем Гегеле Д. Лукач писал: «Философски отчуждение означает то же, что “вещность” или “предметность”: оно представляет собой форму, в которой получает философское выражение история возникновения предметности, предметность как диалектический момент на пути самотождественного субъект-объекта через “отчуждение” к самому себе»[138].
Фейербах, Маркс, Кьеркегор, Ницше каждый по-своему попытались представить приключения этого абстрактного сознания философствующего индивида, абсолютного духа или Бога как выражение реальных практик и отношений, в которые вступают между собой люди в истории. По словам Карла Лёвита, этих представителей революционного перелома в философии XIX в. объединял отказ от тотальности и субстанциальности сознания, обнаружение за оболочкой отношений вещей реальных человеческих отношений и, главное, пафос изменения установленного порядка жизни, предчувствие и даже провоцирование радикальных социальных изменений и революции[139].
Так, Маркс критиковал классическое понимание овнешнения или опредмечивания, доказывая, что отчуждение человека от собственной сущности имеет место прежде всего в условиях капиталистического способа производства: «В качестве полагаемой и подлежащей снятию сущности отчуждения здесь выступает не то, что человеческая сущность опредмечивается бесчеловечным образом в противоположность самой себе, а то, что она опредмечивается в отличие от абстрактного мышления и в противоположность к нему»[140].
Но этот радикальный ход только отчасти снимает (aufgehoben) интуицию отчуждения в немецкой философской классике.
Классиков можно было упрекать в личной буржуазности, но предположить, что их размышления были целиком детерминированы социально-политически, было бы упрощением. Марксова критика того же Гегеля оправдана попыткой последнего примириться с положением человека в условиях его тотального отчуждения, подкрепленного иллюзорной тотальностью Абсолютного Духа.
Философская позиция самого Маркса не была свободна от метафизических допущений. Но раннему Марксу, как и Ницше, удалось указать на область, из которой только и мог в дальнейшем возникнуть вопрос о свободной вещности как метафоре свободного человека. Речь идет об области специфически человеческой телесности, находящейся в амбивалентных и противоречивых отношениях с телами остального мира. Ранний Маркс не редуцировал специфику человеческой телесности к более элементарным природным процессам, хотя в дальнейшем по чисто политическим причинам марксистский дискурс ушел в сторону экономического детерминизма и материалистической редукции. Аналогичный биологический редукционизм демонстрирует на первый взгляд и дискурс Ницше. Подробно разбирать здесь этот вопрос не входит в мою задачу, хотя, в отличие от марксистских, следует рассматривать соответствующие «сильные» идеи Ницше исключительно в качестве биологических метафор более сложной телесной жизни человека[141].
Психологические школы конца XIX – начала XX в., неокантианство и брентано-гуссерлевская феноменология вписываются в уже упомянутые рефлексивно-психологические модели понимания сознания, в которых вещь подменялась ее логической схемой – предметом, а декларации поиска вещного смысла маскировали сведение всего многообразия человеческой событийности к трансцендентально-психологически понимаемым процессам познания и сознания.
В феноменологии Гуссерля, предысторию которой (Ф. Брентано и др.) я здесь опускаю, присутствует наряду с этим очень важная для нас проблематика нейтрализации и эпохе (epoché) как воздержания от экзистенциальных суждений[142]. Однако ограниченность феноменологии была связана с невозможностью в пределах ее предпосылок осуществить заявленный проект феноменологической редукции до конца, до полного преодоления метафизических подпорок, сохраняющихся в понятиях трансцендентального субъекта и предметного сознания, которые оказались лишь двойниками души и эмпирического субъекта.
Поэтому, в частности, критика Гуссерля его русскими учениками, во многом обусловленная марксизмом, одновременно выступала одним из источников понимания вещи в русском футуризме и формализме, несмотря на их разногласия в области эстетики. В частности, речь идет о понимании Г. Шпетом и его учениками смысла как социального назначения вещи. Аналогично на вещь смотрели и некоторые футуристы, идеолог ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка) В. Шкловский и теоретики журнала «ЛЕФ» С. Третьяков, Б. Арватов, О. Брик, Б. Кушнер[143]. Однако имплицитная теория вещи в русском формализме и футуризме существенно отличается от описанных подходов ввиду принципиально иного понимания природы искусства и творческой деятельности (см. раздел «Между бессмыслицей и абсурдом…»).
Перед попыткой ее экспликации вернемся к марксизму. Лежит на поверхности, что положение пролетариата, как оно было описано ранним Марксом в терминах отчуждения, овеществления и беспредметности, по формальным признакам близко со статусом беспредметного артефакта в авангардном искусстве и поэзии раннего футуризма. Пролетарий описывается Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.»[144] и «Немецкой идеологии»[145] как существо, с одной стороны, овеществленное в рамках капиталистического способа производства, превращенное в товар среди других товаров, а с другой – лишенное всяческой предметности: «Этот факт выражает лишь следующее: предмет, производимый трудом, его продукт, противостоит труду как некое чуждое существо, как сила, не зависящая от производителя. Продукт труда есть труд, закрепленный в некотором предмете, овеществленный в нем, это есть опредмечивание труда. Осуществление труда есть его опредмечивание. При тех порядках, которые предполагаются политической экономией, это осуществление труда, это его претворение в действительность выступает как выключение рабочего из действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета и закабаление предметом, освоение предмета – как отчуждение». И далее еще более выпукло: «Рабочий вкладывает в предмет свою жизнь, но отныне эта жизнь принадлежит уже не ему, а предмету. Таким образом, чем больше эта его деятельность, тем беспредметнее рабочий»[146].
Мы имеем здесь два вида вещности: ту, которую человек в процессе развития трудовой деятельности теряет, и ту, которую приобретает в качестве товара на рынке труда. Одну из задач коммунистической теории и практики революции Маркс видел в освобождении человека от товарного типа вещности и возвращении ему вещей как частей социального мира, созданных его неотчужденным трудом, – вещей, в которых он, как в зеркале, мог бы узнать самого себя, свою человеческую сущность, а не утвердить лишь свое состояние в качестве вещи-товара, т. е. средства для поддержания физической жизни.
Перефразируя С. Жижека, который, в свою очередь, перефразирует Ж. Бодрийяра и Т. Адорно, можно сказать, что, прежде чем исчезнуть с холста и из стихотворной строфы, вещи, а вместе с ними и психологический человек, утратили свою потребительскую стоимость и стали абстрактными представителями капитала в качестве товаров, обладающих только стоимостью обменной, меновой.
Но, по идее Маркса, именно с проявлением этой экономической формы в капитализме человеку открылась и возможность освобождения от нее, ибо до этого она была замаскирована отношениями господства и подчинения как неким естественным положением дел. В свою очередь, буржуазная идеология даже в большей степени, чем ей предшествующие, претендовала на статус естественности своих персонажей и отношений. Марксизм, собственно, выявил те реальные отношения между людьми, которые функционировали за видимыми отношениями вещей в социальном поле.
Кстати, в этом смысле русский футуризм и авангард были действительно продуктом буржуазной культуры, в чем их постоянно упрекали большевистские функционеры, однако они являлись буржуазным продуктом ничуть не в меньшей степени, нежели фигура самого пролетариата и учение марксизма, выдвинувшее ее на передний край исторического развития.
С начала 10-х годов XX в. художественный и литературный авангард демонстрирует в своих произведениях аналогичную предметную утрату, т. е. производит самоутраченные вещи, не соответствующие никакой реальной предметности. При этом футуристы делают это так, что произведенная вещь не превращается у них в иллюстрацию абстрактной идеи социального сопротивления, не повествует никакой истории про хозяина и работника в либерально-демократическом духе. Футуристический продукт представляет собой полновесную вещь, исполненную бессмыслицы, он ведет свое происхождение не из психики или сознания, а из той сферы телесного опыта, которая располагается между ощущением тела как части объектного мира уже завершенных вещей и потоком приватных телесных ощущений, собираемых в некое психосоматическое единство[147].
Футуристический опыт не удовлетворяется ни отражением вещей объективного мира и подражанием античной идее-образцу, ни самовыражением авторского «Я». В отличие от символизма, футуристический артефакт не только не символизирует сущностей более реального, чем он сам, мира, будь это мир экономики или психической жизни человека, но и не спекулирует на упомянутой символической утрате, подменяя ее образомсимволом, имеющим характер фетиша-эрзаца (ср. понимание образа у А. Белого)[148].
Однако футуризм не довольствуется и этим неопределенным положением «между», манифестируя материальность аффективного телесного опыта и, таким образом, иное понимание природы отношений человека и мира вещей вообще.
Призывы футуристов вернуть слову свежесть и первоначальную, допонятийную материальность были связаны с разрушением ее чисто знаковой функции, с разрывом традиционной связи слова и смысла. Идея «самовитого слова» из «Пощечины общественному вкусу» предполагала понимание слова как новой вещи, непосредственное восприятие которой самоценно, т. е. не нуждается еще и в представлении обозначаемого им предмета. При этом футуристы не делали особого акцента и на реальности чувства, которое также располагалось бы вне самого слова, в человеческой психике. Само наличие чувства еще не является алиби для этого искусства, ибо чувство может быть исключительно субъективным и обманчивым. Другими словами, задача не сводится к тому, чтобы искусство представляло реальность чувств. Это был бы только вариант идеалистического психологизма, характерный, например, для экспрессионистского проекта В. Кандинского, раскритикованного позднее в Институте художественной культуры (ИНХУК) и «ЛЕФе».
Речь шла, скорее, о трансгрессивном телесном опыте, превосходящем чувственные способности человека, который только частично может быть передан через миметические каналы языка. Собственно, заумь и демонстрировала нарушения и помехи на пути этой передачи. Именно в этом смысл заявлений футуристов о чувственности и материальности самого слова, отдельных букв и даже звуков. Слово провозглашается самодостаточным в том смысле, что является становящимся событием языка как социального явления. Вопрос только в том, как мы будем понимать эту социальную вещь в отношении, с одной стороны, к природным вещам, а с другой – к человеку.
Здесь у представителей русского футуризма и левого литературного авангарда имелись расхождения. Раскритиковав условность и фикциональность традиционного понимания вещи, ее фетишистский характер, футуристы колебались между идеей нового зрения и восприятия и своеобразным онтологизмом слова, буквы, почерка и футуристической книги как sui generis «новых вещей».
Причина этой двойственности – недостаточная философская база русского авангарда, отсутствие соответствующей их опытам отечественной философской традиции и довольно случайные, несистематические попытки привлечь для самоидентификации философскую теорию (от использования А. Крученых и М. Матюшиным идей П. Успенского до попытки Н. Горлова и Б. Арватова поставить на службу футуризму отдельные философские и эстетические положения марксизма).
Но даже у теоретиков и практиков «ЛЕФа» и «Нового ЛЕФа» расхождения эти не доходили до разрыва с общей авангардной стратегией, выраженной еще в ранних футуристических манифестах. Схожим образом и у формалистов, табуировавших вроде бы всю «содержательную» область искусства, интерес к его смыслу не исчерпывался статистическими подсчетами гласных и согласных звуков, звуковых повторов и т. д. По Шкловскому, подлинное искусство вообще и авангардное особенно производит свой артефакт, вырывая с помощью приема остранения восприятие из автоматизма повседневной жизни и возвращая знаку полноценное чувственное ощущение, например «каменность камня».
В этой интуиции также присутствует упомянутая двусмысленность в понимании вещи[149], разрешение которой возможно на пути осознания приема остранения как внутренней характеристики самой критической работы, претендующей на спасение произведения в актуальном времени восприятия и критики (В. Беньямин)[150].
Прием остранения понимается при этом как уникальное и сингулярное событие каждого конкретного произведения, т. е. феномен не структурного, а произведенческого порядка. Он выступает одновременно и как принцип критики, и как характеристика литературного произведения. Цели критического текста в этом смысле совпадают с целями анализируемого литературного произведения: в обоих случаях речь идет о различных «способах увеличения ощущения вещи» (В. Шкловский)[151] как символического восстановления упомянутой выше утраты[152].
У Шкловского, как и у раннего Маркса, речь идет не об отказе от вещности вообще, а о поиске иного ее понимания – о вещности как телесном бытии самого артефакта, не нуждающемся в двойнике так называемых «реальных вещей».
Подобно тому как условием освобождения пролетариата, по Марксу, выступает само это отчуждение, эта его лишенность вещности и пустая товарная форма, которую нужно чем-то заполнять, в искусстве, по Шкловскому, остранение выступает условием обретения смысла художественного произведения как восстановления ощущения реальности человеческой жизни, полноценной чувственности.
Остранение – это, по сути, операция, обратная отчуждению в гегелевско-марксистском смысле, это возвращение некоей предметной ситуации из сферы рациональной в сферу чувственную, сопровождаемое наполнением слова вещным смыслом и полновесным ощущением. Это превращение предмета сознания в телесную вещь, деколонизация вещного мира, его освобождение от всевластия сознания, ставшего в истории инструментом в том числе и эксплуатации человека человеком.
Дальнейшее движение мысли в этом направлении неизбежно подводит к идее понимания вещности не как состоявшегося бытия, а как потока телесного становления и особого рода пороговых событий его восприятия, которые доступны человеку только в произведениях подлинного искусства, являющихся в этом смысле авангардными для своего времени.
Футуристическая идеология и теория формализма соответствуют этим современным философским концептам в гораздо большей степени, чем запретительным феноменологическим процедурам или психологическому релятивизму. Такой чуткий мыслитель, как В. Шкловский, не мог этого не понимать. Поэтому, когда в ответе Л. Троцкому (книга «Гамбургский счет») он пишет, что смысловой материал произведения также художественно оформлен, это вовсе не означает, что смысл уже локализован и вопрос лишь в том, как его оформить. Это означает, напротив, что форма придает имеющему только обыденный смысл материалу совершенно новый смысл.
Вопрос только в том, как художник это делает. В понятии остранения как приема мы имеем лишь самое общее направление дальнейших исследований вопроса о природе художественного стиля. Ибо заранее, т. е. до того как художник применяет этот прием, говорить о нем как о стиле не представляется возможным. Речь идет, следовательно, о происхождении художественной формы, которая, по крайней мере, для Шкловского никогда не сводилась к представлению об объективно существующем языке и его законах или о таланте художника применять их к пресловутому «материалу». Талант этот («мастерство») нужно еще объяснять, чтобы он не выглядел божественным даром или мистической способностью.
Необходимость обращения к антропологии художественного произведения и к биографии не как к определенным научным и художественным жанрам, а как к способам психо– и антропоанализа самой формы, была осознана уже в формализме. В «Третьей фабрике» читаем: «Изменяйте биографию. Пользуйтесь жизнью. Ломайте себя о колено. Пускай останется неприкосновенным одно стилистическое хладнокровие. Нам, теоретикам, нужно знать законы случайного в искусстве. Случайное – это и есть внеэстетический ряд. Оно связано не каузально с искусством. Но искусство живет изменением сырья. Случайностью. Судьбой писателя… А сюжетные приемы лежат у меня около дверей, как медная пружина из сожженного дивана. Умялись, не стоят ремонта»[153]. Очевидно, акцент с формы переходит здесь на содержание, но при сохранении кавычек, т. е. при понимании условности самого этого разделения. Формулировка из «Гамбургского счета» это только подтверждает: «“Содержание” – одно из явлений смысловой формы. Мысли, входящие в произведение, – материал, их взаимоотношение – форма»[154].
То же самое можно сказать и о Р. Якобсоне, который в тексте на смерть Маяковского недвусмысленно писал: «Наука о литературе восстает против непосредственных, прямолинейных умозаключений от поэзии к биографии поэта. Но отсюда никак нельзя делать вывода о непременной неувязке между жизнью художника и искусством. Такой антибиографизм был бы обратным общим местом вульгарнейшего биографизма…»[155].
Этот подход, в принципе, не противоречит и ранней редукционистской концепции ОПОЯЗа[156], и социальной антропологии раннего Маркса.
В уже цитированной работе Маркс писал, что человек, в отличие от животного, не принадлежит исключительно природной среде, создавая собственную природу – социальную. В этом смысле он является родовым существом, иным по отношению к родам животного, растительного и неорганического миров на основании своей универсальности. Но он не перестает при этом быть вполне материальным, природным существом. Таким образом, ранний Маркс отмечает наличие у человека двух тел – неорганического тела природы, которое он присваивает и универсализует в себе, и собственно человеческого тела: «Практически универсальность человека проявляется именно в той универсальности, которая всю природу превращает в его неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности. Природа есть неорганическое тело (Leib) человека, а именно – природа в той мере, в какой сама она не есть человеческое тело (Körper). Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы»[157].
Таким образом, человек, по Марксу, изначально раздвоен и раздваивает соответственно своему двойственному положению мир, части которого оказываются несводимыми, выступая постоянным источником противоречий человеческого сознания и бытия. При этом отношение между его «телами» понимается здесь не в односторонней логике «часть – целое». Индивид выступает таким же целым, по отношению к которому целое общества и природы выступает его частью, и наоборот. В этой логике индивид является частью общества, но и общество является его частью, никакого же объемлющего их целого не существует.
Этим интуициям раннего Маркса вполне адекватны положения о независимости искусства от государства, высказанные футуристами в первые годы советской власти, и формалистская идея автономии социальных рядов. Но им резко противостоит более поздняя концепция базиса и надстройки с принципиальным материальным редукционизмом, только замаскированным диалектикой обратных отношений с надстройкой.
Жак Деррида в «Призраках Маркса»[158], ссылаясь на работы М. Бланшо, отмечает эту гетерогенность марксизма, обусловившую его взаимно противоречивые исторические интерпретации. Речь идет о неразрешимом противоречии в марксизме между революционной теорией, постулирующей возможность изменения природных законов бытия в социальной сфере постольку, поскольку они противоречат сущности человека как свободного существа, и его научным монистическим характером, который восстанавливает эти законы на следующем витке исторического развития. На этот же момент в связи с извращением марксизма у Ф. Энгельса обратил внимание ранний Лукач в «Истории и классовом самосознании»[159].
Но акцент на единообразии социальных и природных законов устанавливает совершенно иного типа связь между описанными в раннем марксизме частями человеческого мира и эксплицирует принципиально иную антропологию и эстетику. Здесь мы не будем разбирать попытки разрешить эти противоречия в диалектическом материализме советских времен. Для нас важно, что отмеченным гетерогенным сторонам марксизма соответствуют и совершенно противоположные подходы к искусству.
Очевидно, что проект русского авангарда коррелировал только с первой из отмеченных сторон марксизма. Придание же логике революции законосообразного квазиприродного характера неизбежно устанавливало главенство единого принципа отражения в эстетике, а значит, и консервативную миметическую программу подражания идеям-образцам. Уничтожение статуса автономии искусства и утверждение его подчиненного, зависимого от претендующего на тотальность социально-политического бытия положения в 1930-е годы явилось только логичным следствием этой идеи.
Можно согласиться с позицией О. Ханзена-Леве[160], что социальная утопия Маркса и неомарксизма носила во многом эстетический характер, ориентируясь на некий эстетический идеал вещи, в которой человек мог бы узнать самого себя, т. е. художественной вещи, и соответствующего понимания труда как творчества. Проблема состояла в том, что само творчество традиционно понималось в марксизме как труд, только не отчужденный. Именно подобное некорректное смешение понятий, пути которых исторически разошлись, позволило раннему Марксу провозгласить оптимистический тезис победы над рутинным трудом при коммунизме в перспективе его машинизации. Но эта же неразличенность художественного творчества и труда, так называемый монизм труда, явившийся следствием общефилософских материалистических установок марксизма, стал главной причиной дальнейших упрощений этой темы у позднесоветских марксистских теоретиков. Вообще ограничение Марксом области отчужденного труда только капиталистическим производством и проект реабилитации труда в условиях производства социалистического не оставили левому авангарду никаких шансов на выживание в 1930-е годы.
Интуиция русского авангарда шла вразрез с политически ориентированным марксистским дискурсом, согласно которому искусство могло революционизироваться как бы автоматически, через воздействие базиса (новых производственных отношений) на надстройку, частью которой якобы выступает искусство. Речь идет об интуиции неизбежного отчуждения человека в трудовом процессе как в рациональном подчинении мира и противопоставления ему художественной практики как альтернативы. Все романтические и идеалистические издержки этой мысли ко времени ее возрождения в кругах русских футуристов и формалистов были учтены и сняты в той же феноменологической философии и марксизме. Поэтому совершенно справедливая претензия Лукача к романтизму XIX в. (глава «Овеществление и сознание пролетариата» в книге «История и классовое сознание»[161]) в постреволюционной ситуации Советской России уже не работала. Футуристы искали выход из лукачевской альтернативы в марксистской по происхождению идее «жизнестроительства», совмещенной с идеей автономности социального ряда, которую выдвинули формалисты. Основой различия позиций здесь выступало иное понимание человеческой деятельности, по преимуществу творческой. Последняя противоположна труду по целому ряду характеристик, важнейшей из которых является его источник и отношение к конечному продукту. Ибо труд служит, в конечном счете, удовлетворению материальных потребностей и накрепко привязывает человека к природе, несмотря на все отличия от других природных существ. То же самое следует сказать и о различии конечного продукта в искусстве, в котором он носит неутилитарный характер, и продукта труда, который потребляется моментально, хотя и может выступать непосредственно непотребляемым звеном в цепи потребления.
Но главное отличие продукта творчества от продукта труда состоит в тождественности художественного продукта самому его производству. В том смысле, что произведение искусства именно и есть этого искусства про-изведение. Не об этом ли писал Шкловский: «Искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»[162]? Эта идея выводит нас к принципиально новому по сравнению с предшествующей традицией пониманию художественной вещи как события и чувственно-телесного становления, противостоящему одновременно объективизму и потребительско-эстетическому отношению к искусству.
Именно иное понимание практики в искусстве, противоположный труду способ производства вещи и связывает принципиально понятия отчуждения и остранения. Остранение и отчуждение характеризуют два разных способа опредмечивания человеческой практики. Но было бы неверно противопоставлять творчество и труд как два независимых ствола исторически расколовшейся человеческой практики. Отношения между ними сложно опосредованы, и подобные эксклюзивные различения являются не более чем абстракцией[163].
В вышеупомянутом понимании смысла как социального назначения вещи присутствовала не только утилитарно-потребительская сторона, но и направленная против абстрактности чисто созерцательного подхода идея отношения человеческого тела к миру социальных и природных тел[164]. Именно из этого контекста я предложил бы интерпретировать утилитаризм Б. Арватова, О. Брика, С. Третьякова и Н. Чужака с их критикой автономии искусства и всю программу производственничества и литературы факта в целом.
Оге А. Ханзен-Леве в своей книге о формализме убедительно показал, что теоретики и практики ЛЕФа принципиально не отступали в этих пунктах от самых ранних футуристических и формалистических позиций. Я не буду воспроизводить здесь аргументацию этого замечательного немецкого ученого, но полагаю, что она полностью опровергает ту предвзятую идею, что комфутуристы и лефовцы были крестными отцами соцреалистического канона.
Социальный утопизм ЛЕФа никогда не шел так далеко, чтобы можно было считать левую утопию уже осуществленной. Напротив, лефовцы в один голос требовали «продолжения банкета». Но если до революции футуризм только констатировал утрату цельного объекта-предмета без того, чтобы ее оплакивать или замещать фетишами-символами, то после революции комфутуристы разрабатывали программу по ее реальному восстановлению. Проблема, однако, заключалась в том, что как раз реально это было осуществить невозможно, особенно в условиях социальной стабилизации. Они прекрасно понимали, что проблема труда после революции принципиально решена не была. «ЛЕФы» формулировали эту проблему как продолжение «революции вкуса», направленной на изменение пролетарской чувственности, ее освобождение от стереотипов рабско-господского быта. Они никогда не согласились бы просто отражать художественными средствами якобы освобожденные в социальном поле вещи, возвращенные их производителям. Тем более что это реально не произошло в условиях нового советского производства и хозяйствования. И дело, мне кажется, не только в том, что в противном случае для искусства не оставалось той реальности, которую оно могло бы остранять. Поэтика футуризма вообще не соответствовала устойчивой социальной организации, оказавшись более адекватной непрерывной революционизации всех сторон жизни, в прямом соответствии с идеями жизнестроительства.
Позиция футуризма и формализма следовала здесь, скорее, более пессимистическому, слабомессианскому истолкованию марксизма, который идет еще от анализа товарного фетишизма у Г. Зиммеля через раннего Г. Лукача и В. Беньямина. Этот подход предполагал несколько отличные от марксистских выводы из прочтения немецкой философской классики – Фихте, Шеллинга и Гегеля. Для последних отчуждение (Entfremdung) или овнешнение-обусловливание (Entäußerung-Bedingung) более полноценно демонстрировало общую трагичность человеческого бытия, которую не способна «снять» утопия земного рая[165].
Русский авангард в интерпретации этой темы пошел дальше Маркса путем расширения области отчуждения до пределов абсурда и далее – до космической беспредельности смерти (А. Платонов). Из путешествия за утраченными в капитализме антропологическими ценностями он возвратился не в миф потребительской стоимости как истины неотчужденного труда, а в машинную утопию отложенной социальной смерти. Но надо заметить, что эта интерпретация не означала отказа от идеи революции, скорее, напротив, она предохраняла ее от возможного перерождения и реакции. В этом контексте остраняющий эффект любого подлинного (в том числе и авангардного) искусства, открытый В. Шкловским, был ответом на отчуждающее действие наемного труда как отрицание его отрицания.
Подобное отрицание не предполагало, разумеется, спасительного синтеза в качестве художественного аккомпанемента или алиби первичной негативности труда. Оно, скорее, выводило на свет учредительное насилие, лежащее в его основе, обнажая формальные условия такой метаморфозы и как бы удваивая отрицание. И только в горизонте теории производственного искусства и литературы факта термин «остранение» приобрел уточнение и конкретизировался в качестве формальной характеристики новых художественных вещей, одновременно остраняющих старый быт и строящих новый жизненный мир свободного человечества.
Экскурс 2. «Театрализация жизни» как стратегия политизации искусства. Н.Н. Евреинов
Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) – режиссер и теоретик театра, активный участник и основатель ряда экспериментальных театральных проектов начала XX в. («Кривое зеркало», «Привал комедиантов», «Бродячая собака»), изобретатель жанра монодрамы, автор ряда содержательных работ по истории и философии театра. Принял русскую революцию, но затем всетаки эмигрировал в Европу. Во Франции стал масоном и постановщиком первого звукового французского фильма. Евреинов актуален сегодня как автор концепции «театрализации жизни», которую он наиболее масштабно воплотил в массовой постановке 1920 г. «Взятие Зимнего дворца» в Петрограде.
Постановка эта, как и философия театра Евреинова, представляет, с нашей точки зрения, показательный пример автономного политического действия интеллектуала и деятеля культуры в современном мире, которое при этом не теряет формы художественного произведения. Оставаясь, таким образом, в границах искусства, подобное действие, однако, перманентно размечает их заново, постепенно отбирая у социальной реальности исконно ей принадлежавшие территории, тем самым детерриториализуя социально-политический мир и его игроков.
Жизненность искусства vs театральность жизни
Прежде всего надо сказать, что Евреинов поставил под сомнение различные фигуры искренности, пафос подлинности, откровенности в искусстве, в первую очередь театральном. «При современной нивелировке переживаний искренность в общении людей стала отъявленной скукой», – пишет он в 1912 г[166]. Здесь его позицию можно сопоставить с критикой Фуко тезиса об открытии и раскрепощении сексуальности в современной эпохе по сравнению со Средневековьем. Подобно тому как Фуко видел в христианском мире падших тел и греховности наиболее натуральное выражение сексуальности, Евреинов усматривал адекватное выражение природного смысла такого существа, как человек, в его театральности, способности и желании тотально инсценировать все стороны жизни, вплоть до события смерти.
Как следствие, Евреинов отвергал стратегию «жизненности» искусства и театра как «части жизни», понимание искусства как отражения-соответствия некоей реальности, чистый реализм, к которому стремился русский театр и до, и после Октябрьской революции 1917 г., прежде всего в системе К.С. Станиславского.
На огромном количестве примеров Евреинов пытался обосновать идею наличия своеобразного театрального инстинкта и его первичности по отношению к религии, сексуальности, искусству и самому театру в узком смысле. Источник и наиболее адекватное выражение этой природной театральности он обнаруживал при анализе детских игр, первобытных обрядов и культов. Театральный момент в антропо– и филогенезе играет, с его точки зрения, не только ключевую, но и преобладающую роль, предшествуя логике технического прогресса и рациональной экономике социальной жизни.
По Евреинову, было бы неверно понимать происхождение искусства и театра из потребностей охоты и ведения войны, т. е. чисто утилитарных соображений. «Не для устрашения врагов или удобства воины продевают себе в нос рыбью кость, от которой трудно дышать и плохо видно, а для радости самоизменения»[167], желания выйти за границы природы, – утверждает он в статье «Театрализация жизни». Основные технические изобретения цивилизации появлялись не ввиду потребности восполнения природного дефицита, соображений экономии сил и борьбы за выживание, а в ситуации бесполезной растраты энергии, игры[168].
Но тезис тотальной театральности жизни только острее ставит вопрос об отношении театра и жизни. Пресловутое шекспировское понимание жизни как театра размывает границы жизни и искусства, смешивает театр в таком широком смысле и театр как искусство с его автономными все-таки художественными задачами, имманентной художественной формой, собственными технологиями, эволюцией, историей и т. д.[169]
Выход из этого затруднения следует искать в понимании Евреиновым театра (и вообще искусства) как альтернативной жизни, жизни только возможной, а не нашей бытовой, подчиняющейся экономическим и политическим законам. Театр не у́же жизни в таком понимании и не шире ее, он не является ни ее частью, ни отражением. Он – альтернатива, но не общему понятию жизни в пользу какой-то грезы или вымышленной утопии. Театр – альтернативная модель социальной жизни, которая сама насквозь театральна, подчиняясь воле и вкусам «бездарных режиссеров» от политики.
По сути, Евреинов попытался посмотреть на театр с точки зрения самого театра, как Гуссерль в те же годы феноменологически рефлексивно смотрел на сознание, Дильтей с точки зрения переживания – на человеческую жизнь и историю, а Лукач с марксистской точки зрения – на сам марксизм. В статье «Театрократия» Евреинов ставил задачей театру не отражение «правды жизни» и не исправление нравов, а удовлетворение желания к преображению «Я»[170], к театральному инсценированию не осуществимых в социальной жизни фантазмов.
Евреинов считал, что такое главное назначение театра как искусства не может быть достигнуто путем эстетизации действительности: «Что мне толку в эстетике, когда она мешает мне творить свободно другую жизнь, быть может даже наперекор тому, что называется хорошим вкусом, творить, чтобы противопоставить мой мир навязанному мне, творить совсем с иной целью, чем творится произведение искусства! Последнее имеет в виду эстетическое наслаждение, произведение же театральности – наслаждение от произвольного преображения, быть может эстетического, а быть может и нет, что не важно»[171]. Поэтому он определял свою концепцию как преэстетизм – «искание смысла жизни вне прекрасного в строго эстетическом отношении»[172].
Евреинов радикально отказывался от философии субъекта и от эстетики, построенной на учении о его психических способностях. Чтобы добраться до подлинного смысла человеческого существования, необходимо изначально, пользуясь феноменологическим языком, выключить натуральное эго. Смысл этот, по Евреинову, – стать Другим, претерпеть становление Другим, как мы могли бы сказать сегодня словами Жиля Делеза. Становление Другим имплицирует единственно обоснованную этику Другого, отсутствие которой – фундаментальный изъян большинства философских доктрин XIX–XX вв.
Подозрение к натуральному «Я» роднит подход Евреинова с психоанализом. В двух его статьях описан метод своеобразной социальной психотерапии, которую он называет театротерапией[173]. Речь идет о постановке спектакля в школе, где мальчики ухаживали за одной девочкой, а она дурачила большинство из них, предпочитая одного. Сложилась травматическая ситуация, и учитель предложил разыграть эту реальную ситуацию по ролям, чтобы дети выражали в театральных образах собственные характеры и близкую по смыслу историю Коломбины и ее поклонников. Результат был феноменальный – напряжение ушло, все стали близкими друзьями, а вопрос о сексуальных приоритетах и обманах более не возникал. Евреинов видит в этом примере образование третьего рода театральной маски наряду с маской психологической (когда актер играет другие характеры) и прагматической (когда он играет самого себя) – автобио-реконструктивной. Новая маска дает, по Евреинову, возможность «явить на подмостках театра себя самих в повторении действительно случившегося с ними»[174].
При этом повтор понимается здесь как отклонение (denegation) травматической реальности, подвешивание (suspension) ситуации и символическое ее разрешение. Актеры идеально претерпевают фрустрацию непризнания, контролируя тиранический образ путем своеобразного договора. Общим условием подобного театра является участие в постановке всех, в том числе и зрителей.
Обращение Евреинова вслед за Ницше к античной трагедии как к прообразу такого театра закономерно. Главное формальное сходство – роль хора, делающая условным и ситуативным разделение на актеров и зрителей. В подобном театре разыгрывается не какой-то банальный сценарий с моралистическим выводом, а ситуация реальной трагической неразрешимости, в которую попадали или могут попасть участники постановки в своей жизни. Однако в действительности никто не умирает (по крайней мере, здесь и теперь), герои переживают лишь «малую смерть», осознают принципиальную трансцендентную конечность бытия, претерпевают становление Другим и максимально возможное наслаждение в открывающемся таким образом новом экзистенциальном горизонте.
Евреинов писал в «Инвенциях о смерти»:
«Когда слишком занят театром, некогда как следует поразмыслить о смерти. Если и думаешь о ней, то все по счастливой инерции, в “плане театральности”. […] Например, лежишь бледный, с загадочными глазами, восковая рука прижалась к сердцу в предсмертной муке, а на эффектно страдальческих устах улыбка… красивый вздох… ироническое “до свиданья, господа”… в ногах рыдает белокурая возлюбленная… перед тобой мать в темной шали, с тонким батистовым платком и пересекающимся голосом – “мой сын!”… А то много друзей, знакомых, преданный слуга с заплаканными глазами и красным носом, а ты вперил свой взор горе и мелодично-хрипло просишь “свету, больше свету” или что-нибудь вроде этого… Хорошо!..»[175].
Интуиция «театрализации жизни» заводила Евреинова так далеко, что он мог оправдывать крепостное право и даже публичные казни, только если отношения помещика и крестьян, палача и жертвы полны театральных церемоний и жестов[176]. И здесь он также следовал за Ницше, который, как помнится, советовал поостеречься корчить «угрюмую рожу», когда речь заходит о пытке[177]. Только на первый взгляд мы имеем здесь дело с эстетизацией status quo, характерной для консервативной, правоориентированной мысли. Надо учитывать, что Евреинов обращался к этому опасному материалу в момент преобладающей либеральной (левой и правой) критики крепостничества и прочих видов социального рабства, внутреннее лицемерие которой он и хочет здесь оттенить. Крепостное право оправдано на сцене, где участники действа вступают в перверсивные договорные отношения, получая максимальные удовольствия от соблюдения самого ритуала подчинения и господства. Но идея Евреинова заключалась в том, что изменить ситуацию социального рабства введением либеральных законов и долгим путем правового реформаторства невозможно – как правовед по образованию и автор объемного исследования «История телесных наказаний в России», он сознавал подробно описанный позднее Мишелем Фуко стратологический разрыв между планами выражения (системой права) и содержания (реальной практикой неформализованных телесных наказаний). Отсюда единственный путь – изменение чувственности людей, глубоко укорененных в культуре способов отношения к Другому, которые, с точки зрения Евреинова, можно выправить в перспективе масштабного квазиреволюционного проекта «театрализации жизни».
Еще до революции 1917 г., в главе «Театр в будущем» (книга «Театр для себя», 1915–1917 гг.) Евреинов писал:
«Отчего не допустить, например, что та часть русского народа, которая не сопьется и не исподличается, не захочет променять своего богатырского первенства на чечевичную похлебку космополитического всеравенства, […] в один поистине прекрасный день неожиданно для всех, врасплох, сюрпризом, заберет, объединенная своим сильнейшим представителем, мировую власть и… не убоявшись миллионов жертв, во имя сказочной, быть может, древней и варварской красоты, перестроит жизнь, с ребяческим хохотом и ребяческой правотою, на таких диковинных началах волшебной театральности, что все перед насильниками преклонятся»[178].
Вскоре этот «прекрасный день» действительно настал.
Именно Октябрьская революция предоставила Евреинову возможность воплотить его грезу – превращение жизни в театр. В октябре 1920 г., когда Красная Армия уже уничтожила Колчака, Деникина и Юденича, на празднование третьей годовщины революции было решено восстановить в памяти ее центральное символическое событие – взятие Зимнего дворца, в котором заседало Временное правительство А.Ф. Керенского.
Евреинов был назначен главным режиссером грандиозной массовой постановки, которую нужно было отрепетировать за полтора месяца. По масштабности, зрелищности и исторической значимости эта акция не имела аналогов в предыдущей и последующей истории России, нельзя было сравнить ее и с известными из истории играми в Колизее, средневековыми мистериальными действами и праздниками во времена Французской революции[179]. Достаточно сказать, что в постановке принимало участие более 10 000 человек, несколько сотен солдат и матросов действующей армии, военная техника и крейсер «Аврора». Только режиссерский состав и творческая группа насчитывали несколько десятков человек, довольно известных в то время: художник Ю. Анненков, режиссеры А. Кугель и Н. Петров, композитор Г. Варлих и многие другие.
Такой размах отчасти объясним условиями «военного коммунизма», когда устроение подобных мероприятий, определенных специальным декретом Ленина, находилось в ведомстве командования армии и флота и подчинялось военной дисциплине[180]. Для бесперебойной подготовки был даже создан специальный штаб. На каждом участке был назначен свой командир, все подчинялись приказам[181], которые печатались и распространялись в специальных изданиях-летучках. Связь осуществлялась и по телефонам, и через десятки курьеров. Задействованные актеры и массовка работали почти бесплатно – за продовольственный паек. Большинство из них так или иначе сами были участниками революционных событий, поэтому вряд ли воспринимали происходящее только как работу.
Перед началом репетиций Евреинов не преминул произнести перед десятитысячной труппой речь в духе своей театральной теории. Он восторженно объявил: «Время статистов прошло. Помните, товарищи, что вы вовсе не статисты. Вы артисты, быть может, еще более ценные, чем артисты старых театральных навыков. Вы части коллективного артиста. От сложения и умножения ваших переживаний получается новый эффект нового театрального действия»[182].
В газете «Жизнь искусства» писали по поводу организованных репетиций: «Действительно, на репетициях видишь, что слова тов. Евреинова не только слова. Все эти участники ведут себя не как казенные статисты, а как части коллективного актера»[183].
Декорация постановки выглядела весьма внушительно. На Дворцовой площади налево и направо от арки Главного штаба были сооружены две огромные, полностью декорированные сцены длиной более 20 саженей (сажень– 2,134 м) каждая, соединенные мостом. Одна называлась «красной», а другая – «белой». На площадках разыгрывались попеременно пантомимные сцены, рисующие различные исторические эпизоды, которые предшествовали русской революции. Для этого в темноте включалось освещение то одной, то другой площадки – эффект от этого был подобен кинематографическому монтажу.
Общая сюжетная тема – борьба труда и капитала. Центральной фигурой «красной» площадки был Ленин, центром «белой» площадки – Керенский. Эпизод «Октябрь» строился следующим образом. Из-под арки штаба мчались грузовики, заполненные вооруженными рабочими. Они проносились мимо Александрийской колонны, возле которой находились командный пункт и трибуны для зрителей, и останавливались возле исторической «поленницы» у Зимнего дворца, охраняемого юнкерами и женским батальоном. Короткий бой возле «поленницы» оканчивался бегством оборонявшихся; восставшие врывались в Зимний дворец.
Дворец становился главным действующим лицом. Он был погружен в темноту. Но как только восставшие врывались туда, сразу же включались прожекторы на «Авроре», которая стояла на своем историческом месте. Дворец превращался в силуэт, и тотчас же во всех его окнах вспыхивал свет. На фоне спущенных белых штор приемом китайского театра теней разыгрывались маленькие пантомимы боя. Этот эпизод так и назывался: «Силуэтный бой». Поединки в окнах кончались победой восставших. Все прожекторы – и с «Авроры», и с Дворцовой площади – фокусировались на огромном красном знамени, взвивавшемся над дворцом, а во всех окнах вспыхивали красный свет и огромные красные звезды. На опустевшей Дворцовой площади разыгрывался последний сатирический эпизод – бегство Керенского, переодетого в женское платье, и пантомима оканчивалась фейерверком и орудийным салютом. Все действие сопровождалось громкими взрывами, выстрелами, революционными песнями и музыкой Варлиха, исполняемой оркестром в 500 человек.
Зрители, которых, несмотря на дождь, собралось более 150 тысяч человек, также реально соучаствовали в каждом эпизоде, составляя своеобразный хор. В «Известиях П.С.Р.К.Д.» писали, что крестьянки из соседних деревень, впервые посетившие Питер, держались тесными кучками, боясь затеряться в толпе, и с любопытством следили за лучами прожекторов, бегающих по облачному небу. На любое действие они реагировали как на реальное событие, а когда началась последняя атака, вместе со всей толпой инстинктивно потянулись к решеткам Зимнего дворца.
«Такое вовлечение в действо зрителей, – писал Евреинов в журнале “Красный милиционер”, – величайшее достижение сценического искусства; высший успех недостижим для мастеров его, и рядом с ним поистине жалкими кажутся лавры и аплодисменты, умилительные при ординарной победе на театральном фоне»[184].
* * *
Эта постановка может быть истолкована как прообраз современных политических пиар-технологий и предтеча художественных перформансов 1960–1990-х годов в Европе и России. Евреинову удалось максимально приблизить «театр для себя» к реальной социальной жизни, сохранив художественную форму перформанса. Можно сказать, что эта постановка в глазах собравшихся была не менее реальна, чем сама Октябрьская революция, в плане репереживания вытесненных ввиду своей травматичности и катастрофичности событий. Она восстанавливала в уже отрешенной форме разрушенный символический порядок, превращая утрату в нечто возможное для одних, а другим позволила сознательно пережить новую социальную инициацию – «рождение революцией».
Событие революции было как бы закреплено и проявлено в этом перформансе на уровне образа. Тот же С.М. Эйзенштейн наверняка опирался в своем «Октябре» на документированную в хрониках постановку Евреинова, хотя позднее и оспаривал это[185]. Именно через нее вспоминали и воспринимали революцию ближайшие поколения. Кроме того, Евреинов доказал этим перформансом бесперспективность «жизненного» натуралистического театра, стремящегося изобразить, эстетизировать действительность. Напротив, сама действительность изображала его театральный принцип в тот вечер 1920 г.
Но в этой работе можно выделить и другой политический провокативный момент: идея тотального театра, спроецированная на символический локус революционного Петрограда при огромном скоплении народа, могла подменить собой событие реальной революции, встать на ее место, сохраняя, однако, театральный характер. В этой постановке Евреинов предложил способ перетекания искусства в «политику» – без многолетней подпольной партийной работы, без ссылок и каторги, без массовых убийств и грабежей. Власть просто переходит в руки народа, который лишь «играет» в революцию, разрешенную властями в качестве театральной постановки.
Ибо эффект от инсценирования и повтора события непредсказуем, особенно если в нем оказывается затронутой реальность группового желания. Такая составляющая театральной машины, как массовка, становится массой и может осознать свою силу и повторить революцию уже в отношении новой власти – потому что повтор всегда различает.
Характерно, что устроители видели в этой постановке начало нового театра массовых действий. Так, К.Н. Державин, один из ее режиссеров, в статье «Чудо» в газете «Известия» восторженно писал: «Секрет сценической толпы раскрыт, и в нашей воле теперь подойти к замечательным возможностям и открытиям. Масштабы удалось развернуть поистине мировые. Постановку “Взятие Зимнего дворца” аршином действительности измерить нельзя, в осуществление же ее можно было только верить со страхом и упованием. То, что было осуществлено на глазах тысячных зрителей – является чудом, которое могло произойти только в России, в стране титанических возможностей»[186].
После 1920 г. подобные постановки перешли в ведение гражданских культурных учреждений, сократились в масштабе, снизились до уровня народных гуляний, демонстраций и военных парадов. Именно возможность не просто репереживания, но и повтора революции как открытой возможности, связанной с неустранимым ни в одном обществе противоречием между сформированным социальным укладом и неудержимым техническим и культурным прогрессом, почувствовали советские власти, и прежде всего поэтому подобные мероприятия в дальнейшем уже не повторялись.
Но в 1920 г. народ еще мог позволить себе не просто потреблять искусство, но и создавать его, активно участвовать в истории, т. е. одновременно быть и ее субъектом, и ее объектом. Поэтому существование подобных постановок может служить индикатором свободы в обществе[187].
Как известно, ситуация в Советской России очень скоро радикально изменилась. Евреинов в 1923 г. отправился за русскими религиозными философами в вынужденную эмиграцию, где стал активно заниматься кино и вступил в масонский орден, ставший для него последним прибежищем «театральных преображений»[188].
* * *
В архивных материалах Евреинова встречается еще одна важная тема – об отношениях единицы и массы в массовой театральной постановке.
Один из режиссеров «белой» площадки и ближайший коллега Евреинова по дореволюционному театру «Кривое зеркало» А. Кугель предлагал представить Керенского 25 артистами, которые бы механически одновременно выполняли все его сценические движения. Евреинов возразил, что это преувеличит образ жалкой одинокой «пешки Истории», пытавшейся противопоставить свою волю воле восставшего пролетариата.
А. Кугель боялся, что один человек не будет различим на огромной сцене и на большом расстоянии в толпе других актеров. Евреинов в своих воспоминаниях цитирует статью того же К. Державина «Масса как таковая»: «Самое главное: противопоставление одной фигуры толпе. Керенский, удачно воплощенный известным киноактером тех лет Бруком, занимавший место то на фоне тесно сомкнутых юнкерских рядов, то поднимавшийся над стеснившейся у его кресла перепуганной толпой, послужил контрастирующей единицей по отношению к пятну остальных участников действа. […] Массовый театр является театром исключительно пристрастным ко всякому корифейству и протагонизму. Наличие отдельного исполнителя, сосредотачивающего на себе в известный момент внимание зрителей, подчеркивает массовую законченность всего ансамбля. Практика вполне оправдала это положение»[189].
Таким образом, можно сказать, что массовая постановка в таком понимании не означала отказа от личностного начала, ценности индивидуальной жизни и прочих либеральных ценностей в пользу каких-то общественных, «соборных», коммунистических утопий и массовидных образов[190].
Борис Гройс в свое время сформулировал идею амбивалентной взаимосвязи философии раннего Михаила Бахтина, Густава Шпета, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и идеологии русского авангарда в целом с тоталитарным Gesamtkunstwerk Сталина. По мысли Гройса, опора определенных художников и мыслителей на ницшеанскую идею «воли к власти», отрицание позиций субъективности, «Я» в пользу безличной дионисийской стихии не позволила им выработать эффективную альтернативу надвигающейся сталинской идеологии и культуре, также эксплуатировавшей «ницшеанские мотивы». Поэтому «хотя все характеризованные выше авторы и были вытеснены и подавлены официальной культурой, их ошибочно рассматривать в терминах морально-политической оппозиции к этой культуре»[191].
На основании приводимых Гройсом в защиту данного скандального вывода аргументов в эту почтенную компанию можно включить и проект «театрализации жизни» Н. Евреинова. Но у Евреинова речь шла не об отказе от «Я», а о замене этого навязанного Другим образа субъективности на сознательно выбранную маску, в разрыве между осознанием условности которой и невыразимым «Я»-чувством можно было бы разместить Другого и соблюсти таким образом его индивидуальные права.
Более того, видимое противоречие между евреиновской идеей универсальной театральности, массового вовлечения зрителя в искусство и теорией «театра для себя», воплощенной в монодраме, домашних спектаклях, а затем и в предсказанном Евреиновым еще до революции home video[192], снимается в рассмотрении этой проблемы во времени, т. е. в исторической перспективе. В последней практической части «Театра для себя» Евреинов писал: «Индивидуальное в человеке, уступив временно соседствующему с ним соборному началу чуть не всего себя целиком, – по достижении социального благополучия, подсказавшего эту уступку (Курсив мой. – И. Ч.), вновь возвращается, в известной сфере и в определенно назревший момент […]. Таков ход человеческой эволюции»[193].
В своей концепции театральности Евреинов исходил из определенной философии субъекта, желания и интересы которого определяют характер его поведения, речи, исповедуемого им художественного или политического кредо. Субъект этот – не индивидуалист, не «единственный», исключительный во всем мире «уникум», а «политическое животное», сама «театральность» которого есть эффект социальности. В поздней статье «О любви к человечеству»[194] Евреинов приводит примеры из ботаники, зоологии и политической истории для оправдания своего тезиса о конкретности «социальных переживаний» и снова обращается к самому яркому в своей практике опыту «единства с Другим» – к постановке повторного взятия Зимнего дворца, когда несколько суток, увлеченно, без сна, он общался с десятками тысяч людей, сорвал голос, но породил событие, не менее значимое в символическом плане, чем самая революция 1917 г.
Такой подход имплицирует понимание желания не как дефицита, а как профицита, откуда уже следует принятие ницшеанской концепции трагедии, идущей не от недостатка и горя, а от избытка и светлой радости. Смерть маленького человеческого субъекта в подобной стратегии – лишь условие интенсификации чувственной жизни его тела, а не повод для оплакивания «бессмысленности жизни», подмены ее смысла обещанием потустороннего блаженства двойника или идеей бессмертия того или иного общественного целого.
Ибо смерть – не цель человеческого желания, а последствие жизни, как и рождение детей – не цель любви, а последствие сексуального наслаждения.
Видеть в подобной мыслительной стратегии аналог сталинской тоталитарной модели можно лишь при условии, что социальное отчуждение и смерть человек может преодолеть только в условиях либеральной демократии западного типа, что и утверждал Б. Гройс в упомянутой статье.
Авторитету Б. Гройса можно противопоставить здесь авторитет С. Жижека, который, хотя и не ссылаясь прямо на Евреинова, упоминает в одной из своих последних книг историю повторного взятия Зимнего дворца в 1920 г. и противопоставляет ее на принципиальном смысловом уровне сталинским парадам. В частности, он пишет: «Все мы помним печально известные первомайские парады, которые были одним из основных отличительных признаков сталинских режимов. Разве – если кому-то нужно доказательство, что ленинизм действовал совершенно иначе, – такие представления не служат предельным доказательством того, что Октябрьская революция явно была не простым coup d’etat, совершенным горсткой большевиков, но событием, выпустившим наружу громадный освободительный потенциал»[195]. Жижек отмечает тот важный момент, что участники театрального штурма играли самих себя, многие из «актеров» реально участвовали в событиях 1917 г., гражданской войне, страдали от нехватки продовольствия и при этом принимали участие в театральном представлении.
Любопытно, что и В. Шкловский в 1921 г., упоминая Евреинова, противопоставлял массовые представления как проявления «жизни» бегству от трудной действительности в иллюзорный мир парадов, маскарадов, драматических кружков и традиционного театра: «Народное массовое празднество, смотр сил, радость толпы есть утверждение сегодняшнего дня и его апофеоз… Народное массовое празднество – это дело живых; драматические же кружки – психоз, бегство, мечта селенита о конечностях»[196]. Кстати, «селениты», о которых говорит здесь Шкловский, – это жители Луны, которые были посажены в бочки, что позволяло развиваться только одному органу их тела – щупальцу, «полезному для коллектива». Таким образом, главный теоретик формализма усматривал в массовых представлениях 1920-х годов способ полной открытости индивида Другому, коллективу, обществу, при сохранении индивидуальности.
На точке зрения, перпендикулярной описанным выше подходам, в оценке смысла массовых театральных постановок 1920-х годов стоял С.М. Эйзенштейн. В уже упомянутой статье 1940-х годов о Евреинове он, в частности, писал: «Однако интересно, что этот проповедник (Евреинов. – И. Ч.) эгоцентрического театра – “театра для себя” – театра без зрителей, остроумный и блестящий, в самой идее прочертивший предельный регресс театральной деятельности на самую ее низшую, доколлективную и до-социальную стадию “театрального инстинкта” – одновременно оказался и тем, кто первый осуществил идею “коллективного соборного театра” тоже в первичных регрессивных его формах после Революции. […] Здесь был образец чистого обращения вспять, без пресловутого “как бы”, которое характеризует новую прогрессивную стадию, неизбежно имеющую “нечто” общее с прошлым по облику, но совершенную качественную несоизмеримость с этим прошлым. Революционные действа, которыми управлял Н.Н. Евреинов с режиссерского пульта… были подкрашенной мумией прошлого, даже не возрождением, а неорганичной пересадкой на нашу почву типа первичных зрелищ средневекового Запада или празднеств Великой французской революции. Они остались бездетными. […] Интересно – мой фильм закреплял на пленке воссоздание тех же событий штурма Зимнего, что и пресловутое массовое действие Евреинова. На той же Дворцовой площади… Разница была в том, что здесь рождалась новая поступательная фаза театра на площади – массовый… фильм. А лет за семь до этого на этой площади умирал наэлектризованный труп типа театра, уходившего в вечность, неотрывно от отошедших стадий социального развития, его породивших»[197].
Если Н.И. Клейман[198] усматривает в этой жесткой оценке Эйзенштейном творчества Евреинова всего лишь иронию, отголосок «юношеского желания психологически преодолеть влияние Евреинова», то В.А. Подорога[199] обнаруживает принципиальную несовместимость их позиций, связанную с преодолением Эйзенштейном (вернее, изобретенным им новым медиа – массовым кино) ограничений модернистской картины мира, в рамки которой целиком вписывается евреиновский проект.
С этой точки зрения, постановка Евреинова, размещаясь на уровне принципов своей организации и идеологии в контекстах русского символизма и отчасти авангарда, оперирует оппозицией героев и толпы, повинуется общим законам театрального зрелища, для которого опыт массы в принципе недоступен. Ибо масса организована совершенно иначе, нежели толпа зевак, собравшихся вокруг публичного зрелища. Точнее было бы сказать, что только масса и организована. Причем именно для массы не существует разделения на зрителей и актеров. Так, если у евреиновской постановки было 10 000 «актеров» и 150 000 зрителей, то Эйзенштейн задействовал в «Октябре» 150 000 массовки и никаких зрителей. Вернее, зрители, конечно, были, но они составляли уже «весь мир». Далее, масса по своей природе бессмертна и неуязвима. Вооруженная орудиями войны или труда, она стройными рядами неостановимо движется к известной только ей самой цели. Толпа же беспорядочна, хаотична и способна только затопать самое себя.
Принципиально различен и генезис толпы и массы, соответственно, евреиновской и эйзенштейновской постановок. Первая происходит из древних аграрных праздников, дионисовых шествий и ритуалов, являясь, по меткому замечанию того же Эйзенштейна, «чем-то средним между первичным козлодранием и средневековым площадным действием»[200]. Масса же и массовое искусство – это явление преимущественно городской культуры XX в., прошедшей через горнило революции.
С другой стороны, в «Мемо» Эйзенштейн признавал влияние Евреинова и на свое творчество, и на отношение к строению человеческой субъективности, и даже на способ организации своего архива[201]. Существует тема, на которой они вообще пересекались, – это тема эшафотного генезиса искусства, эшафота как прообраза театра жестокости, одинаково привлекавшая и Евреинова, и Эйзенштейна.
Но рассудить Эйзенштейна и Евреинова в вопросе о «революционности», «коллективности» и «индивидуальности» манифестированных ими проектов можно не только с привлечением исторического или психобиографического анализа, но и на актуальном современном политическом материале.
Вопрос ставится следующим образом: какую общественно-политическую модель предполагает художественный и теоретический проект Н. Евреинова, какую этику и логику отношений к Другому, взаимоотношений индивидуальности и общества он способен имплицировать? Критика Эйзенштейна и Подороги ставит под серьезное сомнение коллективистские потенции евреиновского театра, намекая на его индивидуалистическую обреченность. Но и альтернатива массового фильма представляется сомнительной с точки зрения современных конфигураций власти и ее медиа.
Ибо медиавласть оказалась способна перекодировать и заявленный Эйзенштейном проект «массового фильма» в совершенно антиреволюционных, консервативных целях, заставив каждого человека вернуться в «бочки селенитов» – к телевизору еще в условиях социализма. Но это же оказалось возможным сделать современным политтехнологам и с проектом Евреинова, в формах организованных митингов и забастовок, шествий протеста, демонстраций и пикетов.
Сегодня дистанция между художественным произведением и технологиями медиавласти вообще сократилась до миллиметра. Любые открытия в искусстве сразу же цинично используются в политическом пиаре с потерей или переориентацией изначально заложенных в них мотиваций. Кроме, пожалуй, одного-единственного элемента – реального выхода на площадь огромного количества людей, что для власти все еще проблематично контролировать. Поэтому если какой-то проект искусства еще способен сегодня выводить людей на площади для отстаивания или закрепления своих прав, его и следует признать по-настоящему прогрессивным и актуальным.
Необходимость обращения к театральности как своеобразной маске и, в конечном счете, к разработке художественной формы на теле самого социума связана также с ситуацией неразличения криминального преступления, форм государственного террора и проявлений интенсивного революционного желания в современном мире. Мы, к сожалению или к счастью, живем не в первобытном обществе и пребываем не в детских грезах, а в мире высокотехнологичных симулякров и тотально циничной идеологии. Мы знаем законы и уже заражены удовольствием от их нарушений. Поэтому театральная маска является своеобразным рефлексивным инструментом, позволяющим контролировать сформированную социумом помимо нашей воли субъективность, подвешивать ее, удерживая дистанцию несовпадения с самим собой.
Другими словами, сегодня возможно полноценно развернуть интенсивность желания только в художественной форме, на сцене искусства. А театр – это, вообще, единственная сцена, на которой в наши дни можно встретиться с властью не на ее поле и играть не по ее правилам. Но это игра именно с ней самой, а не с нанятыми ею актерами – полицейскими, военными и т. д. Возможность достижения этого результата связана с некоторым изящным обходом инцестуального альянса «общество – государство»: художник не атакует общество прямым физическим насилием, а оно, в свою очередь, не обращается к услугам репрессивного аппарата государства. Художник практикует «невинный» обман общества: люди полагают, что приходят в театр или на выставку в качестве зрителей, а их последовательно превращают в массовку, а затем в некое подобие древнегреческого хора, т. е. в реальных участников разыгрывающейся трагедии.
В этой же стратегии можно сегодня помыслить разрешенный властями перформанс под названием «Революция» с актерами из власти и народа, играющих самих себя. Перформанс, устроенный на Красной площади и в Кремле, с разрешения властей плавно перетекает в реальную революцию, согласно режиссерскому сценарию и спонтанному волеизъявлению граждан, не желающих возвращаться в «реальность» из такого прекрасного «театра».
Единственная трудность состоит в том, что нынешние руководители России не могут позволить себе того, что разрешили в 1920 г. Евреинову, – массового скопления народа, которое и есть главное условие любой, даже организованной, «срежиссированной» революции.
III. Анализ концепций производственного искусства и литературы факта. ЛЕФ
Мы подходим уже к такому моменту, когда разрыв между тканью и готовым костюмом из нее становится серьезным препятствием на пути улучшения качества продукции нашей одежды. Нельзя больше говорить о компоновании рисунка, нужно идти от проектировки костюма к проектированию структуры ткани, это сразу позволит текстильной промышленности избавиться от жуткого по количеству ассортимента, которым она сейчас оперирует, и даст возможность действительно стандартизировать и улучшить, наконец, качество ее продукции.
Продукционизм и конструктивизм: искусство революции или дизайн для пролетариата?
До революции 1917 г. русский футуризм активно выражал утрату цельного объекта, вообще целостности бытия, причем без того, чтобы подобно русским символистам оплакивать и замещать ее фетишистскими образами. И здесь он сыграл бесспорно революционную роль, дав почувствовать передовой части российского общества саму возможность иного, свободного социального бытия на фоне многовековой картины насилия и эксплуатации человека человеком. Но если раньше кубофутуристы, заумники и беспредметники демонстрировали в своих работах что-то вроде отчуждения предметного и человеческого мира в условиях капитализма, то в первые годы социалистического строительства творчество большинства из них претерпело радикальное, но логичное превращение в производственное искусство и литературу факта.
Только на поверхностный взгляд эти метаморфозы можно было принять за измену первоначальным манифестам русского кубофутуризма. Эпатажная, провокативная и негативистская в отношении социальной реальности установка раннего футуризма сменяется после революции на стратегию художественно-эмоционального воздействия на чувственность и интеллект массы, удачно названную «жизнестроением» (Н. Чужак). Но в своих основных чертах она оставалась такой же экспериментальной и непримиримой, постоянно изменяя и совершенствуя свои художественные средства и медиа.
Историческая уникальность русского художественного и литературного авангарда определяется в этом смысле против его собственного понятия. Так, комфутуризм размещал себя в эксцентричном, асинхронном времени – будущем-настоящего и настоящем-прошедшего, выпадая из истории искусства как автономной, замкнутой на себе языковой или эстетической игры, активно вторгаясь в политическую борьбу за новых людей и построение свободного жизненного мира. Это, в частности, означает, что авангардное искусство в революционную эпоху 10–20-х годов XX в. приобрело форму, не сводимую к какому бы то ни было подражанию-отражению действительности, украшательству или созданию образцов красоты и совершенства, не достижимых в социальной жизни. Не сводилось оно и к выражению художественными средствами каких-то коммунистических теорий или к разработке эргономичного дизайна. Левый авангард понимается нами здесь как эксплицитная и рефлектирующая саму себя социальная антропологическая практика, нимало не теряющая в своих эстетических достоинствах из-за сознательного обращения своих протаганистов к решению политических и бытовых проблем народа, открывшего для себя возможность социального освобождения.
В точном смысле слова авангардным искусство может быть названо только в условиях революционной борьбы и реальной практики социалистической коммуны. Поэтому у русского авангарда, несмотря на его историчность, нет собственной истории, а соответственно, и перспективного продолжения в условиях устойчивого социального режима. Комфутуризм – искусство постисторическое, прерывающее линейное течение времени вторжением события революции, обладающего особыми темпоральными характеристиками. Левый художественный авангард носит в этом смысле принципиально переходный (транзитивный или финальный) характер, соответствуя радикальным изменениям в обществе, предполагающим уничтожение или принципиальную трансформацию всех задействованных в нем форм и норм. Таким образом, мы исходим не из определения того, что представляет собой левый авангард в контексте истории искусства и политики, а из того, как он преодолевал навязываемый ему исторический контекст, подрывая расхожие представления об истории и различиях искусства и политики.
Продукционисты и фактографы не ограничивались в понимании упомянутой интервенции «поэтики» в «политику» репрезентацией номинально революционного содержания или классовой агитацией в духе авторов Пролеткульта, настаивая на необходимости радикального апгрейда находящихся в их распоряжении технических средств, медиа и коммуникативных ресурсов в пролетарском духе. Формальные эксперименты комфутуристов были мотивированы потребностью установления в новой городской среде коллективных способов восприятия и коммуникации, которые они связывали не с мистическими народными «чувствилищами» или карнавальными телами а-ля Бахтин, а с возможностями современной индустриальной техники и таких массовых медиа, как газета, фотография и кино[203].
По сути, речь шла о становлении новых видов массового искусства, пытающихся переформатировать социальную жизнь на основе альтернативных способов взаимодействия, которые соответствовали структуре восприятия и коммуникации его произведений и возможностям новых массовых медиа. Здесь имелось в виду возвращение искусства в социальную жизнь, а не наоборот, превращение жизни в род искусства, с сохранением наличных экономических и политических институтов и имущественных отношений, как при фашизме и сталинизме[204]. Эстетическая стратегия русского левого авангарда была реальной альтернативой той эстетизации социально-политической жизни, которая утвердилась в 1930-е годы в культурной политике Германии и России, потому что понимала искусство не как самовыражение авторов, а как модель изменения имущественных отношений и инструмент реализации прав рабочих на полноценную жизнь в обществе (или достойную смерть «на природе»).
Одним из итогов интенсивной полемики 1920-х годов (в том числе вокруг ЛЕФа) о природе пролетарского искусства стало понимание, что коллективная чувственность поддается воздействию, своего рода воспитанию, и даже требует его. Статус «пролетарской» она получает не фактом принадлежности его носителей к классу наемных рабочих, а через открытие в нем особого рода чувственных и коммуникативных способностей.
Футуристичность производственного проекта была обусловлена в связи с этим тем, что новые средства и виды искусства должны были исторически преодолеть инерцию рабско-господской, феодальной и буржуазной чувственности и стать доступными массам в результате постепенного процесса привыкания, синхронизированного со становлением коммунистических отношений во всех сферах общества. Но для этого и само искусство должно было найти путь к массам через освоение и развитие технических новаций и обобществление средств своего труда.
Ввиду этих целей художественные произведения должны были не закрывать от потребителей общественного характера их труда и по возможности преодолевать соответствующее его индустриальному разделению «разделение чувственного» (Ж. Рансьер). В рамках производственного проекта была поставлена задача восстановить структуру опыта как цельного процесса создания вещи-произведения, предполагающего задействование навыков и развитие новых способов формирования материала в интенсивном обмене видов труда и творчества.
Продукционизм и конструктивизм: постановка проблемы
Традиция рассматривать русский авангард, ограничиваясь двумя-тремя громкими именами (В. Кандинский, К. Малевич), и конструктивизм на уровне отдельных работ его основных представителей (В. Татлин, А. Родченко) не учитывает не только социально-политический контекст соответствующих художественных явлений, но и преимущественную форму, в которой они существовали в своем времени. Это форма производственного искусства, понимающего себя как вид коллективного художественного труда, т. е. социальной практики, направленной на революционное преображение общества и создание нового типа (ненасильственных) отношений между людьми. Данное художественное направление «не мыслило себе создания новых форм в искусстве вне преображения общественных форм», а преображение это понимало как «производство самой формы общения» (К. Маркс).
Участие в производственничестве таких значительных художников 1920-х годов, как О. Розанова, Л. Попова и В. Степанова, К. Иогансон и Г. Клуцис, М. Гинзбург и К. Мельников, А. Лавинский и А. Веснин, братья В. и Г. Стенберги и Л. Лисицкий, В. Маяковский и С. Третьяков, Вс. Мейерхольд и Д. Вертов, часто объясняют их леваческими увлечениями и симпатиями, а то и вынужденной «коллективизацией» художественного труда в сложных условиях первых лет советской власти. В результате мы знаем эти имена по отдельности или в рамках абстрактной опции «раннесоветский авангард», но не как участников широкого художественно-политического движения, занимавшегося созданием материальной и духовной культуры в небывалых для истории искусства масштабах новой Советской страны. Искусствоведы охотно рассуждают об экспрессионизме и супрематизме, о различиях беспредметного и фигуративного искусств, но не любят слышать, например, о смысле решения 25 видных левых художников, сместивших в 1921 г. самого В. Кандинского с поста председателя Института художественной культуры (ИНХУК), когда они официально расстались со станковой живописью и объявили о переходе в массовое индустриальное производство и политическую агитацию[205].
* * *
В архиве ГАХН, куда институционально был прикреплен ИНХУК в 1922 г.[206], сохранился любопытный документ, своего рода манифест группы художников, в которую к тому времени входили А. Бабичев, В. Бубнова, О. Брик, Н. Кринский, Н. Ладовский, К. Медунецкий, Л. Попова, В. Степанова, А. Родченко, К. Иогансон, В. Докучаев, А. Ефимов, Б. Кушнер, Б. Арватов, В. Храковский, В. Татлин, А. Лавинский и А. Веснин, братья Г. и В. Стенберги:
«Представляя при сем проект устава и штаты Института Художественной Культуры, правление ИНХУКа считает необходимым вкратце охарактеризовать цель и методы Института. Изобразительное искусство переживает тяжелый, но благотворный кризис. Становится очевидным, что центр художественного товрчества перемещается в сторону производственного искусства не изображающего, а созидающего. “От изображения к конструкции” – таков лозунг, объединяющий авангард художественной идеологии и практики. Новая, небывалая по размаху задача встала перед деятелями художественной культуры – задача творчески овладеть техническим процессом созидания материальных благ, превратить завод из места стихийного и подневольного труда в место сознательного, а потому свободного созидания. Тем самым падает порожденная буржуазной экономической идеологией разница между свободным высоким и “частным” искусством и “низким” ремеслом. Исчезает надобность в бессмысленном “прикладывании” образцов и стилей “чистого” искусства к промышленным изделиям. Упраздняется прикладное искусство. Нет искусства и ремесла, нет “высокого” и “низкого”, нет чистого и прикладного, есть – единый творческий труд. Такова цель. Пути многообразны. 1) Необходимо научно углубить и расширить проблему. 2) Необходимо произвести ряд практических опытов. 3) Необходимо разрушить уже гниющие, но еще живые эстетические навыки прошлой буржуазной культуры. 4) Необходимо объединить и действенно сорганизовать всех активных деятелей производственного искусства. ИНХУК знает, что еще не близок день, когда осознанный им принцип новой художественной культуры воплотится в жизнь. Но ИНХУК знает, что нет задачи более актуальной, чем борьба за его воплощение».
Кстати, в том же ГАХН, где производственникам и прозискусству вообще оказывалась разнообразная поддержка в начале 1920-х годов, к концу десятилетия отношение к ним изменилось, оно стало более осторожным и критическим. Была создана даже специальная комиссия для изучения этого явления, итоги работы которой выразились, в частности, в подготовленном В.А. Никольским в 1928 г. докладе «Проблема производственного искусства в русской литературе»[207], отдельные положения которого мы будем в дальнейшем цитировать и комментировать.
Мы не ставим себе задачу подробной реконструкции предыстории и исторической эволюции русского производственного искусства от 1918 г. вплоть до его заката в конце 1920-х годов. По этой теме существует несколько качественных, хотя и несколько тенденциозных, историко-литературоведческих исследований[208]. Как правило, у советских искусствоведов и западных славистов, даже несмотря на известную симпатию к работам конструктивистов и теориям производственников, не хватало языка и философского масштаба для адекватного осмысления этого уникального явления. Начать с того, что производственничество несоразмерно ни «общеэстетическим программам», ни тому, что сегодня называют «теорией дизайна»[209]. Последовательное отвержение конструктивистами и производственниками любых эстетических критериев в определении значимости своих произведений заставляет, как минимум, предположить, что оценка соответствующих теорий из этой перспективы может существенно исказить понимание их достижений. А обоснование актуальности производственничества ссылками на контекст истории дизайна самими производственниками было бы признано недоразумением. Карл Кантор в свое время справедливо отмечал, что интеллигенции (в частности, художников и теоретиков прозискусства), которую она банально проиграла прозводственники прежде всего «имели в виду создание таких условий, когда будут проектироваться не отдельные предметы, не масса предметов, а вся материальная среда, когда производство перестанет быть производством вещей и станет производством материальной культуры»[210].
Однако надо учитывать, что производственное движение в искусстве 1920-х годов было достаточно разнородным, включая наряду с радикальными, но нереализуемыми утопиями (О. Брик, Н. Чужак), упрощенными пролеткультовскими декларациями (А. Богданов, В. Плетнев), традиционным «народным» прикладничеством (абрамцевские и талашкинские мастера и др.) и эмигрантским эстетизированием (берлинский журнал «Вещь» И. Эренбурга и Л. Лисицкого) глубоко продуманные теоретические концепции и впечатляющие художественные достижения (Б. Арватов, теоретики и практики ИНХУКа, ВХУТЕМАСа, ЛЕФа). В связи с этим нас будет прежде всего интересовать обобщенная теория этого неоднозначного феномена с ее острыми постановками вопросов и неизбежными диалектическими противоречиями. Помимо подведения теоретических итогов производственничества, мы намерены провести значимые различия его установок с позициями его предшественников, последователей и западных современников, по ходу отвечая на следующие вопросы:
1. Как логически и политически связано производственное искусство с искусством модернизма и русским дореволюционным авангардом?
2. Чем отличается производственная концепция искусства от теорий Д. Рёскина и У. Морриса, доктрин Веркбунда и Баухауса, т. е. почему она, вопреки поверхностному сходству, не сводится к прикладному, декоративному искусству и дизайну?
3. Что объединяет конструктивистов и производственников с ситуационизмом и современным активистским медиаискусством, т. е. в каких формах может осуществляться этот проект в настоящем?
* * *
Производственное искусство не было каким-то изолированным, ни на кого непохожим в истории искусства и материальной культуры Европы эксцессом. О преемственности производственного искусства по отношению к кубофутуризму и вообще беспредметничеству начала XX в. мы уже писали. По наблюдениям целого ряда искусствоведов, его манифестация в 1918–1919 гг. в статьях авторов «Искусства коммуны», стихах В. Маяковского и проектах конструктивистов, экспериментах молодых художников левого крыла ИНХУКа и др. стала реакцией на исчерпание формального развития дореволюционных авангардных течений и, по сути, их продолжением в новых социальных и экономических условиях.
С другой стороны, производственничество явилось радикализацией интуиций, заявленных еще в XIX в. русскими социалистами-утилитаристами (Д. Писарев) и художниками-ремесленниками социалистического направления (У. Моррис, Arts & Crafts movement). Однако уникальность производственного искусства, несмотря на внешнее подобие упомянутым позициям, обусловлена его связью с социальным проектом русской революции 1917 г., сделавшим его возможным, но и получившим от него собственное концептуальное обоснование. По словам Б. Арватова[211], прозискусство появилось в результате трех революций: собственно социальной революции 1917 г., без которой ни о каком переходе художников на фабрику и завод не могло быть и речи; технической революции, вызванной индустриализацией и развитием машинного производства; и революции в самом искусстве, связанной с преобладанием конструктивных форм в живописи и со стремлением к открытию художественной вещи.
* * *
Мы ограничимся здесь перечислением основных вех и наиболее значимых событий десятилетия активного развития производственного проекта искусства, чтобы затем перейти к анализу его художественных достижений и важнейших теоретических принципов.
Начало производственного движения в искусстве датируется 1918 г., когда авторы еженедельной ленинградской газеты «Искусство коммуны» еще в разгар «военного коммунизма» заговорили об эксклюзивных отличиях будущего подлинно пролетарского искусства от искусства буржуазного. Производственное искусство прежде всего выражалось в преодолении станкового искусства – искусства музеев и галерей, которому противопоставлялось непосредственное изготовление вещей на фабриках и заводах.
В первом номере этой газеты Осип Брик уже манифестировал в общем плане проект производственного искусства в статье «Дренаж искусству», который затем развивал в ряде статей в «ЛЕФе» и других левых изданиях[212]. Важные цитаты: «Фабрики, заводы, мастерские ждут, чтобы к ним пришли художники и дали им образцы новых, невиданных вещей»; «Надо немедленно организовать институты материальной культуры, где художники готовились бы к работе над созданием новых вещей пролетарского обихода, где бы вырабатывались типы этих вещей, этих будущих произведений искусства»[213]. Чрезмерная самоуверенность и догматичность его позиции отчасти оправдана желанием теоретика заполнить ту огромную пропасть, которая исторически образовалась между произведениями искусства и продукцией промышленности, творчеством и трудом. Тем более что в первые годы советской власти ее действительно можно было заполнить только утопиями – больше словами, нежели делами. Но были и дела: художники действительно пошли в мастерские и фабрики.
Первоначально идеям прихода искусства в городское пространство и на заводы была оказана государственная поддержка в лице Народного комиссариата просвещения и лично товарища А.В. Луначарского. Был организован отдел ИЗО при Наркомпросе, в котором работали бывшие футуристы. Целью этого учреждения была как раз подготовка проектов и программ для новых художников, способных работать не только за мольбертом, но и, прибегнем к невольному каламбуру, за станком. Пролетарские художники должны были уметь не только рисовать, но строить и конструировать полезные бытовые вещи, оставаясь при этом художниками. Поэтому советская художественная школа должна была готовить инженеров-художников, художников с навыками изобретателя и конструкторов.
В 1919–1920 гг. был организован целый ряд общероссийских конференций работников художественной промышленности, где производственные идеи звучали в самых различных вариациях. Первоначально выступающие отталкивались от ремесленного понимания искусства. Ремесленной версии придерживался, например, автор «Искусства коммуны» Вс. Дмитриев в статье «Революционизированное ремесло»[214]. Кстати, упомянутый выше В. Никольский, считавший, что позднее термин «ремесло» был просто заменен на «производство» без изменения смысла понятия искусства, здесь серьезно ошибался. Ведущие теоретики прозискусства и будущие центральные авторы «ЛЕФа» Брик и Арватов изначально предполагали не ремесленный или прикладной, а чисто индустриальный характер прозискусства, т. е. его осуществление в среде пролетариев, а не кустарей-индивидуалистов.
Соответствующее различие стало принципиальным для понимания отношения производственничества к наследию Д. Рёскина и У. Морриса, а также идей В. Гропиуса. Дело тут не столько в ремесленной практике, сколько в наличии у пролетариата опыта отчужденного труда как вида социального насилия, который как таковой выступал основным антропологическим источником нового искусства. Расчет был на то, чтобы постепенно преодолевать эту отчужденность с помощью привнесения на фабрику модели полноценного труда, которую представляет собой художественное творчество. Но и обратно – возвращение искусства в лоно общественного производства позволило бы художникам восстановить контакт с утраченным социальным и экзистенциальным опытом, навыками создания вещей и отношений.
Но большинство задействованных в этой производственной драме лиц видели ситуацию несколько упрощенно – как всего лишь реформу действительно отсталой художественной промышленности России. К тому же понятия прозискусства в таком узкоспециальном и широком смысле – как формы пролетарского искусства и производственной практики – постоянно смешивались. Поэтому уже с самого начала, с 1919 г., в понимании задач нового пролетарского искусства у художников и представителей советской власти наметились непримиримые противоречия (см. подробнее об этом ниже в разделе «Позиции производственничества…»). Власть нуждалась в футуристах-художниках в качестве работников в сфере пропаганды, наемных спецов в художественной промышленности и мастеров дизайна, но не в футуризме как художественно-политической доктрине, настаивающей на имманентной политичности искусства и оригинальном, не прикладном характере своих продуктов.
Луначарский, как и позднее Троцкий, с одной стороны, приветствовал идеи производственников и даже инициировал соответствующее художественное образование, но с другой – называл превращение искусства в производство идеологически сомнительным и убогим[215]. Упреки в слабости или даже отсутствии у прозискусства идеологического измерения даже со стороны его бывших идеологов и приверженцев (например, В. Перцова, Д. Аркина и др.) стали тем водоразделом или разрывом позиций, который так и не удалось преодолеть, что во многом не позволило производственникам выступить единым фронтом и надолго закрепиться в культуре. Но причина была не в отсутствии у производственников идеологии, а в противоположном понимании ее левыми художниками и левыми политиками. Производственники понимали идеологичность искусства как выработку и строение идей, не столько гуманитарных, сколько инженерных и технических, т. е. как перманентное изобретательство в области машинной техники, призванное прежде всего решить проблемы рутинного и отчужденного труда. В условиях реализации производственнического проекта – создания художественных вещей и установления свободных общественных отношений – потребность в агитационной идеологии отпала бы сама собой.
Партийным функционерам искусство было нужно в основном для восполнения фактических недостатков в социалистическом производстве, сохранявшем отношения эксплуатации и отчуждения при номинально объявленной общественной собственности на средства производства. Поэтому вместо того, чтобы поддержать усилия производственников по преобразованию быта, преодолению стереотипов индивидуалистической чувственности и установлению форм социалистического общежития, они упрекали их за футуризм, богемность и антиидеологичность, напирая на агитационную и развлекающую функции искусства и ссылаясь на трудности переходного периода.
Но сложность состояла в том, что производственники за недостатком материальных средств также вынуждены были постоянно рекламировать свой проект, отчего тексты «Искусства коммуны», как и позднее «ЛЕФа», часто выглядели как манифесты или агитки. А когда власть перестала оказывать поддержку их усилиям на производстве, почувствовав угрозу для себя самой, полемика перешла в плоскость бесплодных идеологических пререканий. Но в упомянутых манифестах производственников-конструктивистов содержалось нечто большее, чем желание власти в культуре и безнадежные надежды на гармоничное сосуществование художников и рабочих.
* * *
Вернемся к краткой истории прозискусства. Итогом упомянутых конференций 1919–1920 гг. и начальной деятельности художественно-производственного совета отдела ИЗО Наркомпроса стал сборник «Искусство в производстве» (1921). Тогдашний заведующий отделом Д.П. Штеренберг в своей заметке «Пора понять» указывал на опыт работы производственников на фарфоровом заводе как пример «живого дела». В сборнике были приведены и другие примеры подобных инициатив[216]. О. Брик в статье «В порядке дня» подчеркивал коллективный характер искусства в социалистическом производстве, по разным причинам немыслимый в условиях ремесленного производства и капитализма. Художники в его понимании – те же рабочие и инженеры, но более сознательно и творчески относящиеся к своему труду. Отсюда задача для пролетариата – «стать активным участником творческого процесса создания вещи. Тогда минет надобность в особом штате художников-украшателей; художественность будет влита в самую выработку вещи»[217].
А.В. Филиппов («Производственное искусство»), отмечая огромный потенциал прозискусства как самостоятельного миросозерцания, указывал на традиционный для русской культуры конструктивный элемент в искусстве. По его словам, русским никогда не удавалось создать ничего действительно оригинального, только подражая западному «репродуктивному» искусству. Новое русское конструктивное искусство как искусство производящее или производственное, согласно Филиппову, «выражая инстинкт жизни, ее красоты и энергии, дерзновенно и активно противопоставляет человеческое творчество творчеству природы и вместо подражания и отражения ее готовых форм создает новые и новые формы как знаки и символы человека, победителя природы»; представляя собой «единственный широкий путь большого искусства, и, конечно, не понижение его уровня, а художественный подъем и углубление»[218]. Д.Е. Аркин («Изобразительное искусство и материальная культура») эксплицировал логику перехода от станкового авангардного искусства к производственничеству через отношение к машине. C его точки зрения, только изменение внешнего эстетического отношения к машине, захватившее, например, супрематизм, способно решить проблему разделения чувственности в самом искусстве: «Во взаимоотношениях художника и машины, художественного и машинного методов обработки материала лежат грядущие проблемы изобразительного искусства»[219]. Поставленную в беспредметном искусстве задачу синтеза чистой изобразительности и чистой конструктивности можно решить только путем перехода искусства в индустриальное производство: «От живописной беспредметности – к производственному искусству предметов – таков логический переход, ныне утверждаемый всей диалектикой художественного развития»[220]. Близкие идеи высказывали и другие авторы сборника (В. Воронов «“Чистое” и “прикладное” искусство» и А. Топорков «Форма техническая и форма художественная»).
Постепенно центральной для производственников стала проблема статуса художника на производстве, хотя ее решение в большей мере зависело от культурной политики государства и возможностей самого производства. Следующий сборник отдела ИЗО с соответствующим заглавием «Художник в производстве» так и не был подготовлен, но отдельные авторы так или иначе отзывались на эту проблему, а желание левых художников работать в мастерских и на заводах было широко распространено.
Известный в советское время искусствовед Н. Тарабукин в изданной в 1923 г. яркой монографии «От мольберта к машине» восторженно описывал уже упомянутый нами эпизод отказа 25 видных художников от станковой живописи и перехода на производство[221], предлагая вообще отказаться от понятия искусства в пользу «производственного мастерства». Содержанием этого понятия, только и способного вывести изобразительное искусство из кризиса, являлись, по Тарабукину, «утилитаризм и целесообразность вещи, ее тектонизм, которыми обусловливается ее форма и конструкция и оправдывается ее социальное назначение и функция»[222]. Чуть ранее А. Ган в своем манифесте «Конструктивизм» (Тверское издательство, 1922) сходным образом описал основные формы конструктивистского искусства. В 1922–1923 гг. Ган выпускал интересный журнал «Кино-фот», также публиковавший производственные тексты и материалы.
Самый интересный теоретик производственничества Б.И. Арватов опубликовал ряд программных текстов на темы производственного искуства и, в частности, в богатом на события 1923 г. выпустил сборник «Искусство и классы», где определял пролетарское искусство как творчество «не вне жизни существующих форм (станковая живопись, камерная музыка), а форм самой жизни». Вдохновившая позднее В. Беньямина идея автора как производителя, оформляющего материал повседневной жизни, т. е. быт, была также высказана уже в этой книге[223]. В 1926 г. Пролеткульт опубликовал другую известную книгу Арватова «Искусство и производство» (см. подробнее об этом в разделе «Становление марксистской эстетики…»). Несмотря на известный радикализм его позиции, Арватова отличала сдержанность и трезвость мысли. Так, в опубликованной в № 4 «ЛЕФа» за 1923 г. статье «Утопия или наука» он предложил программу-максимум и программу-минимум для прозискусства, сознавая сложности осуществления ее общей доктрины в наличных условиях социалистического строительства.
Авторитет В.В. Маяковского позволил объединить на платформе журнала «ЛЕФ» в том же 1923 г. лучших художников-конструктивистов, режиссеров, формалистов и теоретиков прозискусства и фактографии. В опубликованных в нем (и позднее в «Новом ЛЕФе») материалах доктрина производственного искусства получила приложения для большинства видов искусства, а интенсивная художественная полемика внутри и вне «ЛЕФа» позволила существенно уточнить ее основные положения. В частности, в текстах Н. Чужака была сформулирована идея искусства как жизнестроения: «Искусство – поскольку оно еще мыслится нами как временная, вплоть до полного растворения в жизни, своеобразная, построенная на использовании эмоции, деятельность – есть производство нужных классу и человечеству ценностей (вещей)»[224].
Именно Чужак уточнил и отношение вещной ориентации производственного искусства к идеям: «Было бы большой нелепостью при этом понимать под “вещью” только внешне-осязательную материальность, – ошибка, допущенная первыми производственниками искусства, упершимися в вульгарно-фетишизированный, метафизический материализм, – нельзя выбрасывать из представления о вещи и “идею”, поскольку идея есть необходимая предпосылка всякого реального строения – модель на завтра»[225].
Показательно, что не кто иной, как Луначарский попытался дезавуировать эту важную поправку Чужака чисто риторическим приемом: «Говорить здесь, как говорит один из самых неуклюжих конструктивистов – Чужак, о том, что это тоже производство вещей или еще что-то вроде этого, можно только по-медвежьи играя словами. На самом деле ясно, что в искусстве промышленном мы имеем прямую задачу создания радостных вещей, преображения предметов быта и элементов среды, – это часть чисто экономического прогресса, художественная часть хозяйствования. В чистом искусстве мы имеем комбинации из внешних знаков (слов, звуков и т. д.), которые выражают собою определенные идеи и чувства идейно-эмоционального мира, стремящиеся заразить собою окружающих»[226]. Толстовская концепция эмоционального заражения выступила здесь индикатором, отличающим господскую эстетику и поэтику от пролетарской[227].
Но настоящую бездну, которая отделяла культуркомиссара Страны Советов от подведомственных ему художников-футуристов, можно увидеть из следующего пассажа:
«Оба искусства бесконечно важны, и как абсолютно нелепо требовать какой-то машиноподобной конструкции от гимна или от статуи, так же тупо спрашивать, что, собственно, значит какой-нибудь орнамент на глиняном блюде. В первом искусстве все должно значить, все имеет свою огромную социально-психологическую ценность. Во втором искусстве, художественно-промышленном, ни элементы, ни комбинации его ничего не значат, а просто дают радость; как сахар – сладок и ничего не значит»[228].
Луначарский очевидно сводит здесь орнаментальность к декоративному оформлению вещей, а прозискусство – к развлекающему прикладничеству. Между тем для самих конструктивистов орнаментальный рисунок выступал элементом конструкции, а не носителем значения или источником «радости». Их обращение к орнаменту как элементу народного ремесленного искусства не сводилось к декоративному украшательству. Они переняли у народного искусства только принцип цельности его произведений. Цельная декор-конструкция объединяла конструктивные, функциональные и изобразительные элементы вещи, делая ее привлекательной сразу на всех уровнях. В результате изобразительность превращалась из иллюстративной в «чистую», неотличимую от конструкции.
Но еще более любопытные метаморфозы были связаны здесь с формой экспрессии, ведь феномен абстрактного орнамента, с одной стороны, происходил из доисторических времен, а с другой – намечал переход в цифровое будущее. Абстрактный орнамент обусловлен в этом смысле не проекцией субъекта на объект, а своего рода обратным машинным зрением, выступая настоящей «школой» вчувствования трудящейся массы[229].
Достаточно сравнить три вида орнамента: конструктивистский, супрематический и традиционный, чтобы разобраться, в чем здесь дело. В отличие от супрематических беспредметных форм, которые в 1920-е годы переносили на ткани и фарфор столь же охотно, как птичек и цветочки, конструктивистский абстрактный геометрический орнамент во многом определял само строение вещи, учитывая ее материал, фактуру и назначение.
Позиция Луначарского в этом вопросе соответствовала оценке работ Степановой и Поповой на тканях со стороны фабричного начальства, усмотревшего в них только лишенные фантазии урбанистические подобия[230]. Неудивительно, что контакт конструктивистов с производством был столь краток, хотя в 1924 г. их модели носила вся Москва. Кстати, здесь надо сказать, что достижения конструктивистов в текстильной промышленности связаны не только с именами Степановой и Поповой: можно вспомнить также Н. Ламанову, А. Экстер, В. Мухину и др. Именно на «текстильном фронте» левым художницам удалось, пусть и в ограниченных сериях своих моделей, проникнуть в «экономическую тайну вещи» (О. Брик). Реализовать их в массовом производстве им помешало не отсутствие четкой программы (как считал В. Никольский), а препятствия в ее осуществлении со стороны фабричного и партийного руководства[231].
* * *
Как уже упоминалось, в начале 1920-х активно функционировали исследовательский ИНХУК[232] и педагогический ВХУТЕМАС (а позднее ВХУТЕИН и ряд других образовательных и исследовательских институтов), где идеи производственников воплощались в лабораторно-экспериментальной и образовательной плоскостях, имея выходы в производство, архитектуру, полиграфию и театр. Кстати, тот же Никольский ошибочно считал переход производственников на театральные подмостки признаком неудачи и нежизнеспособности проекта, принципиальной невозможности его осуществления в производстве. Но мало того что эти процессы осуществлялись параллельно, надо учитывать, с каким театром имели дело художники-производственники. Биомеханический театр Мейерхольда, как и кинематограф Д. Вертова, преследовал прежде всего производственные, педагогические и организационные задачи. Поэтому костюмы, мебель и общее оформление спектаклей конструктивистами были органично (точнее, «механично») вписаны в общую задачу, одновременно художественную и политическую[233].
Тезисы производственного искусства, которые обсуждались в середине 1920-х годов в ЛЕФе, нельзя считать отступлением его теории от первоначальных революционных манифестов в сторону постепенной эволюции (В. Никольский). Общие совещания работников ЛЕФа начала 1925 г. были посвящены не столько ревизии прозискусства, сколько уточнению позиций и выработке его цельной платформы. На втором таком совещании выступил В. Перцов с критическим обзором «Ревизия Левого фронта в современном русском искусстве», вышедшим отдельным изданием, который принято считать одной из первых обстоятельных критических реконструкций истории и теории производственного искусства. В своем докладе он, в частности, попытался определить «технически возможные пределы кооперации между художником-конструктивистом и фабрикой»[234]. Имея в виду тезисы О. Брика и С. Третьякова, Перцов полагал, что путь в тяжелую промышленность художникам заказан ввиду того обстоятельства, что для этого им придется совсем отказаться от искусства и стать инженерами. Наиболее убедительно выглядела в этой связи критика Перцовым позиции А. Гана, который, как известно, настаивал на сведении продуктов «интеллектуально-материального производства» к четырем формам: тектоника, орудия производства, фактура и конструкция. Перцов на это замечал, что подобным «дисциплинам» следует в своей работе любой рабочий-металлист, не становясь от этого художником. Никольский резюмировал: «Как говорит Перцов, в понимании Гана “высокая квалификация всякой отрасли труда и является тем, чем должно быть искусство”, а если это так, то “в построении Гана нет места для специальной функции художника на сегодняшний день”, ибо для художника и Гана “не остается ни особого материала, ни особого метода обработки, характеризующих самостоятельную профессию”, отличающих художника от искусного мастера-рабочего»[235].
Но и в легкой промышленности в современных условиях производства художники, по мнению Перцова, обречены на прикладничество, что якобы вынуждены были признать Брик и Арватов в своих более поздних поправках о «нео-прикладничестве» и идее «программы-минимум» для производственников, состоящей в «предсмертном оздоровлении» прикладничества и даже в необходимости выполнения левым искусством «архивно-восполняющих» агитационно-пропагандистских функций[236].
Реагируя на доклад Б. Кушнера 1922 г. в ИНХУКе «Организаторы производства», опубликованный позднее в «ЛЕФе»[237], Перцов ставил под сомнение его тезис о возможности замены на производстве инженеров-конструкторов на художников ввиду того, что функции и преференции такого художника он определял только психологическими категориями «большей находчивости и изобретательности»[238]. Поэтому и заменить инженера на производстве художник может, только полностью превратившись в инженера, т. е. самоуничтожившись.
Также не убеждали Никольского и дополняющие друг друга тексты Тарабукина и Арватова, которые он разбирает в заключение своего обзора. Так, Тарабукин, уточняя позицию Кушнера, писал, что производственное мастерство «создается у машины, и деятелями его являются художники-инженеры и художники-рабочие в широком смысле этого слова»[239], т. е. делал акцент на том, что на производстве все должны быть художниками, но не обосновывал, как это в принципе возможно. Арватов вторил Тарабукину: «Художник-инженер, изобретая в производстве формы вещей на почве органического сотрудничества с изобретателями-технологами, тем самым ликвидирует формально-техническую консервативную энергию, чтобы освободить техническое развитие от власти шаблона»[240]. Никольский полагал, что Арватов повторяет здесь ошибку Кушнера, считая инженеров менее развитыми в формальном мастерстве по сравнению с художниками, но не проясняя их специфических производственных кондиций. Но Арватов, по крайней мере, говорил о сотрудничестве двух упомянутых фигур на производстве, иногда противореча себе самому[241]. Никольский резюмирует: «Перцов совершенно прав, упрекая “ЛЕФ” за то, что в их методике “совершенно опущена творческая механика работы производителя искусства”[242], а все внимание сосредоточено на потребителе. Решение вопроса о производителе сводится к простому, абсолютно недоказанному провозглашению необходимости замены в производстве инженера-конструктора инженером-художником»[243].
Здравомыслящая критика Перцова – Никольского, подкрепленная властным перформативом Луначарского, сводилась, таким образом, к указаниям на декларативность и бездоказательность положений производственников, их неподкрепленность практикой. Но идеи последних были вызваны как раз практической необходимостью введения конструктивистской эстетики и логики в отсталое советское производство, что требовало специального художественного образования для инженеров и повышения технической компетенции художников. Говоря о слиянии искусства и производства, нельзя было объявлять это слияние уже свершившимся фактом. Единый исторический исток техне и поэсиса делал подобное слияние только возможным – для его осуществления нужны, помимо материальных и политических условий, сами эти технические идеи, выливающиеся в изобретение новых машин. Но ценность разбираемых художественных теорий от этого не умалялась.
Полноценным ответом на недопонимания Перцова – Никольского были, например, программа Степановой – Поповой для 1-й ситценабивной фабрики и ВХУТЕМАСа[244], конструкторская деятельность А. Родченко и других конструктивистов (см. ниже), а также архитекторов группы ОСА (Объединение современных архитекторов)[245].
Из основных достижений производственников обычно вспоминают советский отдел на Международной выставке декоративного искусства и промышленности 1925 г. в Париже[246], над павильоном которого работал К. Мельников, а центральный экспонат – знаменитый «рабочий клуб» – спроектировал А. Родченко; упоминают татлинскую мебель, текстиль Л. Поповой и В. Степановой, модели прозодежды К. Миллер и А. Экстер, рекламные плакаты братьев В. и Г. Стенбергов, фотомонтажи В. Маяковского и А. Родченко, авангардную полиграфию А. Гана и Л. Лисицкого, урбанистические модели и сооружения А. Лавинского, конструктивистские шедевры архитекторов ОСА, супрематический фарфор К. Малевича, биомеханический театр Вс. Мейерхольда, фильмы Д. Вертова.
Но главным в производственничестве были все же не достижения отдельных художников, а само это движение и оригинальная концепция искусства, выросшая из повседневного опыта их работы в производственных мастерских и фабриках, учебных заведениях и художественных институциях, остающаяся до сих пор непревзойденной, хотя и релятивизированная искусствоведами и полузабытая современными художниками.
В затее вернуть искусство народным массам содержался не только лозунг, но и конкретная задача организации художественной промышленности и художественного образования в стране отсталой, изможденной войнами и голодом, с преимущественно неграмотным населением. Причем возвращение это было, как минимум, ассоциативно связано с процессами демократизации российского общества и идеалами народовластия и одновременно с не менее важной проблемой омассовления общества, продолжающегося разделения труда в индустриальном производстве и усиления отчуждения между людьми. Поэтому перед художниками и теоретиками производственничества вставали такие несводимые друг к другу, но существенно связанные между собой проблемы, как эмансипация труда, возвращение ему окончательно утраченного при капитализме творческого характера, демократизация самого искусства в перспективе становления его нового коллективного автора и массового потребителя.
Существование искусства в режиме массового производства и потребления, а не частной лаборатории формальных экспериментов ставило перед производственниками проблемы, на которые не смогли ответить более поздние теоретики модернизма (Т. Адорно, К. Гринберг), без того, чтобы в очередной раз не запереть художника в зоне абсолютной автономии, а народ – в резервацию китча и дурного вкуса. Задача состояла в координации производства и потребления через введение на заводы фигур художника-конструктура и инженера-изобретателя в перспективе превращения индивидуалистического искусства в массовое без снижения его качества и революционного посыла.
Труд и производство новых вещей
Итак, основная дилемма концепции производственников была обусловлена еще кантовской антиномией в понимании искусства как, с одной стороны, практики, способной восстановить единство рациональной и чувственной, природной и общественной сущности человека, а с другой – эксклюзивной способности, обусловленной только индивидуальным гением художника. Это противоречие, только утвердившееся в истории современного искусства в своего рода «паралогическом резервуаре» (Р. Краусс), закрепляло разрыв между творчеством и материальным производством, который отражал общую тенденцию дальнейшего разделения труда и роста отчуждения.
Но производственники предложили свой, отличный от шиллеровского «государства прекрасной видимости» способ снятия этой антиномии, рассматривая искусство с точки зрения труда и выдвинув вместо понятия гения-художника идею мастера. «Всякое произведение искусства есть вещь», – писали авторы «Искусства коммуны». «Для нас искусство – создание новых вещей», – вторили им авторы берлинского журнала «Вещь». «Искусство будущего не гурманство, а сам преображенный труд», – заявлял Н. Тарабукин[247]. В рамках исторической реконструкции искусства, предпринятой Б. Арватовым[248], художник, хотя и понимался как выделившийся из средневековых ремесленных цехов «мастер», отличался от ремесленника именно наличием этого самого мастерства. Согласно Арватову, не ремесленник был когда-то художником, а художник – ремесленником. Подобно ремесленнику, он был вписан в систему повседневных нужд и практик общества и вплоть до раннебуржуазной эпохи производил не отдельные предметы роскоши и музейные экспонаты, а полнокровно участвовал в создании всей системы его жизнедеятельности. Поэтому современному художнику, согласно Арватову, надо как можно дальше уходить от ремесленности, а не возвращаться к ней.
Кстати, и античное искусство, до сих пор представляющее для нас, по словам Маркса, «норму и недосягаемый образец»[249], было таковым, с точки зрения Арватова, не в силу его «классичности» и «реалистичности», а в силу вписанности в круг повседневной жизни полиса. Подобный историзм предполагал возможность новой трансформации искусства, его возвращения из гегелевских странствий по кругам отчуждения – дворцов, музеев и галерей – в жизнь простых людей. При этом будущее искусства виделось Арватову, Гану и Тарабукину не в возврате к кустарному ремеслу, как это получалось у Д. Рёскина и У. Морриса (и у Прудона), а, напротив, в участии художников в организации машинного, индустриального производства в качестве инженеров и изобретателей.
Осип Брик со свойственным ему радикализмом обострял проблему следующим образом: «Почему выделывание натюрморта “основнее” выделывания ситца? Опыт станкового живописца не есть опыт художника вообще, а только опыт одного частного случая живописного труда»[250]. Сравнивать натюрморт с ситцем, разумеется, не вполне корректно. Проблема, которая стоит за этим сравнением, – прикладной характер искусства при его переходе от станковых форм в производственное русло. Это когда, например, супрематическая картина с холста переносится на фарфоровую тарелку как на всего лишь новый материальный носитель. Но Тарабукин, Пунин и Брик грезили о чем-то большем, а именно о проникновении искусства в «экономическую тайну» вещи. Брик писал в этой связи: «Основная мысль производственного искусства о том, что внешний облик вещи определяется экономическим назначением вещи, а не абстрактными, эстетическими соображениями»[251]. Можно подумать, что здесь имелась в виду идея мастерски выполненных дизайнерских изделий. Это не совсем верно. В этом плане попытки советских искусствоведов 60-х годов прошлого века реабилитировать производственное искусство, сводя его к истокам советского дизайна, объяснялись исключительно идеологической конъюнктурой[252].
Изготовление удобной мебели и одежды, выработка «экономичной походки» и целесообразной обстановки понимались Арватовым как часть программы-минимум для проекта прозискусства в условиях отсталого хозяйства и неразвитых производительных сил. При этом он полагал, что сами эти изделия способны не только улучшить благосостояние, но и изменить чувственные привычки людей. Говоря о ситце, машине и быте, производственники целили в человека, вернее, в его растущие возможности и новую родовую, общественную сущность, надеясь на плавный переход к осуществлению программы-максимум.
Здесь важно отметить, как эта программа соотносится с идеями К. Маркса[253]. Совершенно в духе раннего Маркса Б. Арватов, Н. Тарабукин, да и И. Эренбург видели в освобождении вещей только диалектический этап к полному развеществлению как преодолению фетишистского превращения отношений между людьми в отношения между вещами. «Рабочий не только освобождает вещь от человека, он и человека освобождает от вещи. Вещь для него не ярмо, а радость. Искусство – это создание вещей (пусть и не грубо утилитарных, но всегда необходимых)»[254]. Поэтому в понимании вещи как предмета целесообразного и утилитарного (или «тектонического», согласно канонам конструктивизма), что приравнивалось к ее «художественности», не было ничего антихудожественного. Постановку вопроса об истоке художественного творения у производственников можно без натяжки сопоставить в этом смысле с «генеалогией морали» Фр. Ницше, обнаружившего в основе благостных этических норм совсем не этические мотивы. Но, как и Ницше, продукционисты говорили не столько о возвращении к доэтическому/доэстетическому (докультурному) состоянию, т. е. к производству всего лишь утилитарных бытовых вещей, сколько о преображении самого быта, преодолевшего угрозу нового овеществления. Быт понимался ими предельно широко и динамично: не только как обеспечение людей удобным и дешевым жилищем, эргономичной мебелью и посудой, но и как грамматика новых отношений между людьми на основе новых отношений с вещами. Вещи, как и быт, по мысли производственников, должны быть количественно сокращены, качественно упрощены, экономизированы и постепенно преодолены. Как писал Арватов: «Полное слияние художественных форм с формами быта; полное погружение искусства в жизнь; созидание максимально организованного и целесообразного, непрестанно творимого бытия не только даст гармонию жизни, наиболее радостное и полное развертывание всех социальных активностей, но и уничтожит самое понятие быта. Быт, т. е. нечто статическое, закостенелое, умрет, так как формы бытия (то, что сейчас является бытом) будут все время меняться с изменением производительных сил»[255].
* * *
Именно в этом заключено основное отличие производственнической доктрины ЛЕФа от идей Ле Корбюзье и В. Гропиуса. Немаловажным фактом является здесь то, что, в отличие от теоретиков производственного искусства в России, их западные коллеги стояли на позициях чистого утилитаризма – экономичности и целесообразности бытовых вещей, каковые выступали здесь в качестве абстрактных эстетических принципов, сформулированных на основе односторонне понятой идеи технического прогресса. Тем самым открывался путь для фетишизации производимых вещей и даже их сакрализации в условиях постоянной подмены искусства чистым техницизмом и промышленным дизайном[256].
Русские же производственники видели решение проблемы баланса между производством и потреблением в создании временных, даже одноразовых (Н. Тарабукин) вещей, позволяющих человеку не привязываться к ним, что было обусловлено их коллективным производством и потреблением. Ибо сущность вещи проявляется не в индивидуальном владении ею как частной собственностью, даже при высокой оценке вложенного в нее труда и таланта, а в ее коллективном использовании вплоть до полного исчерпания утилитарных и эстетических качеств в перспективе удовлетворения соответствующих потребностей и трансформации неудовлетворимых желаний.
В проектах Александра Родченко эта тенденция выражалась в общем сокращении количества необходимых человеку в быту вещей и их своеобразной экономии – минимализации их функционала, не противоречащей эргономичности и эстетике. То есть вещи должны были быть не просто полезными, утилитарными, не только целесообразными, но и экономичными, занимающими немного места и без лишних деталей[257].
Беспредметники и производственники: к проблеме наследия авангарда
Производственники считали, что старорежимная «вещь» исчезает в условиях современного индустриального производства (Н. Тарабукин). В этом смысле производственник не мог не быть беспредметником, наследуя соответствующей художественной традиции не только в негативном плане критики репрезентативного и фигуративного искусства, но в позитивном утверждении беспредметности современного мира. Ибо чем еще отличались бы утилитарные произведения производственного искусства от дизайнерских поделок Веркбунда и баухаусной мебели? Таким образом, производственниками признавалось, что левое искусство не может сводиться к производству элементов материальной культуры, даже если понимать ее по-богдановски – как тождество духовного и материального в идее тотальной социокультурной организации.
Разумеется, в их манифестах об этом прямо не говорилось. Более того, эстетический аспект зачастую полностью отвергался производственниками – даже чистых конструктивистов в ЛЕФе иногда записывали в ряды эстетствующих буржуазных художников. Некоторая передержка теоретиков ЛЕФа и ИНХУКа состояла в ригористичном отказе от предшественников и союзников в борьбе с буржуазным искусством и обществом. Что, впрочем, делало их очень похожими на ранних кубофутуристов.
Но в кубофутуризме и беспредметном искусстве содержался не только негативный (иллюзорный) момент критики капиталистического общества. Там беспредметность выражала как беспредметность эксплуатируемого рабочего, так и и грядущую беспредметность коммуниста – человека будущего. Поэтому странно критиковать дореволюционных футуристов за отсутствие контакта с производством вещей – это было бы неправильно, пока само производство находилось в руках капиталистов.
Как мы уже писали, наиболее трезвые из производственников (Тарабукин и Арватов) понимали, что в современных им промышленных условиях производственное искусство является больше проектом, нежели реальностью, неизбежно приобретая формы лабораторных опытов и политической агитации.
Основные теоретические положения «ЛЕФов», хотя зачастую и не соответствовали возможностям их осуществления в реальной художественной практике, не содержали ничего фантастического. Они исходили из трудовой теории искусства, идущей еще от Гегеля, т. е. рассматривали искусство как вид труда, определенного на уровне его материала и формы общественными способами производства и потребления. Произведение искусства превращалось у них из господской игрушки или предмета роскоши правящего класса в связанную со всем строем социальной жизни утилитарную вещь, находящую свое конечное оправдание и смысл в бытовом коллективном использовании.
Но, в отличие от ремесленных теорий Д. Рёскина и У. Морриса, производственники опирались на трудовые массы, индустриально-машинное производство и идею научной организации труда (НОТ). Задача, соответственно, состояла в том, чтобы довести трудовой процесс до уровня творчества, а искусство вернуть в общественное производство, из которого оно выделилось при капитализме, с соответствующим разделением чувственности и видов труда.
В опоре «ЛЕФа» на широкую социальную базу, объединявшую и представителей пролетариата, и «попутчиков», можно видеть наиболее последовательное в те сложные времена проявление демократизма. Нельзя не упомянуть и о самоуправлении внутри «ЛЕФа», об отсутствии диктата со стороны такого авторитетного поэта революции, каким был В. Маяковский. «ЛЕФ» рассматривался всеми не просто как журнал, в котором публиковались авторы-единомышленники. Это был прежде всего революционный художественно-политический проект, который никто из редакторов не использовал для каких-то личных карьерных целей. Между его участниками велись порой принципиальные и нелицеприятные споры (например, Чужак vs Брик, Арватов vs Шкловский и т. д.). Прочная идейная солидарность позволила «ЛЕФам» достаточно долго объединять такие разнообразные художественные направления 1920-х, как футуризм и фактография, формализм и нарождающаяся социология искусства, киноки и театр аттракционов, производственничество и конструктивизм.
Но уже с первых номеров агрессивные левацкие идеи «ЛЕФов» натолкнулись на непонимание, ревность и конкуренцию со стороны политиков и ряда художественных групп, боровшихся за власть в культуре. «ЛЕФы» боролись не столько за власть, сколько за определенное ее понимание, идущее не от номинальной политизации автора в качестве коммуниста (позиция троцкистов) и не от его фактического социального статуса в качестве пролетария (Пролеткульт, РАПП), а от реальной включенности художника в процесс революционизации мира художественными средствами. Диалектическая формула О. Брика, что пролетарское искусство – это не искусство для пролетариев и не искусство пролетариев, а искусство художников-пролетариев, совмещала идею революционности и мастерства в искусстве. Со стороны социально-политической эта формула предполагала возможность для представителя любого социального слоя встать на точку зрения наиболее прогрессивного класса, а со стороны художественной она одновременно боролась с любительством, отстаивая позиции качества произведений, и выступала за непрерывную революционизацию художественных форм против использования устаревших приемов, оправдываемого простым участием автора в партии.
Но вследствие огромных усилий, затраченных на оправдания и ответную критику в адрес самых различных авторов и групп (А. Луначарский и Л. Троцкий, напостовцы и рапповцы, «Кузница» и «Перевал»), у теоретиков «ЛЕФа» не оставалось времени на развитие собственной позитивной программы. Этим объясняются и упрощения позиций, хотя синтез различных художественных идей на общей политической платформе поначалу был возможен.
Но и помимо внутрицеховых разборок, в условиях НЭПа стратегия «ЛЕФа» столкнулась с рядом противоречий, приведших в конце концов эту группу к распаду. Основная проблема состояла в том, что их художественная программа соответствовала только реально осуществленному идеалу коммуны, в котором могли бы действительно совпасть утопическое и эстетическое, красота и свобода. Но при переходе к новому государственному управлению левое искусство столкнулось с перелицовкой всех культурных установок: понимаемые буквально, они могли начать играть прямо противоположную, реакционную роль.
Доктрина производственного искусства
Как мы уже писали, Н. Чужаку совместно с теоретиками круга «ЛЕФа» Б. Кушнером, Б. Арватовым, О. Бриком, С. Третьяковым и др. удалось наметить основные положения производственнической доктрины, претендовавшей на преодоление ложной альтернативы «чистого искусства» и искусства в его политически редуцированном понимании – как пропаганды каких-то истинных политических идей.
К сожалению, у этой доктрины было слишком много допущений, от реализации которых зависело ее адекватное понимание и применение. Во-первых, производственное искусство как способ строительства социальной жизни художественными средствами могло существовать только в условиях действительно демократического государства, последовательно осуществляющего проект социалистических преобразований в обществе. Подобно тому, как футуризм мог существовать только в революционное время радикальной ломки всех сторон социальной жизни.
Во-вторых, провозглашенный производственниками тезис утилитарности был релевантен (и то отчасти) только пластическим пространственным искусствам – архитектуре, живописи и т. д., но не литературе, в которой он мог выражаться исключительно в опосредованной языком форме и иметь агитационный характер. Хотя сама эта агитационность не противоречила воспринятой «ЛЕФами» у раннего Пролеткульта стратегии демократизации искусства и к идеологии не сводилась. Столь смущающая прогрессивную общественность левая пропаганда означала здесь непрерывное взаимодействие и обмен материала и формы искусства, практического и поэтического языков. С точки зрения формы характерная для литературы факта тенденциозность была не менее плодотворным приемом, чем мнимая беспристрастность чистой лирики или созерцательного искусства. Сама материя новой социальной жизни в своих имманентных формах предоставляла художнику широчайший выбор мотиваций и приемов. По сути дела, речь шла о самоорганизации социальной материи во взаимном движении борющихся за свободу трудящихся и двигающихся к общественному производству художников.
Для самого искусства переход на фабрику был важным шагом, приближением к изначальной природе художественного творчества в обществе – производству очеловеченных вещей, специфическому оформлению материала природы. Тем более что творчество здесь совпадало с трудом, а искусство с производством. В этом своем качестве искусство вплотную приближалось к массам, превращаясь в «живописное оформление быта», но не теряло при этом ни своих эстетических кондиций, ни критической функции.
Бриковский тезис, что «внешний облик вещи определяется экономическим назначением вещи, а не абстрактными, эстетическими соображениями», не стоит противопоставлять в этом смысле традиционному пониманию искусства. Ведь одно дело литературный манифест, а другое – способность соответствовать его декларациям на уровне самого художественного продукта и тем паче общественного производства. Так, несмотря на призывы некоторых лефовцев к сносу Большого театра, закрытию кинотеатров и т. д., искусство оставалось для них искусством, предлагались даже спасительные для него в новых социальных условиях формы. Ведь ясно же, что утилитарно потребить изготовленную по моделям Степановой вещь – это не то же самое, что съесть бутерброд или посмотреть развлекательный фильм в удобном кресле кинотеатра. Дело здесь даже не в чистом экономическом утилитаризме, а в том, кто будет носить такую одежду и для каких целей.
Помимо этой охранительной функции, «эстетическая» концепция «ЛЕФа» ставила вопрос о спасении самих вещей и производящего их человека из плена отчуждения, которое в условиях сохраняющегося при советской власти разделения труда никуда не исчезло. Ибо общественный характер присвоения продуктов труда при социализме был только необходимым, но недостаточным условием освобождения этого труда. Вопрос стоял о преобразовании самой его природы: не только о возвращении вещей как продуктов труда их изготовителям, но и о возвращении самим производителям творческой природы их деятельности в качестве цельных личностей. Работа художника на производстве была в этом смысле не только целью для искусства, но и моделью свободного труда: человек самостоятельно обрабатывает его предмет и производит его продукт в результате полновесного трудового и творческого процесса от замысла до потребления. Вещи при этом должны были обрести утраченную при капитализме весомость как произведенные анонимной машиной продукты, которые можно было обменять на зарплату за такой же безличный, ничего конкретного не производящий труд – рутинную трату энергии. Соответствующее понимание искусства выступало моделью для всех других социальных практик, оказывая на них обратное критическое воздействие и получая реализацию и оправдание в общественно полезном труде[258].
* * *
Но в этом пункте позиции производственников несколько отличались. Например, в статье «ЛЕФ и НЭП» Третьяков различал два вида новой советской чувственности и ставил вопрос о воздействии на чувственность «потребительских масс» с целью выработки нового революционного вкуса и соответственного изменения сознания. То же различие встречаем у В. Силлова, который в своей статье о пролетарской поэзии «Расея или РСФСР» писал такие вещи, которые уже через 6–7 лет невозможно было нигде напечатать: «Наивно было бы предполагать, что все идеологические и формальные элементы современной пролетарской поэзии могут быть действительно выработаны в процессе осознания пролетариата себя как класса, несущего новую культуру. Современный пролетариат, находящийся в буржуазном капиталистическом окружении, воспитанный на господствующей (т. е. опять-таки буржуазной, идеалистической) культуре, не может не находиться под влиянием хотя бы элементов старой культуры»[259].
Желание, с одной стороны, придать статус трудовой, производственной деятельности интеллектуальным и художественным занятиям, а с другой – дотянуть реальный производственный труд до статуса художественного не могло не привести со временем к смешениям этих задач и противоречиям внутри «ЛЕФа». Ибо это были очень разные задачи, предполагающие совершенно различные стратегии культурной политики.
Ряд теоретиков более лингвистического направления, прежде всего, такие как Г. Винокур и В. Шкловский, полагали, что изменения эти должны носить чисто формальный характер. То есть достаточно, грубо говоря, сменить стилевой прием или откорректировать фразеологию в плане ее более свежего остраняющего воздействия – и с нарождающимся бюрократизмом и мещанством в искусстве и, как следствие, в политике и быту будет покончено. Но, в принципе, формалисты в «ЛЕФе» ограничивались экспертной академической позицией и на роль создателей теории сугубо левого искусства не претендовали. Говоря о внесюжетной прозе, тот же Шкловский, например, не имел в виду ничего сверхъестественного, никакого чистого искусства, берущегося из чистой формы, а только отказ от уподобления уже существующему в устной традиции фикциональному рассказу, лежащему в основе любого классического сюжета, и формальную обработку свежего материала изменившейся жизни на фоне усиления новых медиа – прежде всего газет. Характерно, что взгляды на природу поэтического языка у Винокура ничем, в принципе, не отличаются от заявленных в те же годы объективно-феноменологических позиций Г. Шпета, А. Лосева и Л. Выготского. Однако формалисты, в отличие от производственников «ЛЕФа», настаивали на различии практического и поэтического языков и принципиальной автономности эстетической сферы.
Примирить эти позиции на социологической марксистской основе пытались такие теоретики, как Б. Арватов, Н. Горлов, И. Гроссман-Рощин и др. Так, Арватов предлагал формальносоциологический метод, согласно которому практический и поэтический языки сущностно не отличаются, представляя собой взаимодействующие системы. Поэтический язык в такой подаче выступает как бы бессознательным языка практического. Арватов считал, что вслед за социалистическим переустройством общества, которое пока находится в ведении языка поэзии, изменится и природа практического языка, как и самой реальности, в которую наконец проникнет искусство.
Разумеется, примирения на этой основе в рамках «ЛЕФа» не произошло. Напротив, усиливающаяся на фоне внешней критики футуризма фактографическая тенденция в «Новом ЛЕФе» привела тех же Третьякова и Брика практически к отказу от художественной литературы в пользу очерка и газетной статьи. А это, в свою очередь, вызвало внутренний конфликт с футуристами и Маяковским, которые хотели продолжать «писать стихи».
Надо учитывать упомянутое здесь сопротивление со стороны так называемых пролетарских писателей и критиков («Кузница», «Печать и революция» и др.), которые изначально придерживались совершенно противоположных лефовцам задач, как это будет дальше называться, «построения социализма в отдельно взятой стране», т. е. реальной консервации сложившейся властной конфигурации «победившего пролетариата» без изменения устоявшейся социальной иерархии, бытовых стереотипов и т. д. Это предполагало стратегию эстетизации и героизации существующего состояния отношений в обществе и производстве – прославление труда, труд как путь в социализм и т. д. Искусство, соответственно, должно было, с одной стороны, агитировать за этот труд, а с другой – облегчать его, например в духе Л. Выготского, эмоционально разряжать или просто развлекать.
И надо сказать, что ввиду изначальных атак на лефовцев им уже с первого номера приходилось вставать в защитную и оправдывающуюся позицию по отношению к разнообразным и довольно влиятельным критикам (достаточно вспомнить о главреде «Печати и революции» А. Воронском или авторе «Правды» Л. Сосновском). Споры вокруг подлинно «левого» искусства, понятий социального заказа, производственничества, литературы факта и т. д. отвлекали исследователей и художников от самой культурной и творческой работы. Акценты ввиду непрерывной обороны и ответных атак постоянно смещались навстречу критикам, и если поначалу «ЛЕФы» отстаивали свою позицию и высмеивали критиков левого футуризма за отсталость, то постепенно начали оправдываться и извиняться за футуристические грехи молодости (например, за «Згару-амбу» В. Каменского из № 1 «ЛЕФа»). В конце концов все взорвалось изнутри, и эта вольница, как называл «ЛЕФ» О. Брик, превратилась в затравленную волчицу, огрызавшуюся на всех и кусающую собственный хвост.
* * *
Именно связь теоретиков и практиков производственного искусства с идеями коммунизма и русской революцией 1917 г. определила ту во многом трагическую двойственность, которая не позволила этому направлению укрепиться и полноценно реализоваться исторически. Не ограничиваясь ролью технологов и дизайнеров нового индустриального быта, претендуя на более фундаментальное воздействие своих работ на социально-экономические процессы, прямо увязывая свои теории искусства и художественные программы с задачами революционных преобразований в стране на всех уровнях общественного бытия, они не всегда осознавали, что успех зависел здесь не только от искусства, пусть и понимаемого как производственное. Ибо технологизация художественного труда еще не решала, а только ставила проблему труда индустриального, тем более в условиях неразвитости средств производства. Во многом именно по этой причине идеи производственников уверенно прозвучали только в первой половине 1920-х годов, а к началу 30-х соответствующие художественные инициативы были деклассированы и удерживались разве что в архитектуре (круг ОСА) и отчасти в художественной публицистике (объединение «Октябрь»), испытывая постоянное давление со стороны надвигающейся реакции, хотя их критика, в том числе со стороны бывших сторонников, была по большей части несправедливой[260].
Вопрос в том, кроются ли причины этого обстоятельства в какой-то роковой ошибке, допущенной самими производственниками, или носят по большей части внешний характер, будучи обусловлены постепенным свертыванием коммунистического проекта и наступлением на революционные завоевания Октября? И наконец: перестало ли само производственное искусство в этих условиях быть «коммунистическим», навсегда утратив свой революционный характер? Вопросы, которые я, как говорится, хотел бы считать риторическими.
Уроки производственного искусства
1. Главный урок производственничества 1920-х годов состоит в том, что на развилке понимания искусства как познания, агитации, развлечения, пользы или жизнестроения совершенно не обязательно следовать лишь какой-то одной из означенных перспектив. Разнородная природа искусства позволяет рассматривать его со всех этих точек зрения одновременно. Однако если делать это с учетом социальной природы искусства и его историчности, это будет важнейшим условием его освобождения от тотализующего идеологического перехвата или коммерческого подчинения.
История производственничества убедительно показывает, что авангардное искусство не может, не изменяя себе, ни изображать реальность в репрезентативных стратегиях, ни производить «сами вещи» в условиях частной собственности и капиталистического производства. Тем более что в контексте рынка современного искусства с его системами брендов, звезд и политтехнологий обе эти стратегии сплелись до неразличимости, оборачиваясь то декоративным, то идеологическим дизайном для господствующих классов.
Художник должен уметь не привязываться ни к вещам, ни к их отсутствию, тем более что жизнь непрерывно меняется и усложняется. Поэтому остаться верным самому себе и авангарду в условиях капитализма искусство может, только сохраняя критическую дистанцию по отношению к навязываемым ей формам и отношениям, вырабатывая стратегии неприсвоения рынком и буржуазной культурой результатов своего труда, активно задействуя и изобретая еще не перехваченные художественные приемы и технологии. В этом смысле актуальными остаются заветы Бориса Арватова: «Фетишизм эстетических материалов должен быть уничтожен»; «Фетишизм эстетических приемов, форм и задач должен быть уничтожен»; «Фетишизм эстетических орудий должен быть уничтожен»[261].
2. Теоретики производственничества совершали ошибку, подчиняя актуальную художественную практику исключительно индустриальному производству и забывая о критической функции искусства. Ведь проблема состояла не в бриковском «ситце». Если уж на то пошло, проблема никогда не была в станке и холсте. Дело было в понятии рамок и границ искусства. А эти рамки и границы не постоянны и не зависят исключительно от самого искусства. В революционные эпохи они начинают нарушаться, а иногда и оборачиваться. Поэтому когда коммунистический проект взяли на себя передовые слои российского народа, сломившие сопротивление господ и затем приступившие к строительству нового общества, искусству не приходилось выбирать, эстетизировать ли успехи и неудачи этого строительства (левые и правые традиционалисты) или пытаться встроиться в самый форватер его осуществления (беспредметники-производственники). Но как только социальный проект начал буксовать, художники опять оказались перед выбором: продолжать ли производственную стратегию, уже только идеологически обслуживая номинально социалистическое государство (ибо в производство их так и не пустили), или перейти к его критике с еще более радикальных позиций. В результате производственники зависли между искусом дизайнерского прикладничества и теоретическим моделированием утопического будущего. К сожалению, для 1920-х годов утопия производственников искусства осталась только возможным горизонтом развития искусства, впервые в истории раскрывшимся в таких впечатляющих масштабах перед художниками и теоретиками.
3. Слабым местом лефовской доктрины был вопрос об отношении искусства к познанию. Рассмотрение искусства не как привилегированной индивидуальной деятельности, а как пусть и сложно опосредованной, но все же социальной практики было, безусловно, многообещающим, особенно при осознании опасностей социологического редукционизма. Но желание «ЛЕФов» во всем противостоять миметически-отражательному искусству привело к перегибу – к забвению критической функции искусства, хотя де-факто продукты производственного искусства также способны ее выполнять. Попытки «ЛЕФов» провозгласить в своем понимании искусства полный выход за пределы эстетики носил по большей части провокационно-полемический характер. Ибо слияние искусства и жизни могло быть только утопическим вектором развития, на пути которого искусство, как и политику, подстерегали опасные подмены (например, фашизм). Отсюда, напротив, следовало повышение ценности теоретического знания, которое совсем не обязательно противоречит революционизации действительности, – известный тезис Маркса об изменении мира не отменяет в этом смысле его научную интерпретацию.
4. В упомянутой книге 1932 г. уже довольно испуганный погромом авангардного искусства 20-х годов Д. Аркин все же признавал, что без производственной концепции все усилия искусства в художественной промышленности свелись бы к прикладничеству, с одной стороны, обеспечивающему, маскировку низкого качества товаров широкого потребления (ширпотреб), а с другой – оправдывающему создание уникальных предметов роскоши, потребляемых верхушкой рынка (уникаты). Причем суррогаты воспроизводят здесь формальные свойства уникатов. Аркин отмечал: «За этой верхушкой сохраняется таким путем командующая, диктаторская роль в смысле законодательства вкусов, в смысле регулирования моды»[262]. Но именно это положение вещей мы и имеем сегодня в системе разноуровневого производства и торговли, отражающей отношения людей в буржуазном обществе, когда трудящиеся и наемные работники покупают вещи, внешне сходные с вещами от кутюр, не обращая внимания на качество, а так называемые «демократические марки» гордо легитимируют подобную потребительскую дискриминацию в своей производственной, торговой и рекламной политике[263].
Аркин ставил вопрос политически, когда связывал интерес буржуазной художественной промышленности к искусству только с желанием создать свой особый, не сводящийся к аристократическому, бытовой стиль – собственно буржуазный. Он связывал его с собственно орнаментально-декоративным стилем модерна. Но, как мы выяснили, орнамент орнаменту рознь. Орнамент, который имел в виду Аркин, – чисто линейный и ни о каком изоморфизме конструкции и экспрессии не говорит, как и об отношении к миметическому опыту нечувственных подобий. Приговор Аркина жесток, но справедлив: «Самый тип художественной работы, сосредоточивающий все внимание художника на орнаментально-декоративной отделке вещи, углубляет отчужденность художника от производства, от новой индустриальной техники»[264]. Вот только он имеет мало отношения к производственникам из «ЛЕФа», хотя Аркин критикует их за перевернутый мелкобуржуазный вещизм, абстрактный формализм, технико-утилитарный функционализм, отказ от «идеологической сути» искусства и растворение его в производстве. Мы уже намекали, что подобная критика была справедливой только отчасти, являясь больше следствием страха теоретика – как бывшего идеолога производственного искусства 1920-х годов – за собственную судьбу.
Между тем программа производственного искусства ориентировалась на преодоление господской логики и соответствующей чувственности в искусстве на всех уровнях – рецептивно-миметическом, формально-конструктивном, медиа-коммуникативном и собственно производственно-потребительском[265]. И поэтому уже очень скоро, в середине 1920-х годов, она столкнулась на всех этих уровнях с яростным противодействием соответствующих властных инстанций, которые пытались взять ее под свой контроль. В этом плане потеря производственниками «интереса» к производству, о которой цинично пишет в заключении своей критики Аркин[266], случилась вовсе не от хорошей жизни. Здесь достаточно вспомнить истории Андрея Платонова[267], Дзиги Вертова, Всеволода Мейерхольда, Сергея Третьякова и др. Но даже тем авторам, чья биография сложилась не столь драматично, пришлось вскоре либо отречься от революционной теории производственного искусства 1920-х годов, либо просто уйти из профессии.
Становление марксистской эстетики в 1920-е годы. Борис Арватов
Говоря о становлении марксистской эстетики в 1920-е годы, мы имеем в виду особый режим теоретизирования о революционном искусстве, а не начальный этап или переход к таким респектабельным доктринам, как марксистско-ленинская эстетика Михаила Лифшица. Речь идет об эстетических теориях, так и не получивших академической канонизации, а тем более государственного признания. Этот режим предполагает принципиально иное отношение к текстам Маркса, которые стали уже в 1920-е годы важнейшим источником искусствоведческой рефлексии, но, что гораздо важнее, служили артикуляции актуального художественного опыта, а не апологии и пропаганде идеологических заказов и преследованию охранительных политических целей.
Мы говорим, соответственно, о несколько «другом» авангарде. В позднесоветские диссидентские годы интерес к русскому авангарду был связан с поиском в нем неапроприированных советской идеологией произведений, которые бы связали его не с идеей революции, а с модернизмом, Серебряным веком, эмигрантской культурой и послевоенным абстракционизмом. В перестроечные и ранние постсоветские годы исследователи вдохновлялись поиском компрометирующих раннесоветское искусство связей с соцреализмом или постмодернистским обыгрыванием авангардных кодов в предельно аидеологическом ключе, что сопровождалось их постепенной деполитизацией.
Но сегодня у нас появляется возможность отнестись к этому архиву как к сингулярному историческому и культурному событию, не стыдящемуся своей имманентной политичности, но и не сводящемуся к официальной советской идеологии. В этом смысле левое авангардное искусство и эстетические теории 1920-х годов интересны предложенными в них способами преодоления оппозиций реальности и утопии, политики и поэтики, позволявшими соответствующим художникам и теоретикам одновременно не выпадать из истории искусства и оставаться на арене политической борьбы. Мы можем не ограничиваться при этом анализом исключительно формальных или содержательных моментов произведения, но очертить место художественного продукта в социокультурном поле, которое вступает в это время во взаимодействие с новыми типами чувственности и телесности, минуя инстанцию субъекта, в том числе и коллективного.
Ниже я буду писать о первых попытках соотнести идеи Маркса с футуристическим проектом искусства.
* * *
Теоретики и практики русского авангарда задолго до Ж. Лакана понимали, что желание субъекта не может быть до конца удовлетворено иначе как в смерти. Но, в отличие от своих буржуазных коллег-модернистов, они не пытались спекулировать этим обстоятельством, лишая другого человека удовлетворения элементарных нужд, а то и обрекая его на смерть в угоду пресловутой неудовлетворимости своего маленького нарциссического эго. Этот нюанс и пыталась учесть производственная теория искусства в несколько противоречивой на первый взгляд идее двух программ – программы-максимум и программы-минимум, одновременно настаивая на понимании искусства как производства утилитарных вещей и на преодолении этих вещей в перспективе установления коммунистических форм общения и быта.
Арватов объяснял станковое изобразительное искусство как иллюзорное восполнение недоорганизованности социального бытия. Эта неорганизованность может быть преодолена только в социалистической экономике, которую он понимал как возвращение к квазинатуральному хозяйству, предполагающему коллективное производство и потребление результатов «качественного труда» как своего рода потребительных стоимостей[268]. Соответственно будущее искусства Арватов видел в созидании и усвоении универсальной культуры всеми членами общества соразмерно их мастерству и творческим навыкам. Что касается станкового искусства, то оно, по Арватову, превратится при социализме в «искусство социального воздействия, т. е. в такое искусство, которое стремилось бы к вызыванию определенных, конкретных поступков»[269]. Причем реализовываться оно должно все-таки непосредственно в рабочем быту, революционизируя его изнутри. То есть «чтобы не рабочий быт уводился на сценические подмостки, а театральное действие разворачивалось в быту»[270]. Поэтому и музеи Арватов видел исследовательскими институтами, а не местом хранения «вечных ценностей» для любования буржуазной публики[271]. Преимущество он отдавал новым медиа – фотографии, кино, радио и газете. Пролетарское искусство, опирающееся на эти демократические медиа, должно сочетать, по Арватову, «объективную фиксацию» действительных фактов с их «диалектическим монтажем», под которым понимался формалистический принцип «обнажения приема художественного мастерства», раскрывающий «фетишистские» тайны искусства[272].
Арватов предвосхитил ряд идей, приписываемых в западной историографии исключительно В. Беньямину. В частности, именно ему принадлежит следующая чисто Беньяминова фраза: «Вместо того чтобы социализовать эстетику, ученые эстетизировали социальную среду»[273]. Под «социализацией эстетики» Арватов понимал организацию художественного труда в режиме прямого сотрудничества производителя и потребителя, что также роднит его с Беньямином: «Пролетарские художественные коллективы должны войти в качестве сотрудников в коллективы, в объединения того производства, материал которого оформляет данный вид искусства. Так, например, агиттеатр входит как орган в агитационный аппарат; театр массовых и других бытовых действий связывается с институтами физической культуры, с коммунальными организациями; поэты входят в журнально-газетные объединения и через них связываются с лингвистическими обществами; художники-индустриалисты работают по заданиям и в организационной системе промышленных центров и т. д.»[274]
Близок Арватов и более поздним ситуационистским стратегиям: «Надо таким образом пересоздать актерский тренаж, чтобы инструктора театрального дела могли бы учить ходить по улице, устраивать праздники, говорить речи, держать себя в разных конкретных случаях и т. п.»[275]
В идее тотальной художественной организации повседневной жизни Арватов доходил почти до абсурда: «Каждый человек должен уметь квалифицированно ходить, говорить, устраивать вокруг себя мир вещей с их качественными свойствами»[276]. Но в заключении своего «Искусства и производства» он все-таки сохранил место даже для традиционного изобразительного искусства: «Поскольку абсолютная организованность практически недостижима, поскольку всегда те или иные элементы неорганизованности сохраняются в личной жизни членов социалистического общества, постольку можно думать, что изобразительное восполнение останется и при социализме… В таком художественно организованном самовыявлении и общении личность будет, по-видимому, возмещать свою личную неудовлетворенность»[277].
* * *
Именно Арватову принадлежит первая в 1920-х годах серьезная попытка разобраться с «эстетикой» Маркса. В статье «Маркс о художественной реставрации» (ЛЕФ, 1923, № 3)[278] он попытался истолковать эстетические взгляды Маркса в лефовском духе, включая его идеи в контекст споров архаистов и новаторов, пассеистов и футуристов. Правда, он задействовал только две работы Маркса: «18 Брюмера Луи Бонапарта» и известный фрагмент Введения «К критике политической экономии»[279] об античном искусстве.
Надо учесть, что Арватов, в отличие от Маркса, пишет о задачах искусства в условиях победившего рабочего класса (в 1923 г.), которому теперь угрожают реставрацией не только старые экономические и политические, но и художественные формы. И он должен как-то приспосабливать идеи Маркса к изменившейся социальной ситуации. Поэтому он предпринимает пристрастную интерпретацию известного фрагмента «Grundrisse…» о произведениях греческого искусства и эпоса, продолжающих доставлять нам художественное наслаждение, несмотря на известную неразвитость общественных условий, в которых они создавались[280]. Согласно Арватову, Маркс пишет там о произведениях древнегреческого искусства, которые сохраняют для нас значение «норм и образцов» (Norm und Muster) только «в известном отношении» (in gewisser Beziehung), т. е. в смысле их существования в своем историческом времени. Античное искусство, по Арватову, совершенно именно потому, что оно было социально ограничено из-за низкого уровня художественного развития и незрелых общественных отношений, «среди которых оно возникло и только и могло возникнуть» и которые «никогда не могут повториться вновь». То есть только в еще неразвитых экономических и политических условиях художник мог оказаться в роли провокатора истории, опережая даже прогрессивные политические силы своего времени. Но уже на следующем историческом этапе художественные приемы и формы, которые он при этом задействовал, могут начать играть реакционную роль. В новом времени они лишались своей социальной направленности и мотивировки, сохраняя только отвлеченную от целостного контекста чувственную составляющую. В этом усеченном виде они могут продолжать приносить ограниченное эстетическое удовольствие лишь при восприятии произведений старых мастеров, а не в рамках их современных стилизаций, отмеченных подражанием.
Поэтому художников, которые пытаются следовать «античным формам» в настоящем, Маркс, по Арватову, уподоблял нелепому мужчине, который захотел бы снова сделаться ребенком. Арватов акцентирует внимание на вопросе Маркса: «…почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?» И дает следующий ответ: «Если для современного подражателя античности греческое искусство достойно быть школой, потому что оно прекрасно, то для Маркса оно прекрасно потому, что является органическим результатом, безыскусственным выявлением своей собственной среды, потому что “греки были нормальными детьми”, потому что их формы “никогда не могут повториться снова”. Будьте похожи на самих себя, выявляйте безыскусственно свою собственную сущность, не копируйте других так же, как не делали этого греки, – вот в каком смысле античность “сохраняет значение нормы и недосягаемого образца”»[281].
Арватов проецирует рассуждения Маркса из «18 брюмера» на ситуацию с искусством во время революции 1917 г. Как известно, Маркс пишет там о присвоении буржуазными революционерами художественных форм предшествующих героических эпох, но строго отличает в этом смысле пролетарскую социалистическую революцию, которая «должна предоставить мертвым погребать своих мертвецов», черпая «для себя поэзию не из прошлого, а только из будущего»[282].
И все же у Арватова имеется одна серьезная передержка, которая связывает его с дореволюционным еще будетлянством, не позволившая ему достойно оценить критический потенциал форм традиционного искусства. Так, объединяя два текста Маркса, он резюмирует: «Греческое искусство прекрасно постольку, поскольку оно воспринимается в его естественной социальной обстановке», – и призывает предоставить мертвым погребать своих мертвецов «даже если эти мертвецы называются фидиями и шекспирами, даже если мы готовы принять их там, где им надлежит быть, т. е. в их прошлом»[283].
Позиции производственничества в контексте полемики о пролетарской литературе и искусстве 1920-х годов
Переходим к полемике, которая разгорелась в связи с проблемой пролетарского искусства между теоретиками ЛЕФа, идеологами Пролеткульта и РАПП, а также группы «Перевал» и лично товарищем Л. Троцким. Собственно, эти силы представляли три основные эстетико-художественные стратегии 1920-х годов, а именно: 1) футуристическую, связанную с идеей революционизации самих художественных форм, эстетической чувственности, вкуса и быта; 2) репрезентативно-идеологическую, исходившую из идеи революционности самого социального содержания, из номинального статуса художника-пролетария, способного создавать новое искусство, лишь отражая и выражая свой фактический социальный статус, ничего принципиально не меняя в традиционном формально-эстетическом арсенале искусства, и 3) психолого-педагогическую, настаивающую на понимании искусства как выражения внутреннего мира автора, который волею судеб стал коммунистом. В чистом виде эти стратегии не реализовывались ни в одной из упомянутых групп, имея точки пересечения и взаимопроникновения.
Фоном этой полемики были традиционные подходы к искусству в рамках социалистической традиции, связанной с именем Г. Плеханова и отчасти самого В. Ленина, а также с академическими эстетиками и искусствоведами, сосредоточившимися в научных институциях 1920-х годов, таких, например, как ГАХН (Государственная академия художественных наук), также основанная А. Луначарским. Последние в лице Г. Шпета и его школы ориентировались на идею специфического, отрешенного в фантазии эстетического предмета, руководимого внутренней художественной формой и эстетическим идеалом и выражаемого в языках культуры (см. главу IV).
Что революционного в революционном искусстве
В полемике между позициями Пролеткульта, ЛЕФа, РАПП и группы «Перевал» нам видится основной проблема различия социальной природы и индивидуальности художника. В истории искусствознания 1920-е годы вообще интересны тем, что левые теоретики попытались не только разорвать родовую пуповину художника с телом культуры, но и подвергнуть критической рефлексии творчество художника-индивидуалиста. Разумеется, не всем удалось избежать при этом вульгарного редукционизма, относящего искусство к внехудожественным феноменам, идеологической надстройке, примеру материального отражения и т. д., упуская при этом его автономный, пусть и не абсолютно, характер. Другой крайностью было отстаивание позиций «искусства для искусства» и, соответственно, ложно понятой идеи автономности как надмирности, неучастия искусства в социально-политических процессах и т. д., в которую впали в эти годы наследники Серебряного века русской культуры.
Задача же заключалась в обосновании третьей возможности, которая бы не возвращалась к позициям идеалистической и рационалистической эстетики прошедших веков, но и не поддавалась искусу биологического или социально-экономического редукционизма, оставаясь при этом на материалистических позициях и разделяя коммунистическое мировоззрение. Спор шел, в частности, вокруг того, что обеспечивает искусству эту революционность и как она вообще с ним сочетается.
На методологическом уровне искомая позиция должна была избежать и диалектической риторики тех лет (характерной для феноменологов школы Г. Шпета и психологов школы Л. Выготского и др.), предложив способ мыслить по-другому – адекватно новому левому искусству. Различия, однако, возникали в понимании самой этой левизны.
Здесь мы подходим к ключевому моменту не столько в теоретических позициях упомянутых уже литературных объединений 1920-х годов, сколько в их социальных ролях. Вопрос состоит в том, кто субъект соответствующих высказываний, т. е. кто говорит. Эти люди выступают здесь как художники или как политики? В зависимости от ответа на этот вопрос мы получим совершенно различное понимание природы искусства и его роли в историческом развитии человечества.
Переформулирую вопрос: есть ли у искусства прямой доступ к реальности, прежде всего социальной, или он обязательно должен быть опосредован какой-то рутинной политической, партийной работой? Имеется в виду не банальный вопрос, должен или не должен художник, чтобы быть революционным, участвовать еще и в подпольной деятельности и революционной борьбе персонально, а другой: может ли искусство непосредственно, собственными средствами революционизировать действительность на уровне чувственности и языка, до того или одновременно с тем, как вполне определенные экономические, социальные и политические процессы (в их осмыслении классиками марксизма-ленинизма и в реальной исторической практике борьбы пролетариата за власть) приведут общество к новому состоянию?
Очевидно, что вопрос этот напрямую относится к анализу и оценке роли русского авангарда в революции 1917 г. и первом периоде строительства советского общества, а также причин его заката. Но в более широком смысле вопрос этот касается природы самого искусства, оценки тех средств, которыми оно располагает в интересующем нас плане: каким образом, какими средствами оно способно (если способно) приводить людей к необходимости борьбы за освобождение от неравенства, эксплуатации, отчуждения, угнетения? И еще более сложный вопрос: способно ли искусство участвовать в дальнейшем социальном строительстве общества, организованного на коммунистических началах? Каким оно для этого должно быть?
Понятно, что саму эту борьбу и строительство человечество ведет всеми своими силами, речь не идет о замыкании всего этого процесса на решении каких-то творческих задач внутри сферы искусства. Но наш вопрос совсем в другом: можно ли достичь соответствующих целей без искусства или с искусством, отражающим, познающим или образно выражающим какую-то помимо него существующую реальность? Именно так и был поставлен этот вопрос футуристами в 1910-х, дебатировался в 20-х, пока не решился сам собой, т. е. закрылся, в 30-х. Сегодня его можно уточнить и радикализовать: он закрылся потому, что был неверно поставлен, или потому, что, напротив, был поставлен предельно точно, но не соответствовал тем целям, которые изначально преследовали революционеры-политики, революционеры-теоретики и революционные массы, ими управляемые?
В первые годы советской власти вопрос ставился прежде всего о занятии властных позиций во всех областях культуры, апроприации соответствующих пространств и ценностей. Поэтому временно футуристам было позволено получить некоторые организационные и материальные возможности для развития своего понимания искусства. Но постепенно возможности эти сокращались и вскоре были отобраны даже у пролеткультовских органов и переданы более проверенным советским чиновникам от культуры, подчинены специальным комитетам и т. д.
Резолюция ЦК РКП(б) 1925 г. под внешне разумными предлогами требовала ликвидировать ВАПП и РАПП. Декларируемая этим документом политика невмешательства во внутренние дела искусства и отказа от монополии отдельных художественных групп на власть в культуре означала на деле прекращение поддержки ряда футуристических проектов и подчинение искусства «культурным» деятелям и стратегиям, близким правительству, представленному в то время Л. Троцким, Н. Бухариным и А.В. Луначарским. За разоблачениями действительно уродливых проявлений «комчванства» стояло нечто большее, а именно запрет на критику педагогических стратегий власти в отношении искусства, политика так называемого овладения культурными ценностями прошлого, которая предполагала ограничение формального новаторства и запрет на критику классики. Декларируемая осторожность властей в оценке и распознании собственно «пролетарской», революционной формы искусства на практике означала нечто совершенно другое, а именно не только отказ от поддержки экспериментов в области формального творчества, но и поощрение вполне определенной его формы – «понятной массам»[284]. Речь шла о выборе курса на создание советского массового искусства, т. е. одновременно развлекательного и агитационного.
Тезис открытого, не контролируемого сверху соревнования между всеми направлениями искусства и культурными силами обладал теми же недостатками, что и тезис свободного рынка. В Советской России тех лет он коррелировал еще и с двусмысленной позицией, занимаемой властями в отношении элементов других экономических укладов. С одной стороны, они не только допускались, но и поддерживались на уровне экономической необходимости, а с другой – на уровне идеологии – говорилось о временности, об опасностях, прежде всего для интеллигенции, подпитки культуры со стороны этой новой советской буржуазии и о неизбежном искоренении соответствующих форм. Зная оценку тем же Троцким футуризма как мелкобуржуазного, богемного явления, легко было связать запрет на развитие искусства с запретом на иные, помимо социалистических, формы экономического существования, хотя они фактически и не имели между собой ничего общего.
Но это не означало, что правительство этой резолюцией поддерживало развитие самостоятельного искусства из народных масс. Как уже было сказано, ориентация на массы в плане постижения ими начал художественного творчества была подменена тезисом «искусства для масс»: «Партия должна подчеркнуть необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порвать с предрассудками барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам. Только тогда советская литература и ее будущий пролетарский авангард смогут выполнить свою культурно-историческую миссию, когда они разрешат эту великую задачу»[285]. Под «барством» здесь подразумевался, в частности, тезис «ЛЕФов» о мастерстве и профессионализме пролетарских художников, о необходимости формальных новаций для развития пролетарского искусства и о его независимости от внешней идеологической опеки.
Для троцкистов революционность обеспечивалась участием художника в партийной работе или номинальным отношением к марксистской науке. Искусству же вменялись в основном педагогические и идеологические функции. Современным художникам в лучшем случае отводилась роль агитаторов и дизайнеров уже произошедших в социальной и экономической сфере перемен. К претензиям авангардного искусства на самостоятельный революционный характер партийные руководители относились настороженно, предпочитая проверенные источники из классики или надежной пролетарской «попсы». Критерии отбора адекватного новой культурной политике искусства были связаны в основном с очевидным классовым содержанием его продуктов.
Пролеткультовцы полагали, что революционное искусство порождает революционный класс подобно тому, как он порождает любые другие материальные и культурные ценности. Пролетарское искусство для них было искусством, которое делается пролетариями, для пролетариев и лучше если и о пролетариях. Пролетарий при этом понимался статически – как человек пролетарского происхождения, непосредственно работающий в сфере материального труда.
В ставшей канонической для лефовцев формуле «художникапролетария» О. Брика, напротив, на первый план выдвигалась идея синтеза мастерства и пролетарского сознания художника независимо от его социального происхождения.
Таким образом, мы имеем дело с совершенно различными стратегиями в понимании искусства и его роли в социальноисторическом развитии и как минимум с двумя видами левого утопизма – художественным и политическим. На этом основано, к примеру, различие представлений раннего Пролеткульта о пролетарской диктатуре в культуре и «диктатуре вкуса» в ЛЕФе.
Манифесты «ЛЕФов» с самого начала носили двусмысленный в отношении новой власти характер. С одной стороны, в них признавался лабораторный, только подготавливающий «дальнейший размах» пролетарского искусства характер кубофутуризма 1910-х годов. Так, в обзоре истории авангардного движения акции футуристов с желтыми кофтами и раскрашенными лицами квалифицируются ими как реактивные и эпатажные, не имевшие позитивной литературной и эстетической ценности. С другой стороны, в манифестах чувствуется ностальгия по безвозвратно утраченной досоветской ситуации, о том подлинно революционном времени, когда была возможна бескомпромиссная критика архаичной православной культуры и реакционной политики еще царской власти.
И здесь у теоретиков футуризма действительно существенно меняется стратегия по сравнению с дореволюционным периодом. Задачей левого искусства они провозглашают не изменение социально-политической реальности, ибо она де-факто уже изменена. Партия искусства – художники, поэты и теоретики ЛЕФа – назначают объектом своих революционных атак художественный, эстетический и просто повседневный вкус масс, который не может автоматически преобразоваться в результате смены политической власти, социального и экономического устройства.
Однако, несмотря на эти уточнения, лефовский революционизм был ревниво воспринят представителями партии, и прежде всего Львом Троцким. Последний чутко усмотрел здесь вызов и угрозу культурной политике социалистического государства, точнее, претензию лефовцев на власть в культуре и идеологии. Поэтому неудивительно, что в том же 1923 г. выходит его «Литература и революция» с резкой критикой футуризма, формализма, ЛЕФа и лично товарищей О. Брика и В. Маяковского.
* * *
Вообще, позиция советской власти в 1920-е годы в вопросах культурной политики была неоднозначной, ибо подчинялась одновременно двум задачам: найти приемлемый компромисс для враждующих писательских и художественных группировок и при этом указать всем свое место, поставив во главу угла собственный интерес – интерес выживания своей власти.
Для Троцкого вопрос власти был первоочередным, как и вопрос экспорта русской революции в другие страны. Объясняя причину, по которой пролетариат в ближайшие 50 лет не сможет заниматься созданием своей собственной «пролетарской» культуры, Троцкий писал: «Во всяком случае, главная энергия самого пролетариата будет направлена на завоевание власти, ее удержание, упрочение и применение во имя неотложнейших нужд существования и дальнейшей борьбы»[286].
Поэтому актуальная культурная политика и искусство должны, по Троцкому, помимо идеологических задач способствовать «воспитанию труда». Ввиду этой задачи Троцким (совместно с А.В. Луначарским и др.), кроме апроприации музеев и библиотек, в 1920-е годы были инициированы новые художественные, психологические, естественно-научные и философские исследовательские центры. Разрабатываемые в них с привлечением экспериментальных психологических методов художественные технологии должны были влиять по чувственно-эмоциональным каналам на рабочую массу, чтобы она прилежно работала, не уставала, но главное – не переносила свои трудовые стрессы и агрессию на новый государственный строй[287].
Характерная цитата из Троцкого: «Худо ли, хорошо ли, но “станковое” искусство еще на многие годы будет орудием художественно-общественного воспитания масс и их эстетического наслаждения: не только живопись, но и лирика, роман, комедия, трагедия, скульптура, симфония. Из оппозиции к созерцательному, импрессионистскому буржуазному искусству последних десятилетий отрицать искусство как средство изображения, образного познания – значит поистине выбивать из рук строящего новое общество класса орудие величайшей важности. Искусство – говорят нам – не зеркало, а молот: оно не отражает, а преображает. Но ныне и молотом владеть учатся и учат при помощи “зеркала”, т. е. светочувствительной пластинки, которая запечатлевает все моменты движения. Фотография и кинематография, именно благодаря своей пассивно-точной изобразительности, становятся могучим воспитательным средством в области труда»[288].
Из контекста этих внешних искусству целей и выводятся основные эстетические позиции Троцкого и его креатуры А. Воронского – их понимание искусства как образного познания мира, в основе которого лежит заранее известная идея-замысел. Отсюда и предпочтение реализма, стратегический курс на отображение и изображение жизни, истолкование произведения искусства как иллюзии и вымысла, как авторского самовыражения с опорой на внутренние переживания – «первоначальные и непосредственные ощущения и впечатления» с привлечением творческой интуиции и воображения. Все это почти дословные определения искусства и творческого процесса по Троцкому и Воронскому из их работ 1920-х годов.
* * *
Если Троцкий упрекал пролеткультовцев в отсутствии культуры, то футуристов из ЛЕФа трибун революции критиковал за «богемность». В «Литературе и революции» он писал, что только пролетарская революция вырвала футуристов из буржуазного мирка, в котором они родились, но они сохраняют с ним духовную связь и сегодня. Троцкий ловко перенес на творческую интеллигенцию мысль самих же комфутов, что художественный вкус пролетариев находится в непреодоленной зависимости от дворянско-помещичьей и буржуазной культуры. В противоположность им Троцкий утверждал, что пролетарий от природы обладает сформированным «пролетарским вкусом» и должен вначале потренироваться на классике, прежде чем перейти к самостоятельному творчеству. Причем тренировать его должны специально обученные эксперты (вроде А. Воронского), сознание которых якобы выгодно отличается от сознания авангардных художников и теоретиков комфутуризма.
В качестве иллюстрации этой мысли Троцкий сравнивал отношения рабочего-пролетария и только имитирующего пролетарскость богемного футуриста с отношениями токаря Бебеля, не способного создать революционное учение, несмотря на принадлежность к пролетариату, и буржуа Маркса, которому это удалось. «Тут есть разница, – пишет Троцкий, – экономическая и историко-философская доктрина пролетариата состоит из элементов объективного знания». Дело в том, что в поэзии, в отличие от науки, мы имеем дело с образным мировосприятием. Поэтому мелкобуржуазный быт оказывает на сознание поэта по сравнению с сознанием ученого более фундаментальное, определяющее воздействие. Отталкиваясь от этого различения, Троцкий ставил перед футуристами задачу «переработки воспринятого с детских лет мира чувств посредством научно-программной ориентации»[289].
В № 4 журнала «ЛЕФ» за 1923 г. симпатизант левых футуристов из партийной среды Н. Горлов остроумно обыграл логику Троцкого: «Интеллигенту Марксу нужно и важно было выбраться из тисков буржуазной экономики, рабочему же нужно, минуя опыт Маркса, приобщиться к ней»[290]. Горлов ссылался при этом на марксистскую диалектику, согласно которой «закон развития искусства и науки один и тот же… В искусстве, как и в науке, рабочему нужно использовать опыт той части интеллигенции, которая выбралась из тисков»[291]. Тезис Горлова состоял в том, что футуристы до революции не просто восставали против буржуазного быта, а художественными средствами участвовали в революции на уровне выработки у масс самой возможности ощутить и помыслить порождаемую ею радикальную новизну. Футуристы, по его идее, открыли в себе и своих последователях новую чувственность, которая в дальнейшем была перенесена в политическую сферу и поддерживала ее, обеспечивая принятие массами нового социального и политического устройства. Таким образом, футуристы предстают у него не как наследники декадентов начала века, а как революционеры по преимуществу.
«ЛЕФы» придерживались перпендикулярной троцкизму художественной программы. Она также предполагала воздействие революционного искусства на чувственность народа через художников, уже осознавших необходимость революционного переустройства общества. Подобно деятелям Пролеткульта, лефовцы рассчитывали на открытие творческих способностей в пролетариате без 50-летней отсрочки (как у Троцкого). Хотя, как мы уже отмечали, пролетарскость понималась ими несколько иначе, чем в Пролеткульте, – не как номинальное качество, а как социальная возможность. Лефовцы настаивали на революционном социокультурном статусе художника, предлагая творческой интеллигенции соответствующую модель субъективации – «становление пролетарием», как ее можно назвать. Они разрабатывали средства воздействия революционного искусства на сформированную в условиях крестьянско-помещичьего и буржуазно-мещанского быта чувственность пролетариата.
В некотором смысле это действительно была борьба за власть в культуре, точнее, за выживание революционного художника и теоретика в условиях нового общества. Но Троцкий отказывал им в статусе революционеров, отводя в лучшем случае роль «попутчиков революции». И хотя он же защищал художников непролетарского происхождения от погромных разоблачений со стороны Пролеткульта, напостовцев и рапповцев, презрительная кличка «попутчики», которую он активно эксплуатировал, говорила здесь сама за себя. Мировоззрение комфутуристов он упорно выводил в этом смысле из буржуазного быта как реакцию на него.
Мы уже имели случай видеть, что Троцкий, подобно Ленину, выступал в своих текстах о литературе как дипломат и политик, а не как литературовед и философ, упрекая, когда нужно, футуристов в богемности, а пролетарских писателей в неинтеллигентности. Кстати, можно подумать, что нейтрализация Троцким – Воронским пролетариата как активного творца новой жизни открывала дорогу настоящим художникам и мастерам, профессионалам. Это не точно. Речь шла об избранных по чисто политическим критериям фигурах. Для Троцкого это были, например, А. Безыменский и Демьян Бедный, которых он откровенно предпочитал Маяковскому.
В разных контекстах Троцкий мог прибегнуть к самому вульгарному социологизму и редукционизму, а то вдруг заговорить об автономности художественной формы и ценности футуристических экспериментов[292]. Отдельные, вырванные из общего контекста работы высказывания Троцкого, вообще, выглядят вполне производственнически: «Стена между искусством и промышленностью падет. Будущий большой стиль будет не украшающим, а формирующим, в этом футуристы правы»[293]. Троцкий признавал необходимость пропитать сознанием хозяйственный строй[294], а упоминая об Эйфелевой башне, вообще воспроизвел почти конструктивистский тезис: «Если бы башня с самого начала строилась для радиостанции, она достигла бы, вероятно, большей целесообразности формы и, следовательно, большей художественной законченности»[295]. Наконец, некоторые его высказывания не отличить от идей А. Гастева, Н. Тарабукина или Б. Арватова: «Человеку придется всерьез гармонизировать себя самого. Он поставит себе задачей ввести в движение своих собственных органов – при труде, при ходьбе, при игре – высшую отчетливость, целесообразность и тем самым красоту»[296].
В этом смысле Троцкий в своем тексте на все сто использовал властный ресурс, жестоко пресекая любые посягательства художников на власть в культуре. Поэтому он и выступал против фигуры «пролетария» в искусстве, обосновывая это риторическим соображением, что сегодня пролетарии еще не могут быть художниками ввиду неотложных задач политического и экономического строительства, а в будущем уже не будут ими, потому что тогда не будет самого пролетариата. О непосредственном самоуправлении и демократизме, как в культуре, так и в политике, в рамках подобной формулы не могло быть и речи. Кстати, и положение о служебной и временной роли диктатуры пролетариата, которое Троцкому часто ставят в заслугу на фоне более поздних сталинских репрессий, не стоит переоценивать. Его нужно понимать в отмеченном выше смысле государственного контроля над культурой.
Но главной двусмысленностью эстетической позиции Троцкого было его неприятие революции в области художественной формы в русском авангарде. Если он и поддерживал здесь футуристов, то исключительно в идеологическом плане. Так, идею жизнестроительства Троцкий понимал в смысле массового искусства, подчиненного «биомеханическим ритмам». Другими словами, он использовал футуристические идеи только для поддержки своей обрисованной в конце «Литературы и революции» фантастической картины будущего[297]. Но эта квазифутуристическая утопия Троцкого, к несчастью, служила целям, противоположным реальному советскому настоящему. Как цинично писал об этом сам Троцкий, сегодня пролетариату «до зарезу» нужна советская комедия, настоящая же коммунистическая трагедия его ожидает в будущем[298].
Экскурс 3. Дзига Вертов: кино как «коммунистическая расшифровка действительности»
Все дело в том или ином сопоставлении зрительных моментов, все дело в интервалах.
1. Философская критика кинематографа предполагает изучение и описание тех возможностей и ограничений, которые предоставляют этот вид искусства и используемые им медиа для новой постановки и решения традиционных философских проблем. То есть надо отличать критику в ее расхожем квазикантовском понимании от социально-политической критики кино, для которой эта первая дает только метод и язык, хотя и сама не лишена политического измерения. Это видно на примерах политического кино, особенно такого, которое предъявляет эту политичность на уровне не лишь содержания, фабулы, миметического объекта, но и способа организации материала.
Кинопроект Дзиги Вертова для иллюстрации подобного подхода наиболее удачен. Хотя это, конечно, больше, чем пример. Ибо вертовский взгляд на кино не сводится к тому многообразному влиянию, которое он оказал на отдельных режиссеров и историю кинематографа в целом. Он до сих пор остается принципиальной альтернативой господствующим пониманиям кино и кинотехники. Происходит это во многом потому, что вертовский проект раскрывает свой смысл только в своем, революционном времени (1920-е – начало 1930-х годов) и в попытках открытия и продолжения его в настоящем. Этим я хочу сказать, что киноопыты Вертова активно сопротивляются стратегиям завершения их в нашем времени с помощью современного анализа его текстов и подражания его произведениям. Ибо открытые им способы кинематографического видения не сводятся к особенностям его субъективной чувственности, к каким-то его частным эстетическим задачам как художника и к формальным техническим приемам. Вернее, они ориентируются на чувственность, которая субъективируется иным способом – не индивидуальным. И дело здесь не ограничивается конституированием нового коллективного субъекта восприятия такого массового искусства, как кино.
2. В связи с этим уместно сослаться на Вальтера Беньямина, который в докладе 1934 г. «Автор как производитель» говорил об этом новом субъекте – массе – отнюдь не только на уровне его рецептивных способностей: «В процессе медиального развития все больше реципиентов могли бы становиться производителями. При изменениях политических отношений люди участвовали бы в общественных делах. В этом плане они могли бы становиться специалистами, дорастая до авторства, превращаясь из читателей и зрителей в соучастников». При этом решающим для Беньямина является то, что новый статус авторства обусловливается не только политической позицией, т. е. тенденцией, но и дальнейшим развитием технических возможностей сопричастности. Именно этот аспект убеждает его в брехтовском эпическом театре, и он снова распознает его в кино[299].
Именно на Вертова Беньямин ссылается здесь как на пример режиссера, у которого на первый план выходит не индивид или кинозвезда, но социальный тип и прежде скрытые общественные законы его бытия: «Высвобождая их, кино поддерживает революционный общественный эксперимент»[300]. По поводу фильма Вертова «Шестая часть света» Беньямин писал: «В доли секунд следуют друг за другом кадры рабочих мест (вращающиеся коленчатые валы, сборщики урожая, транспортные рабочие) и увеселительных заведений мира капитала (бары, танцплощадки, клубы). Из критических социальных фильмов последних лет взяты отдельные, крошечные фрагменты […] и смонтированы так, что они постоянно перебивают изображения занятых тяжким трудом пролетариев»[301].
М. Лацаратто удачно противопоставляет в связи с этим «неутомимому субъекту Я-вижу», выходящему из темного кинозала, новые типы сингуляризации коллективного тела пролетариата, понимаемого не идеологически, а эстетически и производственно-машинно: «Киборг в форме “коллективного рабочего/ работницы”, сопряжение человека и машины, заступает место репрезентации субъекта. Не литературные, драматические или графические технологии могут таким образом расшифровывать видимое, но только некая кристаллизующая и репродуцирующая время машина; кинематографическая машина»[302].
Эти идеи соответствуют художественной стратегии Вертова в ее наиболее важных пунктах. Ибо она изначально была преимущественно ориентирована на открытие инстанции Другого в искусстве. Эта привилегированная субъектная инстанция выступала у Вертова как трудящаяся революционная масса. Свою работу как режиссера он рассматривал не только как часть осуществляемого советским народом коммунистического проекта, но и как его ключевую медиальную функцию, одновременно фиксирующую его успехи и побуждающую к их укреплению и развитию[303]. Масса выступала у Вертова не в роли объекта приложения шоковых монтажных атак, чувственных и идеологических апроприаций, а как материальная основа обнаружения имманентных реальности нового строящегося общества демократических способов и каналов взаимодействия людей.
В этом, кстати, состояло главное отличие подхода Вертова от киноэстетики Эйзенштейна, с которым он был, безусловно, близок в ряде аспектов понимания природы кино. Открытие обоими этими режиссерами новой субъективности массы надо в этом плане строго различать. Можно, хотя и несколько упрощенно, обобщить эти различия как аффективно-манипулятивную позицию (у Эйзенштейна) и машинно-демократическую (у Вертова).
В конечном счете, позиции эти развивали отдельные стороны эстетических доктрин производственного искусства и фактографии, разработанных в рамках круга ЛЕФа и одноименного журнала. Согласно этим доктринам, цель искусства состояла, с одной стороны, в чувственном воздействии на эмоции зрителя, читателя и слушателя, а с другой – в жизнестроении как творческом участии в нем любого человека.
3. Найти равновесие между этими позициями в понимании задач левого искусства было непросто. Дело в том, что пределом демократизации искусства выступало для «ЛЕФов» понятие мастерства и профессионализма, а пределом самого профессионализма – требование демократизации как отказа от превращения художников в касту жрецов, «учителей народа».
На демократизации искусства, как известно, настаивал Пролеткульт, но заходил здесь так далеко, что отменял само искусство, рискуя докатиться до откровенного любительства и дилетантизма. При этом задача вовлечения пролетариата в культуру вроде бы выполнялась, но только на ненадежном основании фактической социальной принадлежности художника своему классу, т. е. без цели преодоления в нем рабской чувственности и раскрытия пролетарского сознания.
С другой стороны, троцкисты, как, впрочем, и большинство представителей советской власти, оставались на традиционных позициях в отношении роли искусства в обществе, выделяя в основном его педагогическую и идеологическую функцию и начисто отвергая саму возможность его пролетаризации, привлечения к нему масс иначе как в роли учеников и зрителей.
Собственно лефовцы (при всем различии позиций внутри группы) предлагали модель культурного строительства, при которой можно было стать «художником жизни» уже сегодня, не откладывая этот процесс до построения социализма в отдельно взятой стране или до завершения мировой революции.
Кроме того что модель эта носила сугубо утопический и проектный характер, она еще и содержала парадокс. Дело в том, что условием появления непосредственно жизнестроительного искусства могло быть только общество, уже достигшее коммунизма, т. е. преодолевшее последствия разделения и отчуждения труда и соответствующие социальные различия. Но в то же время построение такого общества возможно было только при жизнестроительном отношении людей к труду и творчеству.
Ответом на внешнюю противоречивость этих требований и было понимание лефовцами искусства как эмоционального воздействия. Они ставили задачу изменить чувственность вышедшего на арену истории нового социального слоя трудящихся средствами искусства нового типа. Подобный подход не противоречил идее жизнестроительства и принципам демократизма, а, напротив, обеспечивал их реализацию.
Ранний Андрей Платонов, благодарный читатель первых номеров «ЛЕФа», излагая тезисы Н. Чужака, писал: «Никто не станет возражать, что искусство воздействует на эмоцию, т. е. в определенном направлении организует ее… Но ведь организовать эмоцию – это значит через эмоцию организовать деятельность человека, иначе говоря, строить жизнь»[304].
Но сами способы и цели подобного «строительства» разнились и у практиков, и у теоретиков ЛЕФа. Главный редактор «Нового ЛЕФа» Сергей Третьяков отмечал, что, разделяя общую политическую установку, Эйзенштейн и Вертов изначально пользовались разными методами. У Эйзенштейна он усматривал «перевес агитационного момента при служебном положении демонстрируемого материала», а у Вертова, напротив, «перевес момента информационного, где важнее сам материал».
Третьяков утверждал, что фильмы Вертова не являются чисто хроникальными, ибо направляются не задачами «злободневности и социальной весомости», а используют фактический («флагрантный») материал в качестве единицы эстетического высказывания, мотивированного социальным заказом революционного класса[305]. Эйзенштейна он квалифицировал как режиссера-инженера, использующего в качестве материала саму аудиторию – «тушу», которую тот оперирует инструментами монтажа аттракционов с целью «формовки социальных эмоций»[306].
Но если киноческая техника Вертова ориентировалась на открытие новой общественной чувственности, которая позволила бы зрителям самим делать выводы из увиденного, то Эйзенштейн эксплуатировал наличную чувственность массы с целью ее «эмоционального потрясения» как единственной возможности «восприятия идейной стороны демонстрируемого – конечного идеологического вывода»[307].
4. Коммуникативные стратегии Вертова и Эйзенштейна отличаются прежде всего субъектными инстанциями, мотивацией монтажной техники и, соответственно, пониманием ее смысла. Это хорошо видел Ж. Делез, правда, только отчасти разделяя вертовский подход к кино. В 1-й книге своего «кино» он писал: «Для советских кинематографистов диалектика была не просто словом. Она определяла сразу и практику, и теорию монтажа»[308]. Делез указал на отличие вертовского понимания диалектики от ее интерпретации школой Эйзенштейна (Пудовкин, Довженко), состоящее в радикальном утверждении диалектики самой материи, под которой Вертов подразумевал не только природное, но и общественное бытие и мир машин. «В то время как трое его великих коллег и соотечественников, – пишет далее Делез, – использовали диалектику для преобразования органической композиции образов-движений, Вертов воспринимал ее как средство разрыва с ней же. Он упрекал своих соперников в том, что те плетутся на буксире у Гриффита, создавая кино в американском духе и проникнутое буржуазным идеализмом. По Вертову, диалектике следовало порвать со все еще чересчур ограниченной Природой и человеком, слишком легко впадающим в патетику»[309].
Известно, что Эйзенштейн критиковал Вертова за созерцательность и описательность его киноэстетики, противопоставляя его наблюдающему «киноглазу» действующий «кинокулак»[310]. Но эта риторика была только симптомом агрессивной индивидуалистической стратегии самого Эйзенштейна, о которой Делез писал: «Эйзенштейн признавал, что метод Вертова может сгодиться лишь тогда, когда человек достигнет своего всестороннего “развития”. Но пока этого еще не произошло, человеку необходимы патетика и развлечения»[311]. Это лишний раз подтверждает наш тезис о манипуляции Другим в эйзенштейновском кинотеатре жестокости. В этом смысле Эйзенштейн (по крайней мере, в «Октябре») следовал прямо противоположной Вертову стратегии монтажного размножения революционной массы и эстетизации модернистской политики советского государства тех лет.
Напротив, метод работы Вертова Делез емко описал как преследование «совпадения целого с бесконечным материальным множеством», достигаемым за счет слияния интервалов «с взглядом из глубин материи, с работой Камеры»[312]. Расшифровывая эту формулу, надо сказать, что за ней скрывается не только материалистическая философия, но и настоящая машинная утопия. Как пишет Делез, «и дело даже не в том, что знаменитый документалист уподоблял людей машинам, но, скорее, в том, что он наделял машины “сердцем”»[313].
В связи с темой машин Делез приходит к интересному определению кинематографа «как машинной схемы взаимодействия между образами и материей»[314]. Однако далее Делез замечает, что «вопрос о том, какова схема функционирования соответствующего высказывания», остается открытым, «поскольку ответ Вертова (коммунистическое общество) утратил свой смысл»[315].
Для нас это, как минимум, подтверждает, что именно теоретическая и практическая перспектива построения коммунистического общества только и могла обеспечить функционирование делезовской схемы «кино в понимании Вертова». Но вот по поводу тезиса об отсутствии этой перспективы в современности, а соответственно, и возможностей развития вертовского подхода к кино с Делезом можно не согласиться.
Сам Делез переводит здесь разговор на «американскую альтернативу» – «наркотики как “организующую силу” американского общества». Но тут же, ссылаясь на Кастанеду, показывает, что наркотический код может только «застопорить мир, отделить перцепцию от действия, т. е. заменить сенсомоторные перцепции чисто оптическими или же звуковыми; дать разглядеть молекулярные интервалы, дыры в звуках, формах и даже в воде; но, кроме того, в этом застопоренном мире и через мировые дыры провести линии скорости»[316]. Кстати, это в точности соответствует описанию действия наркотиков у В. Беньямина, которое П. Вирилио удачно связал с природой массмедиа и новых интерактивных медиа вообще.
5. У Вертова коммуникацию художника и зрителя обеспечивает машина – кинокамера. Киноаппарат здесь и метафора такой машины, и ее пример как инструмент кинопроизводства. Этот мотив Вертов настойчиво проводит в «Человеке с киноаппаратом», следуя здесь производственническим положениям ЛЕФа. Индивидуальный субъект, иллюстрирующий свои переживания расхожими киносюжетами и миметической игрой актеров, противопоставлен у Вертова развивающимся возможностям киноглаза, бесстрастно исследующего «хаос зрительных явлений». Этот киноглаз не мотивирован ничем, кроме задачи реконструкции адекватной свободному человеку социальной реальности, которая дезавуируется в сюжетном игровом кино. Реальность у Вертова схватывается не в эстетически воспринимаемых образах, а во внутренних формах, находящихся в непрерывном становлении социальных событий. Монтаж подчинен их внутреннему ритму (временных и пространственных интервалов), а не привычкам пассивного зрительского восприятия.
Подход Вертова предполагал не копирование извне видимого материального процесса, а выявление в видимом машинной структуры самой реальности и приведение образа человека к максимально возможному соответствию ей. При этом машина понималась не как инструмент в руках человека, имитирующий его возможные действия для достижения полезных целей, а как рефлексивная структура самой материи, которой натуральный человек лишь подражает.
Речь шла о некоей машинно-антропологической утопии – «совершенном электрическом человеке» Вертова, – которая, однако, не находилась в плену идеологем уже достигнутого социального рая и отражающего-охраняющего его символические ценности художника. Она была, скорее, ориентирована на перманентное изменение всех сторон жизни в перспективе построения коммунистического общества.
6. Вертов, никогда не нуждавшийся в литературном сценарии для своих лент, написал для «Человека с киноаппаратом» нечто похожее на либретто, в котором попытался «спроектировать в область слова зрительно задуманную кино-симфонию»:
«В процессе наблюдения и съемки постепенно проявляется жизненный хаос. Все не случайно. Все закономерно и объяснимо. Каждый крестьянин с сеялкой, каждый рабочий за станком, каждый рабфаковец за книгой, каждый инженер за чертежом, каждый пионер, выступающий на собрании в клубе, – все они делают одно и то же нужное великое дело. Все это: и вновь построенная фабрика, и усовершенствованный рабочий станок, и новая общественная столовая, и открытые деревенские ясли, и хорошо сданный экзамен, новая мостовая, новый трамвай, новый мост, отремонтированный к сроку паровоз – все это имеет свой смысл, все это большие и маленькие победы в борьбе нового со старым, в борьбе революции с контрреволюцией, в борьбе кооператива с частником, клуба – с пивной, физкультуры – с развратом, диспансера – с болезнями; все это – завоеванные позиции в борьбе за строительство Страны Советов, в борьбе с неверием в социалистическое строительство. Киноаппарат присутствует при величайшем сражении между миром капиталистов, миром спекулянтов, фабрикантов и помещиков и миром рабочих, крестьян и колониальных рабов. Киноаппарат присутствует при решительном бое между единственной в мире Страной Советов и всеми остальными буржуазными странами»[317].
Эта обширная цитата является как бы идеологической раскадровкой его знаменитого фильма, которая, однако, не воплощается затем в инсценированном спектакле кинообразов (как у Эйзенштейна), а направляет монтаж разворачивающейся в его фильме социальной реальности. У Вертова это называлось «коммунистической расшифровкой» действительности: «Установить зрительную (“киноглаз”) и слуховую (“радиоухо”) классовую связь между пролетариями всех наций и всех стран на платформе коммунистической расшифровки мировых взаимоотношений. Расшифровка жизни как она есть»[318].
7. В центре проблематики левого киноискусства 1920-х годов, как и вообще искусства тех лет в России, стоит, по нашему мнению, нерешенная проблема труда. Поиск неотчужденных форм труда приводит нас к искусству как художественной практике, в рамках которой возможно изготовление его полноценных продуктов.
Таким образом, искусство выступает здесь как модель, своеобразная утопия труда. Но в условиях разделения труда его продукт неизбежно оказывается отчужденным от производителя, выступая, по Марксу, как внешняя и противостоящая ему сила. Для художника в этих условиях есть выбор: либо двигаться в собственном творчестве к преодолению этого отчуждения в формах производственного искусства (здесь уместен пример Вертова, который отказывался снимать навязываемые властью политические и экономические фикциональные сюжеты), либо эстетизировать наличное состояние общества, т. е. становиться идеологом режима. Второй путь выбрал Эйзенштейн, ироничность образов которого обусловлена их преимущественно психобиографическим происхождением. Например, центральные образы фильма «Октябрь» нагружены у него нарочитыми психоаналитическими коннотациями. В.А. Подорога пишет, например, о белой лошади, повисшей на разведенном мосту, как образе подвешенности, характерном для типа мазохистской чувственности, с помощью которого Эйзенштейн пытался нормализовать в своем времени мазохизм как культурно-исторический идеал[319]. Виктор Шкловский в связи с этим осторожно заметил, что «Эйзенштейн так развел мост, что ему уже нечем было взять Зимний дворец»[320].
Вертов, напротив, опирался на утопию машины как по преимуществу зрительную утопию. Но машина и ее развитие – становление человека машиной – не является данностью. Это утопический проект, реализация которого зависит от трудовых усилий – настоящей жертвы труда, но и это не гарантирует результата, ибо также зависит от технических изобретений, способных избавить человека от рутинной работы. Параллельно техническому прогрессу и человек, по Вертову (и А. Платонову), должен стать машиной. Эта задача с двумя неизвестными, помноженная на внешнее капиталистическое окружение, была верно сформулирована в 1920-е годы, но не могла быть решена. Ее решение было сопряжено с ошибками, связанными с постановкой на место неизвестных произвольных значений. А уже к концу 1920-х советской властью была отвергнута и сама эта формула. В 1930-е годы Вертов продолжал плыть против течения между коммерческим и чисто пропагандистским идеологическим искусством, настаивая на возможности третьего пути.
Экскурс 4. «Литературные машины» Андрея Платонова
Изобретение машин, творчество новых железных, работающих конструкций – вот пролетарская поэзия. Раньше мы сковывали в тиски чувства, слова и называли это ритмом. Теперь мы сковываем материю в тиски сознания, и это есть ритм пролетарской поэзии. Каждая новая машина – это настоящая пролетарская поэма. Каждый новый великий труд над изменением природы ради человека – пролетарская, четкая, волнующая проза. Величайшая опасность для нашего искусства – это превращение трудатворчества в песни о труде. Электрификация – вот первый пролетарский роман, наша большая книга в железном переплете. Машины – наши стихи, и творчество машин – начало пролетарской поэзии, которая есть восстание человека на вселенную ради самого себя.
Мы исходим из того, что «литературные машины» Платонова вырабатывают идеи, а не иллюстрируют художественными средствами какую-то предвзятую идеологию. Но даже и идеи эти в конечном счете не приобретают у него идеологического характера, а обладают характерными чертами утопизма, который мы хотим определить здесь как «машинный». Мы говорим, таким образом, о машинах, производящих утопию, и об утопиях, имеющих машинный характер. Последние запускаются некоторой программой социального осуществления при соблюдении определенных формальных условий. Машинность подобных машин заключена в их претензии изменять существующее состояние мира через изменение порядка языка, предполагающее особый способ его воздействия на читателя. Таким образом, природа литературного языка изначально не означает у Платонова его исключительной автономии, замкнутости на себе и чисто внутриязыковой игры. Цели его «литературных машин» оказываются внелитературными и внеэстетическими, но при этом сама человеческая практика наделяется существенными эстетическими и творческими характеристиками, позволяющими проводить границы между искусством и жизнью внутри экспериментального социального проекта.
Своей задачей мы видим выявление «машинности» литературы Платонова на формально-онтологическом, структурно-семиотическом и семантическом уровнях текста, конституирующих так называемый «язык Платонова». Сам Платонов понимал природу литературы весьма дифференцированным образом, совмещая в своей «эстетической» стратегии подходы, выдвинутые на волне революции, – рецептивно-манипулятивный (кубофутуризм), идеологически-агитационный (РАПП), организационно-производственный (Пролеткульт, ЛЕФ), – не отдавая исключительного предпочтения ни одному из них. По Платонову, выступающему здесь наследником критической традиции русской литературы, благодарным последователем и тонким критиком эстетических концепций 1920-х годов, работа художника претендует на изменение поддерживающих существующий status quo законов природы и установление новых – законов человеческого желания.
Причем «желание» Платонов не сводил к сексуальности, понимая его как некую внутреннюю необходимость, еще не до конца осознанную человеком и только временно подчиняющуюся необходимости внешней – природной. Желание, о котором здесь идет речь, – это своеобразная машина, соответствующая сущности человека и потенциально трансформируемая им самим в направлении освобождения от природной зависимости.
Молодой Платонов всерьез полагал, что осознание этой необходимости под силу только новому социальному классу, вышедшему в культурное поле после революции, – пролетариату с его существенными отличиями от буржуазии и интеллигенции. «Желание пролетариата» в этом смысле – это не какой-то неосознанный порыв и слепая природная страсть, а вектор изменения человека в сторону открытия в нем «объективного взгляда науки», преодолевающего животные потребности выживания и воспроизводства, характерные для «буржуазного» индивида.
Платонов проводил принципиальное различие символической структуры этого коллективного телесного желания, претендующего на онтологический статус самой действительности, от желания индивидуалистического, сводимого к потребности. Если последнее направлено на достижение «блага» и определяет свои познавательные и экзистенциальные процедуры из соответствующей утилитарной перспективы, то первое интересует только «истина», даже если эта истина губительна для частного индивида[321]. Этот деструктивный мотив у Платонова мы еще сможем проанализировать подробнее в сравнении с любимой лакановской темой у Фрейда[322].
В ранней статье Платонова «Пролетарская поэзия» читаем:
«Мы не жалеем себя и не ценим, мы ищем только объективной ценности. Если такой ценности нет – ее надо создать. В этом задача искусства. Искусство есть творчество объективной безотносительной ценности, несравнимой ни с чем и не взвешенной ни на каких весах. Искусство есть такая сила, которая развяжет этот мир от его законов и превратит его в то, чем он сам хочет быть, по чему он сам томится и каким хочет его иметь человек»[323].
Итак, Платонов считал, что подобная истина может быть достигнута, только если человек встанет на внемировую, «внеотносительную» точку зрения, которую писатель отождествлял с позицией объективного научного наблюдения. Но саму науку он понимал не как открытие неизменных законов природы, а как их изменение или приведение в соответствие с собственным внутренним желанием действительности, обладающим чертами объективной необходимости, но одновременно являющимся желанием самого человека. Правда, для открытия этого желания в себе человек должен преобразиться согласно некоей антропологической модели, в которой он исторически становится носителем универсального «всечеловеческого» интеллекта[324].
Хотя Платонов часто противопоставляет в своих статьях 1920-х годов «мысль» о действительности самой действительности, риторически различая «головное» от «настоящего», его нельзя заподозрить ни в иррационализме, ни в позитивизме. «Стихия сознания» должна занять, по его словам, место прежней «души» как всего лишь механической суммы инстинктов, интуиции и ощущений. Но и об отказе от чувственного речь здесь не идет. Платонов пишет о сознании как о «симфонии чувств».
Подобная синтетическая «гносеология» раскрывается Платоновым в приложении к пониманию слова языка литературы и природы искусства в целом. Центральная функция слова, по Платонову, – символическая. Благодаря синтетическому слиянию его различаемых лишь абстрактно элементов – идеи, образа и звука, – слово «рисует» нам действительность. Платонов подчеркивает, что перечисленные стороны слова различимы лишь на уровне чувства, по своей «первой сущности» они тождественны. Исключительно доминирующее положение они приобретают лишь в произведениях среднего качества, оказываясь неразличимы «на вершинах творчества»[325].
В этой стихийной философии языка присутствует некая двойственность. Платонов считает слово, с одной стороны, чистой условностью, тенью вещей и даже призраком, а с другой – частью действительности, его поверхностью. Двойственность эта сказывается и в определении роли искусства в перспективе подготовки совершенного состояния человечества. Платонов замечает, что сущностью искусства является «пересоздание» действительности сообразно желанию нового человека (пролетария) как внутренней необходимости его коллективного тела. Но одновременно он считает, что работа художника может быть только репетицией, подготовкой к подобному преобразованию, которое связано с длительным и напряженным материальным трудом. На последнее у человечества до сих пор не хватало сил и должной технической оснащенности. Платонов пытается решить здесь проблему разрыва труда и искусства двояким образом: во-первых, указывая на исторический характер этого разрыва и, во-вторых, ставя его преодоление в зависимость от не осуществленных и только возможных научных и технических открытий. В результате он отождествляет науку и искусство, представляя их как творчество нового мира, его организацию из хаоса. Этот богдановский след понимания истины как совершенной организации жизненного мира проливает новый свет на упомянутую выше идею «внеотносительного наблюдения». Ибо Платонов прямо отождествляет эти два сюжета. А это означает, что позиция «евнуха души»[326] не сводилась у него к пассивному созерцанию неразрешимости и трагичности человеческой жизни, а предполагала открытие созидательного коллективного зрения, которое в точном смысле следует назвать зрением машинным.
Правда, само понятие машины требует в связи с этим существенного переопределения. В дальнейшем она будет здесь пониматься как случайное совмещение гетерогенных серий явлений, эффект которого не исчерпывается этими последними. Таким образом, машина принципиально отличается от механизма и автомата. Хотя и в них изначально, на уровне изобретения, присутствуют необходимые элементы машинного языка, которые образуют так называемую «простую машину», или выражают элементарный машинный принцип.
Идея такой машины в творчестве Платонова находит свой исток и оправдание в опосредовании ею взаимного перехода от искусства к труду и от труда к искусству. Это могло бы означать возвращение искусства в целостный жизненный мир человека, рассмотрение его как вида труда, венчаемого производством одновременно эстетически безупречных и полезных вещей, с одной стороны, и придание материальному труду творческого характера, преодоление его разделения и отчуждения в условиях фабрики – с другой. Здесь обнаруживается влияние на Платонова теоретиков и практиков производственного искусства круга журнала «ЛЕФ» (О. Брик, Б. Арватов, Н. Чужак, С. Третьяков, Б. Кушнер, Н. Тарабукин и Д. Вертов).
Трудность реализации подобной затеи, помимо необходимости для этого де-факто существующих коммунистических отношений[327], состоит в открытии такой машины, которая одновременно являлась бы особым образом организованным поэтическим языком и реальным техническим устройством, функционирующим на своем месте в народном хозяйстве. Платонов-писатель искал способ сведения этих двух машин в одну, причем не только на уровне общего машинного принципа. Так, в одном из писем к жене он упоминает о сделанном им фантастическом открытии: «Ты знаешь, я нечаянно открыл принцип беспроволочной передачи энергии. Но только принцип. До осуществления – далеко. Будет время – напишу статью в научный журнал»[328]. Именно осуществлением подобного «принципа», который не является здесь ни метафорой машины, ни художественным вымыслом, одержимы, например, герои его «Технического романа»[329].
Независимо от того, справляются ли изобретаемые Платоновым в каждом тексте машины с подобной задачей, его произведение как целое обладает определенной машинной структурой, а герои – специфически «машинным» зрением и чувственностью. Причем последние претерпели в творческом развитии Платонова известную эволюцию. Как мы видели, ранний Платонов заявлял, что любая новая техническая машина и есть авангардное произведение пролетарского искусства, понимая его по модели простой технической машины. Он был уверен, что только техническому прогрессу с привлечением машин как своеобразных «поэм» под силу задача переустройства мира. Задачей собственно литературных машин он видел «организацию символов природы – слов сообразно желанию, внутренней необходимости», или, другими словами, «приспособление к своей внутренней природе нематериальных вещей… символов вещей, например слов»[330].
Радикализация этой позиции в связи с катастрофическими событиями засухи и голода 1921 г. (и не без влияния идей А. Богданова и А. Гастева) привела его даже к временному уходу из литературы как «созерцательного дела» в «поэзию» мелиорации и «прозу» электрификации[331]. Здесь надо помнить, что сам Платонов не только активно участвовал в начале 1920-х в социалистическом строительстве, но и был настоящим изобретателем, инженером-технарем, имел реальные патенты изобретений наряду с нереализованными и нереализуемыми фантастическими замыслами.
И только пробуксовывание практической реализации коммунистической идеи заставило его вернуться в литературу и переоценить ее прикладной характер. В основном его работы середины 1920-х годов, начиная с «Города Градова», «О потухшей лампе Ильича» и др., посвящены попытке вернуть революцию на правильные рельсы. С этим связано обращение Платонова к обнаружению имманентной машинности в самом языке, в строении литературных образов.
Далеко не банален вопрос, в каких отношениях находятся деятельность Платонова как мелиоратора, его техническое изобретательство и машинные образы его произведений, его язык и вообще деятельность как писателя. Эти отношения представляются нам имманентными, определяющими общий характер литературы Платонова на уровне не только ее тем и обсуждаемых в ней проблем, но и самой формальной структуры его письма и поэтики.
Именно «маркой» машин определяется введение героев в «Чевенгуре» и «Техническом романе», а их устройством – все их телесные, психологические и интеллектуальные поступки и проявления, повороты сюжета, истоки и начала в целом бессюжетного повествования. Они обусловлены характеристиками машины, которую представляет или которой является соответствующий герой. По крайней мере, по поводу названных романов, особенно «Технического» (sic!), можно ответственно утверждать, что машинная структура как особая логическая форма – это сама их структура, а не что-то примысливаемое извне, метафорическое или иллюстративное, накладываемое на какой-то иной порядок, например мифопоэтический или эдипальный. Тип анализа литературного произведения, ориентированный на выявление машинной структуры текста, мы называем машинной антропологией литературы.
* * *
Многими исследователями творчества Платонова отмечались существенные изменения его отношения к технике и коммунистическому проекту в целом после упомянутого перерыва в литературной деятельности (1922–1926 гг.), связанного с участием в реальном строительстве коммунизма в воронежской и тамбовской областях. Говорится о его «разочаровании» и внутренней критике своего раннего технического утопизма[332]. В качестве подтверждения ссылаются на оставшиеся в те годы в целом неопубликованными произведения Платонова конца 1920-х – «Чевенгур», «Котлован», «Технический роман» – и ряд опубликованных сатирическо-критических произведений («Впрок», «ЧеЧеО», «Город Градов»). Однако этот вопрос требует серьезной проверки, потому что в него вторглась характерная для идеологической конъюнктуры позднесоветского времени (когда эти тексты появились в западной печати) и перестроечных времен (когда они появились у нас) пристрастность, мешающая разобраться в настоящем характере упомянутых изменений.
В самом деле, Платонов уже в 1930-е годы подверг переоценке роль литературы и, соответственно, задачи писателя в социальной практике[333]. Но, как мы видели, и в начале своей литературной деятельности он считал изменение порядка языка первым шагом к изменению действительности. Но тогда Платонов думал, что литература и искусство имеют дело не с действительностью, а лишь с ее символами, образами и «тенями» на ее поверхности. При этом он отсылал к противопоставлению «поэзии пролетарской эпохи» как организации символов природы и поэзии «после пролетарской эпохи» как организации самой природы, предполагающей ее изменение[334]. Практическое участие в приближении этой последней эпохи человечества, предполагающей конец истории и, соответственно, литературы как «малого дела», направленного на ее завершение, убедило Плато нова в неоправданности таких надежд. Но это не означало отказа от самой цели. Поэтому Платонов вернулся к «малому делу литературы», сосредоточившись на работе с языком как поиске способов его разрушения. Помимо прочего, уточнение упомянутого различия означало изменение в понимании самого языка, который Платонов перестал относить исключительно к «надстройке». Для нашей темы это важно, потому что подразумевает, в частности, открытие Платоновым языка как особой машины, а отнюдь не отказ от его технической интерпретации. Напротив, вместо чисто инструментального понимания технического у зрелого Платонова появилась идея гуманизации машины за счет включения в размышления над техникой антропологической и социальной проблематики[335]. Это расширение контекста действия языка, в свою очередь, уберегло Платонова от того, чтобы язык в его понимании замкнулся на себе самом, и одновременно уточнило смысл автономности языка внутри социального целого как особого рода ремесла или мастерства, ориентированного на радикальное изменение социальной действительности в коммунистической перспективе.
В.А. Подорога в известном тексте начала 1990-х «Евнух души» описал имманентную «произведению» Платонова структуру зрения, существенно определяющую способ чтения его текстов[336]. В частности, позиция «внеотносительного наблюдения» у раннего Платонова описывается здесь в сравнении с Гоголем, Вертовым и Филоновым как рефлексия материи на саму себя:
«Глаз Вия обращается на самого себя, он уходит в саму материю, которая его породила для того, чтобы создать образ самой материи. Это как бы саморефлексия нечеловеческого взгляда. Машина видит, машина-глаз. Что же касается глаза (“расширенного, раскрытого настежь”), то его функции полностью передаются идеологемам монтажа, движимым чистыми энергиями природных, материальных стихий. Глаз Вия, обращенный на себя, интервализует материю, разрывая ее органические сцепления, подчиненные органической оптике человека. И этот глаз, вновь после Гоголя возрождаемый, чтобы быть глазом самой материи, должен быть абсолютно свободен: он видит без плана, предварительного расчета и общей цели, это мгновенный взгляд, делающий глубокие надрезы на поверхности видимого, материального потока, освобождающий невидимые силы материи»[337].
В применении к «языку Платонова» подобный подход выглядит как открытие в материи языка саморефлексивной (или «машинной») структуры, избегающей таким образом натурализма и психологизма, связанных с позицией внешнего субъекта.
Правда, Подорога усматривает здесь действие только особой «машины зрения», производящей эффекты опустошения как расширения зоны фундаментальной абсурдности бытия[338]. Исследователь связывает переход Платонова от ранней позиции «объективного внеотносительного наблюдения» к точке зрения «евнуха души» с отказом писателя от чересчур оптимистичного социально-технического проекта, замешенного на субъективистских позициях воли к власти над природой и миром. Подорога выводит принцип машинности платоновского зрения из его личной психобиографической травмы (связанной с катастрофой середины 1920-х годов) и предлагает интерпретировать в терминах психо– и шизоанализа.
«Энергия интервала у Платонова представляется энергией пустоты, опустения пространства. Если вернуться к анализу положения евнуха души – наблюдателя, обладателя особого перцептивного органа, то заметим странную особенность: глаз евнуха души открыт навстречу пустоте, он видит хорошо только интервалы, разрывы, щели, проемы и пустоты в мире видимом, а сквозь них мерцающие поверхности, “дали”, стирающиеся линии горизонта, серое марево и т. п. И как бы ничего не видит, ибо его зрение сфокусировано на том, что не может быть видимым, хотя и является условием видимого. Мы видим и опознаем фигуру благодаря ее отделенности от фона, но сам фон остается невидим или видим только с помощью фигуры, которая наделяет его значением. Сам фон, фон сам по себе не существует. И тем не менее Платонов желает заставить нас поверить этому глазу евнуха души, зачарованного пустотой фона. Если Вертов переходит от интервалов, разъединяющих по пространственно временным точкам реальность увиденного киноглазом, к интервалам как элементам монтажного целого, задающим ритм нового синтеза, нового мира, если хотите, то Платонов, используя евнуха души, добивается совершенно противоположного эффекта. Силы, действующие в интервалах материи, невозможно остановить (нет такой кинематографической машины, которая могла бы сделать нечто подобное), они непрерывны, и их действие осознается для человеческого глаза лишь в случае распада видимых форм материи»[339].
Действительно, то, что видит и позволяет увидеть литературный глаз Платонова, было не под силу даже киноглазу Дзиги Вертова, и именно в техническом плане. Это не недостаток Вертова как такого же машинного утописта. Скорее, это проблема отсутствия технологической реализации уже открытых ими машинных принципов. Не случайно Вертов жаловался на отставание кинематографической техники от его потребностей как художника[340].
Вот только несколько примеров подобного отставания:
«Спичек у Чиклина не имелось, и он нашел женщину ощупью: сначала он коснулся ее волос, таких же свежих, как и при жизни, потом потрогал весь скелет до ступней, – она вся была еще цела, только самое тело исчезло и вся влага высохла. Унести скелет целиком было трудно, тем более, что скрепляющие хрящи давно завяли; поэтому Чиклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех костей, еще осталось много места – настолько женщина была мала после смерти. Настя очень обрадовалась материнским костям; она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу»[341].
Непосредственно визуализировать эту сцену можно только в рамках маргинальных жанров – каких-нибудь фильмов про зомби, или, еще хуже, в принципе не нормализуемой некрофилии. О чем, разумеется, у Платонова нет и речи. Но как нам оказывается доступен смысл подобных фрагментов Платонова, заставляющий читать и перечитывать его произведения? Читаем дальше:
«Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям – и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до повреждения позвонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше чувства раны, чтобы пуля попала в случайное место и там заросла живым мясом»[342].
Замедленное вхождение пули в плоть и обрастание ее «живым мясом» внутри тела Голливуд научился показывать только последние лет десять, и все равно соответствующая картинка из «Матрицы» дает нам только отчасти близкий приведенному платоновскому hard-core эффект. Писательская стратегия Платонова вообще не предполагает прямой визуализации образа, а для понимания смысла предлагается более длинный обходной путь. Его можно назвать открытием точки машинного зрения внутри самого письма, позволяющим тексту добиваться первичных остраняющих эффектов.
Подобные невизуализируемые ни средствами кино, ни даже в воображении сцены можно назвать в прямом смысле трансгрессирующими чувственность, но при этом приучающими ее к восприятию скрытой или вытесняемой нашим пугливым сознанием действительности.
Но, в отличие, например, от трансгрессивных образов Батая, резервирующего для читателя-буржуа удобные места в партере своего порнолатрического театра, Платонов не оставляет нас на границе общественной морали, а заставляет навсегда стереть навязываемое желанию законом ложное условие его удовлетворения – границу-запрет. Он не позволяет публике лакомиться образами эстетизированного порока, канонизируя его в рамках традиционных жанров. Платонов моментально сметает все подобные запреты, вернее, не принимает их в расчет, а совершает моментальную редукцию скрытого, избегая таким образом скатывания в низкие жанры (порно, трэш, китч). Смысл читаемого определяется не запретом, якобы нарушаемым писателем в письме. Ибо мы даже не успеваем подумать о каком-либо запрете, как уже оказываемся в самом центре события, которое только литературный ханжа может назвать преступанием каких-то норм. Смысл здесь не в их мнимом нарушении, шокирующем слишком чувствительные натуры домохозяев буржуазного мира. Речь, скорее, идет о смысловом инфицировании, инкубационный период которого может длиться годами, но излечиться от него можно, только подвергнув ампутации существенную часть своей социальной чувственности, разумеется, если читатель ею вообще обладает. При этом он не будет ощущать никакого насилия со стороны автора, речь идет о самостоятельном выборе, к чему письмо его только подводит. Читатель должен выбрать себя или другого, после чего уже в любом случае обретает другого-себя по ту или другую сторону баррикад.
В этом, кстати, состоит существенное отличие поэтики Платонова от сюрреализма. Испытав шок от надрезаемого бритвой глаза, мы остаемся теми же самыми… любителями или гонителями острых ощущений, не изменяясь по существу. A в случае Платонова можно говорить об отложенном эффекте зримости, причем разворачивающемся на совершенно другой сцене. Но все равно до конца визуализировать ключевые сцены его прозы не удается, потому что они не сводятся к картинке и наслаждению ею, а предполагают переструктурирование самой реальности с непредрешенным визуальным результатом. Поэтому трудно представить себе экранизацию Платонова без тотальных смысловых потерь[343].
Однако я не хочу сказать, что его тексты вообще не поддаются визуализации ввиду столкновения в них идей, а не людей[344]. Какая-то картинка все-таки просматривается и в цитированных эпизодах. Но увидеть ее можно, только заняв позицию, которую не был способен занять подчас сам Платонов. Ибо она является следствием своего рода антропологической и моральной редукции, осуществить которую не под силу частному сознанию. Хотя, казалось бы, воспринимающие способности современного зрителя приучены, благодаря кино и телевидению, к образам запредельного насилия и защищены циническим иммунитетом к любой его визуализации.
Но у Платонова мы сталкиваемся с «невидимым», или временно невидимым, перевод которого в понимание предполагает особый механизм, опосредующий план говоримого (читаемого) и видимого (представляемого), не прибегая к услугам здравого смысла. Мы можем здесь только в общих чертах (до анализа литературных текстов Платонова) описать машину такого перевода, позволяющую читателю испытывать эффект почти осязательного восприятия без созерцания самой его материи. Ибо материи этой нет ни в реальности, ни в представлении-воображении. У Платонова нет вообще ничего, кроме этого странным образом устроенного языка, моментально смыкающего отмеченные планы в коротком замыкании читательского восторга.
В связи с этим позиция «внеотносительного наблюдения», как и с определенными оговорками «евнуха души», должна быть дополнена другой инстанцией, или, играя словами, «инстанцией другого», которая выступает у Платонова как позиция «пролетарского сознания» непартийного коммуниста, просто рабочего человека, пытающегося найти способ продолжения дела революции – построения коммунизма в отдельно взятом «Чевенгуре». Встреча этих – как минимум двух – элементов запускает машину платоновского письма, хотя последняя к ним не сводится[345].
На необходимости включения этой инстанции в культурную и историческую работу Платонов неоднократно настаивал в своих теоретических текстах 1920-х годов.
«Сначала дайте пролетарским массам пролетарское же сознание жизни, пролетарское сознание долга, и тогда придет все остальное – и хороший транспорт, и ладное хозяйство, и скорая военная победа»[346].
Но, в отличие от пролеткультовцев, он считал, что подобное сознание открывается не автоматически (после установления советской власти), а при определенных условиях, первым из которых он называл электрификацию всей страны. То, что это было для Платонова серьезно и принципиально, говорит его уход из литературы в 1922 г. Четыре года ожесточенного труда потребовались ему, чтобы осознать нерешаемость проблемы исключительно инженерно-техническими способами. Однако связанный с этим «поворот» в сознании и мировоззрении Платонова середины 1920-х годов обычно интерпретируется тенденциозно. Не углубляясь в биографические подробности[347], можно сказать, что трудности, с которыми Платонов столкнулся «на местах» социалистического строительства, привели его к пониманию фундаментального парадокса: чтобы выполнить столь масштабные технические задачи, «пролетарское сознание» уже должно хотя бы отчасти реализовать свой культурный потенциал. Он понял, что сам по себе технический прогресс еще не меняет ни природы, ни общества. Без изменения чувственности рабочего человека прогресс этот еще не обеспечивает перехода к иному типу общества, а индивиду – личного удовлетворения. Проще говоря, разрешить этот парадокс невозможно без соответствующих усилий в области культуры, образования, педагогики. Поэтому свою первоначальную идею, что прежде надо провести электрификацию, а уже потом ожидать рождения великой пролетарской культуры, Платонову пришлось серьезно корректировать. Хотя свою роль как писателя и понимание литературы и в 1926 г., и в 1931 г., и в 1934–1935 гг. он связывал с заданными еще в начале 1920-х политическими ориентирами.
Итак, в 1926 г. («Фабрика литературы. О коренном улучшении способов литературного творчества») Платонов предлагает понимать пролетарскую литературу уже не только как электростанцию или паровоз, но и как социальную машину. Здесь надо сделать еще одно важное уточнение. Изменение взглядов на роль литературы в обществе не предполагало у Платонова превращения ее в чисто пропагандистское орудие как часть идеологического аппарата государства. Скорее, наоборот, недооценка силы слова и близость к чисто идеологическому пониманию литературы были характерны для его раннего периода. Например, в «Обращении к начинающим пролетарским поэтам и писателям» пролеткультовского периода (1919 г.) он писал: «Близится время сотворения коммунистической Эдды и великих мифов труда и солидарности, мифов о грядущих машинах-чудовищах, слугах человечества в познании и покорении вселенной»[348]. Подобные высказывания целиком соответствуют поэтике его первых фантастических рассказов и повестей с ярко выраженной сюжетностью и акцентом на фикцию.
Но к 1926 г. он, не без влияния лефовских идей, отказался от мифологического сценария развития советского хозяйства и соответствующей роли литературы в этом процессе. Томас Лангерак[349] подробно проследил, как с возобновлением литературных опытов в 1925–1927 гг. Платонов постепенно отходит от поэтики, характерной для его ранней прозы. Причем отход этот был не моментальным спонтанным прыжком, а результатом сознательного и мучительного поиска новых форм выражения его «неизменных идей». Кстати, в связи с вышесказанным версия раздвоения личности у Платонова, якобы произошедшего с ним в этот период, представляется малоубедительной[350].
Он почти одновременно пишет: 1) научно-фантастические тексты («Лунная бомба», «Эфирный тракт»), построенные на сюжетной основе с привлечением фикциональных элементов, 2) исторические повести с расширенным сюжетом («Епифанские шлюзы», «Иван Жох»), 3) сатирико-критические работы о современных деревне и городе с относительно размытым или ослабленным сюжетом («Песчаная учительница», «О потухшей лампе Ильича», «Город Градов») и 4) совершенно несюжетные вещи, задействующие монтажную технику построения текста («Однажды любившие», «Антисексус»). Пока не приходит (начиная с «Города Градова» и «Сокровенного человека») к заранее не планируемому повествованию, единство которого задается непосредственно неэксплицируемой логикой идей, накладывающейся на резонирующую с ней тему по преимуществу «ментальных» путешествий и приключений героев в поисках коммунизма или его строительства[351].
По словам Т. Лангерака, «поиски жанра Платонова во многом шли параллельно с развитием современной литературы: от традиционного сюжетного рассказа через научно-фантастические произведения с развернутым сюжетом к бессюжетным формам», которые Эйхенбаум называл «повествованием как таковым, не связанным с фабулой, с интригой»[352].
Вопрос, однако, состоит в том, чем обусловлен подобный выбор художника, даже если он чему-то там соответствовал в общем литературном процессе и был на кого-то похож из современников (бессюжетные рассказы И. Бабеля, Л. Леонова, романы В. Шкловского и др.). То, что дело здесь не в сюжете и не в фикции, вернее, что эти формальные признаки только негативно определяют найденный Платоновым «стиль», становится очевидным, когда мы обратим внимание, что и для его ранних научно-фантастических вещей сюжет не играл столь уж существенной роли. Смысловая нагрузка в них, по наблюдениям литературоведов, лежит на описании технических изобретений героев и их возможном значении в футурологической перспективе[353]. Заметим также, что совершенно внесюжетные произведения вроде «Антисексуса» могли не устраивать Платонова, и он в дальнейшем почти не прибегал к монтажной технике. Тем более что основным мотивом того же «Антисексуса» являлась доскональная оценка и критика применения этого мастурбаторного аппарата в социальном пространстве.
Действительно, уже в начале 1927 г., находясь в Тамбове, Платонов почувствовал, что прямые нарративные ходы, к которым он прибегал ранее, мешают достижению нужного результата. Свидетельства самого писателя говорят о мучениях, которые он испытывал, например, при завершении «Эфирного тракта». Однако мы считаем, что сопротивление, которое преодолевал здесь писатель, было связано не с отказом от «провозглашения идей», а как раз с преодолением фиксации на литературных формах. Поэтому когда такой замечательный стилист, как Л. Леонов, на творческом вечере 1932 г. похвалил Платонова за уникальный «стиль», определяющий якобы «общий план его работы», тот ответил достаточно определенно: «Я не думаю, что это так. Тут дело мировоззрения. Мировоззрение сразу уничтожает этот стиль. Это функциональная связь (Курсив наш. – И. Ч.) стиля с мировоззрением. Стиль, конечно, имеет значение, но это не существенно»[354].
Эффект, которого Платонов стал требовать от литературы, носил сугубо идейный, смысловой характер и состоял в проверке неких «неизменных идей» в столкновении его персонажей и их действий, которые являлись, в свою очередь, не более чем воплощением этих идей. Набор «вечных» платоновских тем известен – с небольшими вариациями он повторяется в текстах 1920-х годов и, вообще, во всем его творчестве. В письмах к жене он называл их своими «однообразными и постоянными идеалами». Однако их нарративное представление, как и прямое дискурсивное высказывание, одинаково не устраивали Платонова, они оборачивались однотонностью, тавтологичностью и риторичностью. Не доверял он и концептуальному дискурсу философии, предпочитая философу фигуру мудреца[355]. Поэтому его поиски адекватной художественной формы не обусловлены какой-то эстетической литературной задачей, а сопряжены с открытием косвенного выражения, или, лучше сказать, «обещания» смысла – «темного пути для сердца», влекомого «темной» же «волей творчества»[356].
Одновременно к нему приходит понимание, что «идеалы» эти не могут просто иллюстрироваться художественными средствами. Напротив, «литературная машина» должна производить их, как бы впервые порождать и утверждать не как некие изначально истинные идеологические положения, а как проблематичные ориентиры, окончательная реализация и проверка которых возможны лишь в социальной практике. Поэтому он и связывает революционные изменения в обществе с образом «паровоза истории»: «Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции. Чтобы что-нибудь полюбить, я всегда должен сначала найти какой-то темный путь для сердца к влекущему меня явлению, а мысль уже шла вслед»[357].
Платонов открывает, что мучившие его проблемы не решаются только в философской теории или литературном нарративе.
Он ищет форму, которая оставалась бы открытой реальности, не замыкаясь в истинном в-себе-дискурсе или рассказанной истории. Ибо эти последние начинают подменять собой реальность, а в реальности начинает твориться нечто прямо противоположное говоримому.
Например, партийные критики упрекали как-то Платонова в сюжетной незавершенности, непрописанности финала и отсутствии хеппи-энда в рассказе «О потухшей лампе Ильича», что свидетельствовало, по их мнению, о враждебности писателя советскому строю. Платонов отвечал: «Я мог бы написать, что станция вновь отстроена (это так в действительности и случилось). Но я должен был бы написать тогда, что кулаки вновь борются против нее. Я не мог закончить своего рассказа. Окончание не в литературе, а в жизни»[358].
Таким образом, главное литературное изобретение Платонова было связано с пониманием искусства как открытой, провоцирующей действительность машинной структуры, не подменяющей социальную реальность картиной заведомо найденной «истины». Этот момент дополнялся и встречной мыслью о недопустимости подмены самого искусства «художественной реальностью». Ее нельзя учредить, а можно только терпеливо строить[359].
Итак, на переходе от 20-х к 30-м годам Платонов осознает свой «прием», пытаясь сознательно применить инженерные модели в литературе, но уже не во внешне подражательном плане (что было характерно для комфутуризма, Пролеткульта, ЛЕФа), а на структурном уровне литературного произведения.
В уже упомянутой статье «Фабрика литературы» Платонов писал:
«Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовки… Критик должен стать строителем “машин”, производящих литературу, на самих же машинах будет трудиться и продуцировать художник»[360].
Кавычки на слове «машина» говорят здесь не об условности, они смягчают, возможно, чрезмерную радикальность этой мысли, от которой Платонов, однако, не отказывается. Ибо ниже он уже без всяких кавычек пишет о необходимости доведения писательской техники до уровня производственной, что позволило бы снять проблему индивидуального (читай: божественного, внесоциального) «дара» художника и уравнять (на уровне качества) художественную продукцию среднего советского писателя и… Шекспира.
Речь идет здесь об уточнении старой пролеткультовской идеи коллективного творчества, выражающейся теперь в интуиции социальной природы литературы: «С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива должны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника. Но литература – социальная вещь, ее, естественно, и должен строить социальный коллектив, лишь при водительстве, при “монтаже” одного лица – мастера, литератора»[361].
Мы еще будем говорить о проводимой им здесь идее монтажа «полуфабрикатов», которая является редакцией лефовской «литературы факта» и версией вертовской идеи «коммунистической расшифровки» действительности средствами кино. Здесь же можно добавить, что в конце статьи Платонов видит целью реформы современной литературы сравняться «по разумности организации производства хотя бы с плохим заводом с.-х. машин и орудий»[362].
О характере мнимого «разочарования» Платонова в социалистическом проекте можно судить также по статье того же 1931 г. «Великая глухая», которая развивает центральные идеи известной статьи В. Шкловского «О писателе и производстве» из лефовского сборника «Литература факта» (1929 г.). Писатель, по Шкловскому, «не должен избегать ни профессиональной работы вообще, ни занятия каким-нибудь ремеслом, ни газетной корреспондентской работой, причем техника производства везде одна и та же»[363]. Об этом же пишет и Платонов, имея в виду, что литературный материал писатель должен уметь изготовить сам:
«Социалистическая, всемирная, вековая литература не может создаваться интеллигентски-парцеллярным способом. Это не значит, что писать нужно вдвоем или целым кружком, – это значит, что писатель не может далее оставаться лишь профессионалом одного своего дела: он должен вмешаться в самое строительство, он должен стать рядовым участником его, ибо трудно в такое время… писать, не строя самого социалистического вещества… нельзя командировочным, зрительным, сторонним путем приобрести необходимые для работы социалистические чувства: эти чувства рождаются не из наблюдения или даже изучения, а из участия, из личного, тесного, кровного опыта, из прямой производственной социалистической работы»[364].
Таким образом, очевидно, что ни от ранних утопических проектов, ни от понимания литературы как части коллективного социалистического строительства Платонов к концу 1920-х не отказался, а только внес туда существенные уточнения.
В более поздней записи «О первой социалистической трагедии» (1934–1935 гг.), которую справедливо называют «своеобразным философским и культурным метатекстом неопубликованных повестей Платонова первой половины 30-х годов (“Хлеб и чтение”, “Технический роман”, “Ювенильное море”, “Инженеры”, “Джан”)»[365], он вскрывает основную причину трагичности человеческой жизни и намечает условия ее разрешения. Трагичность обусловлена основным законом природы – диалектикой в столкновении с развитием технической цивилизации, под которой понимается не только собственно машинное производство, но и соответствующая организация общества, и идеология. Ошибочным он считает понимание техники в современной западной цивилизации, ориентированной на захват и порабощение природы без учета ее диалектической структуры. Он понимает, что с победой машинной цивилизации над природой погибнет и человек. Но условие спасения человека, по Платонову, – отнюдь не сохранение его пресловутой индивидуальности, мелкобуржуазной приватности, а… его становление машиной.
«Техника… решает все», – цитирует здесь Платонов Сталина, в то время как последний уже выдвинул альтернативный тезис «Кадры решают все». Платонов проводит альтернативную идею техники, которую признает одновременно истиной современной исторической картины и ее трагедией. Истина трагична в том простом смысле, что она не разделяется всем человечеством, что в условиях капиталистического окружения реальная машинная революция может быть подменена идеологической. Идеология поэтому должна пониматься не как настройка, а как имманентная техническому производству сила.
Мы видим, что в середине 1930-х Платонов все еще полон надежд: «Трагедия человека, вооруженного машиной и сердцем, и диалектикой природы <так!>, должна разрешиться в нашей стране путем социализма»[366].
Но очевидны и препятствия, встающие на пути этой надежды. Первая – враждебность человеку природы, понимаемой диалектически. Вторая – идеологические извращения левого проекта переустройства общества при Сталине – лишь следствие этой общей враждебности сознательного человека человеку природному. Поэтому Платонов и говорит здесь о социализме как о единственном пути разрешения трагизма. Надо только понимать, что социализм Платонов понимает при этом не по-сталински, а по-ленински, т. е. как «советскую власть плюс электрификация всей страны», как народное самоуправление без бюрократического представительства, предполагающее пролетаризацию чиновников и воспитание пролетариев в пролетарском же духе[367]. Социальная и эстетическая программа Платонова совпадает здесь по существенным линиям с манифестами ЛЕФа, которому в полемиках 1920-х годов молодой Платонов отдавал явное предпочтение. Можно сказать, что в исполнение производственнической программы ЛЕФа Платонов в прозе 20-х годов («Ювенильное море», «Усомнившийся Макар», «Технический роман», да и отчасти «Чевенгур») разрабатывал и анализировал модели эффективного машинного взаимодействия искусства, любви, техники и государства, т. е. художников, технарей, чистых изобретателей и женщины. Но, в отличие от С. Третьякова, О. Брика, Н. Чужака и Б. Арватова, он был не склонен к подмене искомого состояния достигнутым и достижимым в существующих условиях.
Ибо историческая разрешимость трагедии человеческой жизни – это противоречие в определении. Трагичность эта состоит как раз в ее неразрешимости. И подобно тому как разрубание трагедии в империализме и фашизме, по словам Платонова, не разрешает ее (человечество и его производство все равно умирают), разрешение трагедии в социализме натыкается в пределе на проблему… скуки, «конца истории», обыденности жизни человека при достижении им состояния земного рая. Это обусловлено противоречивостью человеческой натуры, которой всегда хочется чего-то еще, и необязательно противоестественного (проблематика «Записок из подполья»)[368]. Этим мотивом объясняется странное поведение мужских персонажей Платонова (а это практически все его герои), бросающих своих женщин ради строительства чевенгуров, рытья котлованов и, вообще, поисков коммунизма.
Все это надо учитывать, когда мы подходим к самой загадочной фигуре платоновской прозы – «евнуха души», «мертвого брата человека», «честного, но пассивного наблюдателя» и т. д.
На материале «Чевенгура» точка зрения «евнуха души» подробно проанализирована В.А. Подорогой в цитированной выше статье. Но позиция эта, если ее рассматривать как абсолютно «внеотносительную», размещенную по ту сторону правого и левого, коллективного и индивидуального, не должна интерпретироваться в пользу одного из отмеченных полюсов.
В романах и повестях второй половины 1920-х годов она довольно четко прописана у Платонова по отношению к полюсу номинально «левому», партийно-советскому, по отношению к женщине, а также по отношению к различным социальным слоям и ролям, представленным в советском обществе того времени. Уже в бедняцкой хронике «Впрок» мы встречаем ее чрезвычайно запутанное объяснение, которое можно понять только в сопоставлении с цитированными выше высказываниями теоретических статей тех лет, которые здесь очень тонко обыгрываются[369].
Нельзя сказать, что это исключительно авторская позиция. Скорее, это позиция машины по преимуществу, т. е. точка зрения внеморальной истины, которую, однако, не способен занять даже ницшевский Übermensch.
Прочие позиции и точки зрения похожи на нее или близки к ней лишь постольку, поскольку близки зрительному устройству такой машины. Но разве машина может видеть? Ведь, чтобы видеть, мы должны уже как-то понимать видимое. Но так как она не видит, то ничего не видит и платоновский «евнух души», зато он способен ощупать каждый миллиметр народного тела и сообщить нам о своих ощущениях без моральных оценок и мировоззренческих обобщений, чего не удавалось слепцам из притчи про слона. Значит, возможно, она все-таки видит, но видит невидимое глазом.
Подорога пишет:
«Для евнуха души, как мы уже говорили, ни одна из дистанций не является доминирующей, в его видении одна дистанция всякий раз прячется в другой, он обладает внедистантным зрением, именно поэтому его видение и не является просто перцептивной акцией, но чистым зрением. Мы не можем говорить о том, что видит сам евнух души, ибо с его зрением мы встречаемся в момент аффекта и шока; он видит то, что мы не можем видеть, текст самой пустоты. Или, если все-таки видим, то видим только то исчезающее мгновение первого шока, которое дает нам энергию для чтения, но само оно нереконструируемо ни в какой интерпретации»[370].
Мы называем подобную машину «простой» или элементарным машинным принципом, который состоит в совмещении как минимум двух гетерогенных страт – серий явлений действительности и характеризуется самодвижением и возможностью саморазвиваться, подключая к себе все новые страты. Ее открытие в самом средоточии художественного произведения можно назвать основным приемом поэтики Платонова. Именно по отношению к ней выстраиваются, непрерывно с ней коммуницируя, все другие платоновские образы, также имеющие машинные аналоги.
Даже если Платонов наделяет подобным зрением кого-то из своих героев или даже рассказчика, он все равно является, скорее, оболочкой-носителем этого взгляда, чем его собственником. В «Чевенгуре» это двойник Александра Дванова, его второе я, которое не образует позиции субъекта. Этот взгляд является взглядом самого писателя Платонова лишь настолько, насколько он может быть открыт любым человеком в себе. Поэтому я бы вообще предложил рассматривать этот взгляд как встречу взглядов автора и читателя, условия для которой и создает машина его литературы. Литература Платонова направлена именно на открытие в читателе такого взгляда.
Взгляд «пролетария» и «большевика»[371] вводится Платоновым не по номинально социальной или партийной принадлежности, этот социальный слой лишь наиболее близок позиции «евнуха души», и последняя имеет возможность в нем проявиться. Хотя и совсем не обязательно проявится, во всяком случае, не автоматически. Возможностям и условиям такого проявления и посвящены основные тексты Платонова[372].
Трудность ситуации состоит в том, что Платонову в литературе, как и Вертову в кино, удалось открыть только сам принцип такой машинности, но не реализовать его в какой-то конкретной машине. В своих романах Платонов не просто применяет открытый принцип или как бы иронизирует над несоответствием вечной истине действующих машин и персонажей, а пытается открыть теперь саму машину такого зрения, сконструировать ее из доступных деталей. Но она всегда остается недостроенной. Парадоксальным условием ее функционирования в качестве машины является ее открытость другому. В этом смысле она априори лишена автоматизма и замкнутости.
Поэтому сам Платонов не был абсолютно властен над взглядом своей машины, отчего и колебался при попытке более точного его описания и определения. Характерным в этом смысле является эпизод из «Чевенгура», в котором безучастный и отстраненный до этого «сторож-наблюдатель» впервые и единственный раз в жизни заплакал[373].
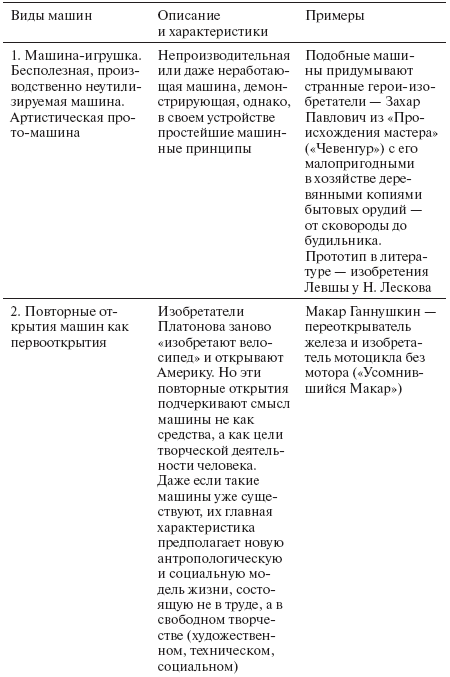
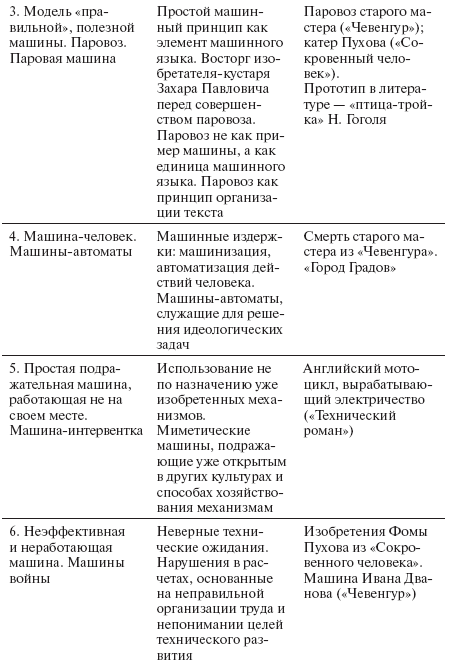
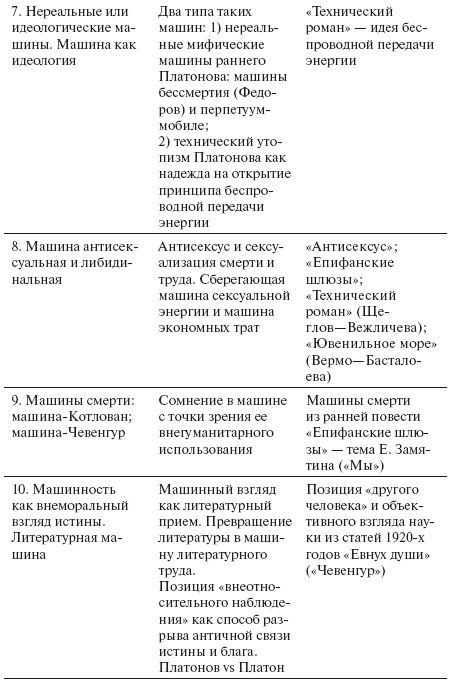
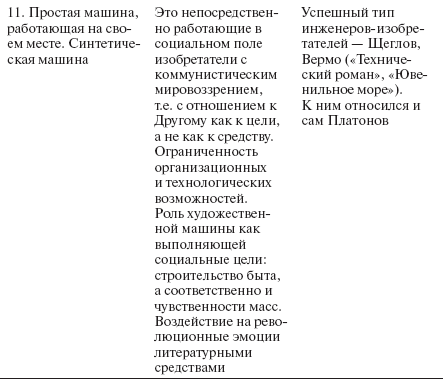
На основе вышеприведенной классификации можно выделить три основные позитивные, но недостаточные интерпретации машины. Первая – с точки зрения изобретателя: создание машины как бы вне непосредственной утилитарности, т. е. это творческая машина (Захар Павлович, Щеглов). Вторая – это технологическое подражание уже изобретенной машине (старый мастер, Душин). И наконец, третья – это изобретение машины социальной, состоящее в социальной проекции технических машин (сам Платонов как изобретатель и литератор).
В то же время можно выделить и негативные стороны всех этих образов машины. У каждой стороны техники есть еще оборотная теневая сторона. Платоновские герои-изобретатели не только доморощенные самородки, этакие русские «левши», но одновременно и подражатели, кустари, дилетанты, изобретатели велосипедов (ср., например, ошибки Ганнушкина, Пухова, да и Захара Павловича).
Поэтому свою задачу как писателя-инженера – организатора синтетической машины Платонов видел в разработке модели успешной коммуникации всех трех интерпретаций машины с целью создания обобщенного машинного образа.
Чтобы не подражать работающим машинам, надо сопрягать их с общественными целями – проецировать на социальное поле, не подчиняя, однако, им технику абсолютно. Иначе она начинает мстить, становясь машиной войны и разрушения, от которой в конечном счете погибает Чевенгур, заканчивается крахом строительство «общего пролетарского дома» в Котловане.
В окончательный синтез перечисленные машинные извлечения должны войти только своими позитивными сторонами. Платоновский социальный идеал сочетает технику, любовь и диалектику природы, учитывая возможные риски от одностороннего развития технической цивилизации и социализма.
Примеры успешного сотрудничества различных сил общества в перспективе осуществления подобного идеала Платонов дал в текстах «Ювенильное море» и «Технический роман». Хотя поставленные проблемы там также не решены окончательно. Это связано с принципиальной позицией Платонова: не подменять органическую жизнь машин внешним машинным синтезом. Поэтому в его романах всегда что-то остается недостроенным, что-то не срастается, что не позволяет миру его Произведения схлопнуться в автоматизме означающих. Для него характерен, скорее, открытый горизонт изобретательства, сочетаемый с мотивом жертвенности.
Технические образы Андрея Платонова, его понимания машины не являются однозначными и гомогенными. Из приведенной таблицы видно, что можно говорить о целом парке таких машин, моделей и истолкований технического. В собственно машинную технику, понимание ее природы и роли в истории вплетаются у него страты сексуальности[374], сверхдетерминированные антропологические фигуры и социальные модели жизнеустройства. Представляющие их машины вступают зачастую в конфликт, настоящую машинную войну, исход и смысл которой выясняются в перспективе решения более фундаментальных социальных проблем, выходящих за рамки собственно литературы.
К концу 1920-х годов понимание техники у Платонова существенно усложнится. Переосмыслит он в связи с затруднениями социалистического строительства в Советской России и роль литературы. Но модель простой машины (или машинного минимума), работающей на своем месте и противостоящей бессмысленности природной жизни, у него сохранится, вступая в продуктивные взаимодействия с другими типами машин и технических устройств – высокотехнологичными производственными механизмами, машинами артистическими и социальными «мегамашинами».
IV. Философия искусства и становление научного искусствознания в 1920-е годы
Стратегии научного искусствознания в ГАХН. Утрата видимого и видимость утраты
Обращение ученых к эстетической проблематике, или, точнее, к проблематике искусства, в 1920-е годы в России, связанное с деятельностью Государственной академии художественных наук (ГАХН), обусловлено рядом причин исторического, социального и имманентного для развития науки и искусства характера. Сегодня уже недостаточно сказать, что поворот этот был обусловлен лишь запросом советской власти, запретами на «первую философию», чистую науку и искусство для искусства, якобы от нее исходящими, хотя это отчасти и верно. Но важнее выяснить, в какие новые конфигурации вошли науки, по большей части гуманитарные, и искусство в эти годы. Изменение традиционных отношений искусства и художественной рефлексии во многом было обусловлено изменением статуса и характера самого искусства в новом российском, да и в мировом сообществе, связанным с революционными событиями начала XX в.
Остро ощущаемый художниками-авангардистами еще в 1910-х годах в России кризис репрезентации и стоящая за ним утрата целостного образа мира и человека вызвали как реакцию заумь и беспредметное искусство. Но в тех же квадратах К. Малевича, цветных фигурах В. Кандинского, татлинских контррельефах, букво-звуках А. Крученых, «самовитых» словах В. Хлебникова и т. д. парадоксальным образом был заново обретен предмет в качестве зримого и слышимого выражения неких абстрактных сущностей (геометрических фигур, психологических реакций, языковых образов).
Однако в условиях царизма и нарождающегося капиталистического производства подобное «восстановление предмета» могло оставаться только негативным. Соответствующие предметы были видимы и слышимы, но неосознаваемы. Зритель и слушатель мог получать от них не столько удовольствие, сколько некий неартикулируемый интерес и тревогу, своего рода нерефлексивное ощущение катастрофического будущего.
Положение авангардного произведения искусства и кубофутуристической поэзии в этой перспективе можно сравнить с описанной М. Фуко паноптической моделью, когда произведение искусства, делая видимым все вокруг себя, само остается невидимым. Этой новой форме содержания соответствовала, хотя и непрямо, форма выражения в виде активно развивавшегося в те же годы формализма и структурного анализа.
Парадокс состоит в том, что содержания этих двух планов не совпадают, хотя и представляют собой один и тот же вещеобразный квазинатуральный предмет – само произведение авангардного искусства. Только в одном случае он являлся утраченным объектом, в другом – обнаженным приемом. Другими словами, художник-авангардист представлял в своем произведении утрату вещи, а теоретик-формалист – новую вещественность знака, соотносящуюся только с другими знаками и не имеющую якобы никакого смыслового генезиса.
Опыты Кандинского и особенно Малевича в свете вышесказанного можно интерпретировать как парадоксальную и даже противоречивую попытку сделать видимой саму предметную утрату. Но, как мы уже сказали, беспредметная и супрематическая живопись претендовала здесь и на что-то большее, чем только ее обнаружение, ведь пресловутый «Черный квадрат» как символ этой утраты сам представляет собой некий предмет par excellence, заменяющий вещи реального мира. В этом качестве он имеет и собственную логику – живописную, композиционную, ритмическую, свето-цветовую, чувственно-психическую. Эти новые вещи предъявляют себя не то чтобы неощутимыми и незримыми, невидимыми, но, по крайней мере, неочевидными. Однако с их помощью появляется возможность видеть так называемый реальный мир с его потерявшими смысл вещами – развеществленный мир бурно развивающегося промышленного капитализма начала XX в.[375]
Революция 1917 г. обеспечила дальнейший переход (и в логическом, и в чисто художественном плане) к искусству в широком смысле «производственному», поставившему себе вполне ясные из соответствующей социальной перспективы цели: возвратить произведение искусства как одновременно полезную и эстетически прекрасную вещь в жизненный мир человека, в его повседневность и быт с целью преображения и даже преодоления последнего. При этом никакого коренного противоречия с чисто художественной, автономной природой искусства эта «утилитаристская» стратегия не имела. Другое дело, что ее проведение зависело не только от художников. На ее пути вставало множество идеологических подмен, преувеличений, не подкрепленного реальными действиями социально-политического утопизма[376].
Мы можем здесь только коротко остановиться на причинах радикальных трансформаций искусства и изменения его отношений с социальным миром в те годы. Новый век вывел на авансцену истории широкие трудящиеся и народные массы, что связано с ростом индустриального производства и, соответственно, с урбанизацией и технизацией жизненного пространства. Искусство в это время уже не было достоянием узкой группы привилегированных лиц, поддерживаемой купцом-меценатом, как еще ранее оно перестало быть придворной службой и царской забавой. В XX в. оно интенсивно демократизовалось, продолжив начавшуюся еще в XIX в. «разночинную» линию в российской культуре. Новые люди принесли в искусство не только необычный материал и тематику, но и новые способы их выражения, революционное понимание искусства вообще.
Я здесь отчасти буду задействовать язык активно развивавшейся в те годы социологии искусства, но не собираюсь все сводить к социальным связям и феноменам. Речь идет немного о другом. А именно о том, что тот же М. Фуко называл трансформацией страт, или исторических формаций, сопровождаемых изменением отношений планов видимого и говоримого, зримого и высказываемого, форм содержания и выражения, как раз и вызывающих коренную революцию в искусстве и изменение его роли в жизни человеческого общества[377]. Мы имеем в виду трансформацию самого предметного мира, отношения к вещам и телам, появление новых субъектов производства и способов потребления, новых медиа и видов искусства (фото, кино). Эти изменения существенно связаны с процессами омассовления общества, сопровождаемыми поисками способов его организации и управления и контроля со стороны институтов власти и аппаратов государства. Причем наука – в нашем случае наука об искусстве – занимала в этих процессах отнюдь не независимое, незаинтересованное положение. Она во многом сама появилась как реакция на системный кризис в искусстве начала XX в., ответ на рождение ее новых форм.
Условия становления синтетической науки об искусстве
Именно в этом проблемном историческом горизонте перед теоретиками и практиками искусства, философами и психологами, внимательно наблюдавшими за стремительно изменяющимся статусом «слов» и «вещей», встал в 1920-х годах вопрос создания синтетической науки об искусстве, которая бы не сводилась, как в XIX в., к истории искусства, а рассматривала этот необычный феномен – современное искусство – со всевозможных сторон, в перспективе поиска общей основы его изучения и выработки новых эстетических, художественных и социальных критериев его оценки.
Я не буду подробно останавливаться на истории развития русского искусства и искусствоведческих знаний и эстетики в России на рубеже XIX–XX вв. В своих самых общих чертах она мало чем отличалась от прослеженных, например, Хансом Зедльмайром[378] этапов становления западноевропейской науки об искусстве. Для нас важно только то, что ученые ГАХН занимали здесь, по признанию немецкого ученого, ключевые позиции. Так, говоря о третьем, структуралистском этапе этой истории, Зедльмайр называет двух русских искусствоведов – Николая Ивановича Брунова (1898–1971) и Михаила Владимировича Алпатова (1902–1986, ученик А.В. Бакушинского), бывших, как мы теперь знаем, активными участниками деятельности академии, авторами известного «Словаря художественных терминов» и постоянными участниками совместных заседаний теоретической секции пространственных искусств и философского отделения ГАХН[379].
Этот прорыв русской гуманитарной науки и наук об искусстве во многом обусловлен тем, что в связи с революционными событиями первой трети XX в. само русское искусство выдвинулось на авансцену истории и мировой культуры. А это, в свою очередь, поставило теоретиков перед жестким выбором: либо попытаться разобраться в произошедших изменениях и включиться тем самым в эстетическую революцию, либо противостоять ей с позиций каких-то иных традиций, абстрактных этико-эстетических, художественных и политических идей[380]. Но сторонними наблюдателями ученый-искусствовед и философ искусства уже не могли оставаться. Так, если Кант и Гегель были, по словам Т. Адорно, последними философами, которые, не разбираясь в искусстве, смогли создать универсальные эстетические доктрины, то теоретики искусства и эстетики 1920-х годов такого себе уже не могли позволить. Они должны были быть, как минимум, в курсе современных тенденций в искусстве и даже разбираться в некоторых тонкостях художественной техники. Тонкость состояла еще и в том, что само искусство в те годы стало нуждаться в научном знании, включать его в себя, причем отнюдь не в инструментальном плане. И, наоборот, наука стала перенимать у искусства авангардные социальные коды, передовые коммуникативные стратегии и новые медийные возможности[381].
Что касается искусствознания, то в нем упомянутые процессы обусловили интерес к синтетическому изучению искусства, позволявшему хоть как-то уловить его стремительно меняющуюся природу. В связи с этим можно говорить об общей для всей ГАХН стратегии создания синтетической науки об искусстве, вмещающей разнообразные подходы – от естественнонаучного и медицинского до социологического, эстетического и философского, – хотя фактически эта стратегия реализована не была. Но она была сознательно положена в основание деятельности академии с самых первых заседаний еще Научно-художественной комиссии при Наркомпросе в 1921 г.
Она была связана с идеологией актуального на то время художественного проекта В. Кандинского и его окружения, с одной стороны, и советской власти – с другой. Но и большинство будущих академиков, ученых и художников ГАХН объединяли соответствующие духу того интенсивного времени универсалистские претензии, противостоявшие узкой специализации и партикулярности, прекраснодушию и концептуальному штилю искусствознания предшествующей эпохи. Они были мотивированы определенным социальным оптимизмом (сдержанным или невоздержанным) в отношении будущего России и разделяли общий просвещенческий пафос.
Я хочу сказать, что эти темы – научности и синтетичности – не столько внешне направляли деятельность отделений, секций и отдельных ученых ГАХН, сколько были их сознательным стремлением. Синтетичность была духом этого интереснейшего времени, или, еще точнее, той формой социального существования, которую принял в 1920-е годы «дух». Только пониматься он должен не как метафизическая субстанция, а как культурное самосознание эпохи, имеющее своим субъектом не одинокую художественную или эстетическую личность, а народ как духовное образование[382].
Но вот образ самой науки и понимание синтеза наук в приложении к изучению искусства интерпретировались в секциях академии по-разному, хотя и имели точки пересечения.
Новая конфигурация власти-знания в России 1920-х. Властный запрос к ученым ГАХН
Далее речь пойдет о трех основных направлениях упомянутых синтетических поисков в Государственной академии художественных наук: экспериментально-психологическом, вульгарно-социологическом и философско-герменевтическом, которые соответствовали названиям трех ее основных отделений. Особо нужно будет коснуться работы в ГАХН художников и искусствоведов, которые находились в наиболее тесном контакте с актуальным развитием искусства. Я имею в виду примыкавших к ГАХН художников и теоретиков ИНХУКа и таких социологов искусства, как Н. Тарабукин, Б. Арватов и Д. Аркин, которых следует строго отличать от редукционистов-догматиков руководства социологического отделения (В. Фриче и пр.).
Наш главный вопрос состоит в том, кому из представителей упомянутых отделений ГАХН удалось не только идти в ногу с быстро изменявшейся действительностью, но и, возможно, опередить ее – разрабатывая концепты и методы, способные предвосхищать и анализировать смену исторических формаций и место в них искусства, знания и власти.
Мы уже отмечали, что даже синтетический запрос советской власти к ученым как представителям специализированного знания не был поверхностным и внешним по отношению к актуальным задачам науки и искусства 1920-х годов, отчасти соответствуя духу времени. На разные лады он повторяется в отчетах, докладах администрации академии, рецензионных статьях и в текстах лично наркома А. Луначарского.
Правда, подход Луначарского к деятельности ГАХН направлялся чисто утилитарным пониманием искусства, рассмотрением его преимущественно в организационно-административных формах, что он прямо отождествлял с научностью, противопоставляя ее «неверной и отрывочной» буржуазной науке и искусству. Три направления, которые выделял Луначарский в «научной» деятельности академии, – физическое, психологическое и социологическое – предполагали четкую организацию материальной действительности, поведенческих моделей и рефлексов, связанных с восприятием искусства, а также самого творческого вдохновения и окончательного исторического успеха художественного произведения. Обращение к естественным наукам и психологии обусловлено для него поисками более упрощенных, наглядных способов анализа искусства, художественного творчества и его восприятия. Например, анализ физиологических ощущений и рефлексов, вызываемых искусством, мог, по его словам, выработать даже «теорию вкуса». Однако Луначарский не отрицал и таких характеристик художественного творчества, как, например, вдохновение, «за нелепым названием которого надо раскрыть его физиологическую сущность», а также «талантливость» и даже «гениальность», обусловленных, по его мнению, влиянием среды, условиями жизни, полом, возрастом, наследственностью и «различными болезненными состояниями». Поэтому последние он предлагал изучать совместными усилиями биологов и психологов. Исследование более сложных явлений художественного восприятия и художественного творчества, выходящих за пределы «физической индивидуальности» художника и не сводимых к физиологическим, биологическим и психологическим характеристикам, Луначарский препоручал социологии. При этом художник рассматривался им с точки зрения его принадлежности к определенной стране, классу и т. д., а произведение искусства – как явление школы, стиля эпохи или культуры народа. Неудивительно, что именно социология представлялась ему преимущественным способом изучения искусства, включающим физический и психологический подходы. Искусство понимается в этой стратегии как «явление социальное», как один из видов и способов «организации физической среды трудом человека»[383]. Характерно, что философскую составляющую деятельности академии Луначарский почти не упоминал, сводя ее к изучению истории эстетики, преимущественно марксистской ориентации[384].
По программным текстам курирующих академию представителей власти можно видеть, как в основу ее деятельности была постепенно положена совершенно новая конфигурация властизнания, в рамках которой наука была призвана исполнять роль надсмотрщика, цензора и агитатора в отношении искусства, понятого властью как важнейший инструмент культурной политики. Поэтому среди центральных направлений деятельности академии советскими чиновниками поддерживались прежде всего педагогические, экспертные и пропагандистские.
Первоначальный проект физико-психологического отделения ГАХН и роль В. Кандинского
Собственное видение синтеза искусствоведческих наук и искусства физико-психологическое, социологическое и философское отделения вырабатывали постепенно, уже в процессе деятельности академии. На первом этапе идеи такого объединения были довольно расплывчаты и неопределенны.
Об этом говорит, например, доклад профессора Н.Е. Успенского «Роль позитивных наук при изучении общих путей художественного творчества» на одном из первых заседаний упомянутой выше Научно-художественной комиссии. Основу синтеза он видит в общих для научного и художественного творчества способностях к интуиции, подражанию в аристотелевском смысле и, наконец, в психологически понимаемом сознании и бессознательном, предоставляющем для науки и искусства необходимый материал. В общем, по его мнению, этот синтез мог бы опираться, с одной стороны, на психологию творчества, а с другой – на физические открытия, касающиеся материальной стороны искусства, прежде всего различные естественно-научные учения о звуке, музыкальных ощущениях, цвете и объективистски понимаемых пространстве и времени. Соответственно, в качестве форм коллективной работы Успенский рекомендовал: 1) доклады и лекции по позитивным наукам на специальные темы (математика, физика, экспериментальная психология и др.); 2) посещение уже существующих научных лабораторий членами комиссии; 3) создание при комиссии собственной позитивно-научной лаборатории.
Разумеется, кроме идеи лаборатории, все остальное мало могло способствовать искомому синтезу, на который докладчик уповал в заключении своей речи, хотя и считал его делом сложным и преждевременным. Кстати, один из участников последующей дискуссии (Язвицкий) выступил с инициативой организовать в будущей академии лабораторию синтетического изучения искусства, а Кандинский предложил назвать ее «Лабораторией изучения синтетических искусств».
Что касается самого Кандинского, то в результате детального изучения деятельности ГАХН как институции, а не только работ отдельных ее представителей, я посчитал неуместным обсуждать здесь его проект синтетических искусств, так как он не стал программным для академии и не был в дальнейшем поддержан ни одним из ее подразделений. Это не значит, что Кандинского не нужно учитывать как ключевую фигуру в истории ГАХН, идеи и энергия которого сыграли на начальных этапах ее работы важную инициирующую и организационную роль. Однако его собственные представления о синтезе наук и искусств и, вообще, о роли научного знания можно рассматривать, на мой взгляд, только как часть его безусловно интересного, но сугубо индивидуального художественного проекта. Хотя существует ряд любопытных сюжетов в деятельности ГАХН, связанных с именем Кандинского, к которым мы еще будем иметь повод обратиться.
«Вульгарная социология» и становление социологии искусства в ГАХН
«Социологи» ГАХН во главе с В. Фриче с самого начала запустили свою вульгарно-социологическую шарманку, не имеющую на самом деле отношения ни к социологии, ни к искусству, ни к марксизму. Главная проблема состояла в том, что на предлагаемых ими основаниях анализа искусства невозможно было провести смысловые различия между работами одного времени, одной эпохи, тем более одного стиля и направления, т. е. выделить принципы индивидуализации конкретного художественного произведения[385].
В качестве предложений от своего отделения Фриче озвучил следующие «синтетические» направления: 1) «О формальном методе в литературе»; 2) Гаузенштейн; 3) работы «на злобу дня»: а) нужно ли искусство; б) камерный и монументальный театр; в) о новейших стилях[386]. Ни о каком сближении с другими отделениями здесь не могло быть и речи. Социологическое отделение с самого начала своей деятельности тянуло одеяло в академии на себя, более других соответствуя вышеописанным запросам власти. Причем его влияние осуществлялось преимущественно по административной линии: представители отделения постепенно становились начальниками и… доносчиками. Кончилось все плохо – устройством еженедельных «социологических дней» в академии, ее тотальной социологизацией как таким принудительным внешним синтезом «научного» изучения искусства.
Но наряду с откровенно редукционистской социологией содержания в России в то же время активно развивалась социология искусства как новая наука, пытавшаяся совместить идею общественной природы искусства, формальный анализ художественных произведений и их политический смысл. Ситуация с социологией в ГАХН стала меняться, когда туда пришли работать такие интересные теоретики-производственники, как Н. Тарабукин, Б. Арватов и Д. Аркин. Этот сюжет выходит за рамки нашей статьи. Для нас важно лишь обратить внимание на то, что синтетический проект искусствознания философского отделения имел важные точки пересечения с основными позициями социологов ГАХН в вопросе об отношении искусства к социальному опыту и истории. Но если для Шпета и Арватова этот вопрос был научной проблемой, то для Фриче и Co. – догматической предпосылкой.
Проект философского отделения ГАХН
Искусство обрело в начале XX в. собственное рефлексивное измерение, достаточное для того, чтобы не нуждаться в обслуживании и легитимации со стороны эстетики, тем более философской. К 1920-м годам можно было даже говорить о культурном соперничестве искусства и философии, а не о каком-то диктате философско-эстетической теории, которая взялась бы судить не только об эстетической действенности того или иного произведения, но и о способах художественного производства, творческих приемах, секретах техники и т. д.
Философия в лице философов ГАХН начала постепенно осознавать эту свою менее притязательную, но не менее ключевую роль в контексте других гуманитарных наук, которая могла бы состоять в переопределении оснований, критериев и методов научного знания, в уточнении и переформулировке его общих философских концептов и очерчивании на этой основе предмета и полномочий отдельных наук в общекультурном историческом процессе.
Искусство в такой установке, наиболее последовательно выраженной Г. Шпетом, перестало быть лишь объектом научного изучения, само выступив в качестве вида знания («прикладной философии»), предложив собственные способы доступа к реальности. Искусство как бы инкорпорировало в себя полномочия философского познания, не теряя при этом своей автономной природы[387]. Эти обстоятельства и учитывали ученые ГАХН, организуя библиографические кабинеты, картотеки и словари философских, эстетических, литературных, театральных и специально-технических художественных терминов[388]. Основой соответствующей стратегии был отказ от утилитарного отношения к искусству и изучающих его наук.
Шпет еще в «Очерках развития русской философии» (1922 г.) связывал с преодолением утилитарного понимания науки судьбы философской мысли, культуры и справедливого социального устройства в России вообще. Как мы уже говорили, к началу XX в. традиционная проблематика эстетики и искусствоведения начала приобретать новые измерения, которые были связаны с изменением самого предмета этих наук и с теми радикальными трансформациями отношений между людьми и предметным миром, на которые современное искусство реагирует молниеносно.
Это и имел в виду Густав Шпет, когда в 1-м выпуске «Эстетических фрагментов», еще до начала своей деятельности в ГАХН, писал: «Художник должен утвердить права внешнего, чтобы мог существовать философ. Только действительное существующее внешнее может быть осмысленно, потому что только оно – живое. Только художник имеет право и средства утверждать действительность всего – и бессмысленного и осмысленного, – лишь бы была перед ним внешность»[389].
Однако вплоть до марта 1922 г. и программного доклада Г. Шпета «Проблемы современной эстетики», опубликованного затем в 1-м номере журнала «Искусство» (1923 г.), на философском отделении ГАХН выступали в основном будущие пассажиры пресловутого «философского парохода» с докладами профетического и эсхатологического характера (как, например, Н. Бердяев[390]). Сам Шпет поначалу предлагал изучать в рамках деятельности отделения только историю эстетических учений. Но уже осенью 1922 г. его выступление в Правлении РАХН (Российская академия художественных наук, с 1925 г. – ГАХН) было посвящено вопросу о синтезе, где он, в частности, обратил внимание на необходимость установления правильных отношений между отделениями и секциями вместо их случайного соприкосновения на нынешний момент[391]. А в 1924 г. на общем собрании академии Шпет выступил с инициативой «установить более тесное научное взаимоотношение между отделениями и секциями». Прежде всего, отделения, по его словам, должны разработать и предложить секциям «общие темы для совместной разработки». Со стороны философского отделения в том же 1924 г. были предложены в качестве основных следующие направления совместной деятельности: 1) внеэстетические факторы искусства; 2) возможны ли определение и анализ искусства без отнесения к эстетическому; 3) что такое образ; 4) проблема сходства в искусстве (перенесение характеристик); 5) о субъекте в искусстве; 6) кинематограф как искусство[392].
Центральным вкладом ГАХН в разработку новых наук об искусстве стало учение о внутренней форме слова, понимаемой не как внутреннее некоего внешнего, а как собственная, не сводимая к внешним формам структура художественного произведения. В этом учении заключено важное отличие нового – не столько научного, сколько эпистемологического – подхода к искусству, который стал направляющим для деятельности философского отделения ГАХН, ряда других секций и отдельных ученых академии. Предметом его выступала не какая-то вне искусства лежащая действительность, как, например, труд, экономические отношения, психологические переживания и даже язык в его онтических формах (звук, письмо), а само искусство как автономная, обладающая смыслом знаковая деятельность, определяющая в известных пределах образы и формы социальной реальности[393].
Психическое переживание как основа синтеза художественных наук (С. Скрябин)
Противоположный по направленности подход встречаем у психологов ГАХН, сводивших искусство к внехудожественным феноменам. Так, один из ведущих психологов академии С. Скрябин на совместном заседании Комиссии по философии искусства философского отделения и психофизической лаборатории 21 декабря 1926 г. так формулировал задачи новой науки об искусстве: «Эстетика как наука о ценности (“нормативная”, “критическая” эстетика) отнюдь не выходит за пределы психологии. Напротив, именно потому, что эстетика есть наука о ценности, она входит в состав психологии (“подлинная” ценность познается лишь путем познания переживаний)».
Ранее в другом своем докладе 1925 г. «Проблемы и методы исследования эстетического восприятия» он высказался еще конкретнее: «“Художественное” ограничивается в пределах эстетического, как более узкая область (“избранного”, “изящного”). “Избранность” художественного есть единственный существенный признак, выделяющий его из эстетического. Художественное, именно как “избранное”, немыслимо в изоляции от эстетического или вне его сферы».
Таким образом, по мнению психолога, искусство принципиально не отличается от иных эстетических объектов, лишено собственной автономной природы и может изучаться только психологически со стороны переживания его внешних форм и психики художника и зрителя. Вопрос «художественности» сводится, с его точки зрения, к неопределенному и неопределимому в рамках самой психологии понятию «избранности» и какой-то чрезвычайно наивной характеристике «изящного».
Но именно в вопросе о синтезе позиция С. Скрябина обнаружила наиболее существенные недостатки. Сведение впечатления от искусства к психическому переживанию приводит его к редукции всех искусств до литературщины: «Драматическое (синтетическое) вчувствование создается синтезом формального и интенционального эстетического “восприятия”. Драматическое искусство в узком смысле (театр, кино) “воплощает” литературу изобразительными (зрительно-пространственными) средствами, подчиняя при этом формальный элемент литературному. Безусловный (равноправный) драматический синтез создается музыкальной драмой. Музыка может быть синтезирована только с уже драматизированной литературой (драмой), но не с литературой непосредственно». Очевидно, что здесь психолог грубо подогнал предмет под свою схему. И это при том, что именно в эти годы театральное искусство и кино уверенно обосновали свои права на независимые от литературы и других искусств язык и структуру произведения.
Становление теоретического искусствоведения в ГАХН (Д.С. Недович)
Дмитрий Саввич Недович (1899–1943), один из самых любопытных искусствоведов, работавших в ГАХН, связывал главное основание будущей науки об искусстве с… социальностью, не будучи ни философом, ни марксистом, ни герменевтом. Он утверждал: «Оно [художественное произведение] производится мастером и изживается творцом; оно не пропадает и не исчезает: там, где есть производство, есть и потребление. Так искусство – потребляется. Потребитель искусства вживается в произведение и через это сам приобщается художеству. Здесь заложена социальная сторона художественной жизни. Ведь если в науке ищется путь от человека к покоряемой им природе, то в искусстве протягивается путь от человека к другому человеку»[394].
Кстати, Недович, который насчитал в своей гахновской книге целых четыре науки об искусстве (эстетика, морфология, ектафика и праксеология), а предметов искусствоведения предложил ввести столько же, сколько существует видов искусства, весьма своеобразно поставил проблему их синтеза. Достойным рассмотрения основанием синтеза наук, согласно Недовичу, может быть только синтез самих искусств в некоторой исторической перспективе. Пока же искусство, скорее, плюрализуется, множится. Причем отдельные искусства изучены плохо, и число их растет. Частично синтезироваться науки могут только в связи с появлением новых синтетических искусств, заставляющих изучать их комплексно (например, киноискусство, своеобразно поставившее проблему времени в искусстве, связанном с визуальностью и пространством). Помимо этого, Недович выдвинул парадоксальную идею, что теория искусства должна стремиться «к синтезу тех начал, что творят мастерство, и тех, что его познают и осмысливают как культурную ценность» (с. 11). Странным образом этому тезису противоречат выдвинутые им в заключении первой части книги скептические замечания в отношении возможностей искусствоведения (в том числе allgemeine Kunstwissenschaft («всеобщей науки об искусстве») М. Дессуара и Э. Утица) проникать в текучую и изменяющуюся, в таком бергсонианском смысле, природу искусства (с. 44–47).
Концы с концами у Недовича не сходились и в частностях. Например, его понимание эстетики как науки в основе своей психологической противоречило другим положениям его теории, ориентированным на анализ формальной структуры произведения искусства. Одной из причин такой непоследовательности было сведение Недовичем философского анализа искусства к исключительно экзистенциальной проблематике – существованию его произведений в истории как неких онтологических целостностей. Вероятно, это явилось результатом недопонимания им эстетической концепции Г. Шпета.
Хотя критика Недовичем философствующих эстетиков (например, Утица) была отчасти и справедлива, особенно когда он говорил об их чрезмерных обобщениях и потере связи с актуальным художественным процессом, но ссылки на необходимость анализа конкретных произведений уже было недостаточно. Она выступала общим местом полемики теоретиков искусства и художников, начиная еще с эпохи Просвещения. Разумеется, искусство существует и «в себе», имеет имманентные своим произведениям формальные законы, собственную историю, стилевые характеристики и т. д., но это делает соответствующий его анализ единственно возможным. Его только необходимо учитывать, отчасти отталкиваться от него, но никак не сводить к нему всю работу искусствоведа. Современное искусствознание не может удовлетвориться исключительно формальным, морфологическим анализом, дополненным перечислением стилевых характеристик и исторической идентификацией артефактов. Подобный подход способен разместить то или иное произведение искусства на причитающуюся ему полку музейного запасника, но мало скажет о его сингулярном смысле и уникальной ценности.
В этом плане философия искусства озабочена несколько иными, нежели искусствоведение и история искусства, задачами – экспликацией языка искусства, имеющего универсальную значимость, а не просто переводом субъективного впечатления от художественной работы на искусственный язык некоей специализированной науки. Этим объясняется характерное для Г. Шпета и его учеников в ГАХН отношение к искусству как к независимому от философии виду познания, результаты которого, однако, способна обобщить и оценить именно философия, рассматривая их в общекультурном историческом контексте.
Взаимное освещение искусств О. Вальцеля и герменевтический синтез М.А. Петровского
Специфической постановке вопроса о синтезе наук об искусстве посвящена статья Михаила Александровича Петровского «Поэтика и искусствознание»[395]. Петровский не был непосредственным учеником Шпета, но ближе всех литературоведов сотрудничал с философским отделением ГАХН[396].
Художественным в искусстве, по Петровскому, является не столько эстетическое, чувственное, сколько сам язык, языковая организация искусства в плане выражения в знаках предметного смысла. Язык представляет собой одновременно и форму (особую автономную символическую систему), и структуру, и sui generis бытие как культурную и историческую значимость и ценность. Причем речь у Петровского идет не только об искусстве языка, языковом искусстве (поэзии), а о языке любого искусства. Здесь горизонтом анализа выступает общее понятие языка, с которым могут быть соотнесены его частные модификации в качестве «смысловых содержаний отдельных искусств»[397].
По сути, Петровский ставит вопрос о синтетическом изучении искусств в рамках искусствознания как вопрос герменевтический, причем не только литературной герменевтики, но и живописной, и музыкальной. В упомянутой статье он позитивно и критически отсылает к известной работе Оскара Вальцеля о взаимном освещении искусств[398]. Необходимость методологического обмена между поэтикой и искусствознанием Петровский связывает с успехами филологической герменевтики в интерпретации поэтических произведений, без перехода ее во внеязыковую и, соответственно, внехудожественную реальность. Он понимает язык искусства не как универсальный язык логики, выражаемый в понятиях, а тяготеет к общему понятию языка как такового, языка как знаковой структуры, которая имеет отношение к значению и пониманию выраженного в нем предметного смысла. В итоге Петровский противопоставляет аллегоризму метафизического подхода, редуцирующего, к примеру, изобразительное искусство до аллегории, семиотический символизм, одновременно оспаривая сведение литературы к понятийным содержаниям, а несловесных искусств – к чистой форме. Речь, таким образом, у Петровского идет о смысле, и вопрос состоит в том, как этот смысл можно извлечь из художественного произведения, если это не понятийный смысл (begrifflicher Inhalt). Что брать за образец в подобном «взаимоосвещении»? Понятно, что он не может быть внешним по отношению к общему понятию искусства. Будучи литературоведом и специалистом по поэтике, Петровский охотно признает первенство искусствознания и изобразительного искусства вообще, в которых элементы художественности, собственно художественные формы не столь очевидно отягощены содержательными, интеллектуальными и логическими моментами, как в словесных искусствах. Особенно это касается музыки, где этих моментов вроде бы совсем нет. Однако это не значит, что музыка бессмысленна. Проблема в том, как ее можно интерпретировать, что считать единицей языка музыки и ее значением.
Петровский критикует точку зрения О. Вальцеля, настаивавшего на эксклюзивной оппозиции логического и художественного при анализе произведений искусства. Он справедливо усматривает здесь лазейку для психологизма, так как сведение художественного в искусстве только к форме-образу (Gestalt) приводит к необходимости отказываться от понимания смыслового содержания (Gehalt) в пользу психологических переживаний. Проблема состоит в рассогласованности вальцевской дихотомии Gestalt и Gehalt как раз на уровне языка. Невозможно одновременно говорить о языке искусства как о художественном способе выражения смыслового содержания и о его доступности только через переживание. Преобразование смыслового содержания в форму-образ оказывается особенно проблематичным именно в словесных искусствах, ибо для понимания их как чистой образной формы приходится существенно купировать сам предмет – например, конкретное стихотворение – до бессмысленного набора слов. По словам Петровского, соотносить с понятием языка только понятие переживания по меньшей мере недостаточно, ибо в таком случае придется закрывать глаза на ряд сторон в самом произведении, которые мы не только переживаем, но и «постигаем, уразумеваем, понимаем». Понятие языка искусства (Sprache der Kunst), таким образом, используется Вальцелем метафорически – как система чувственных образов, не образующая значения и не предполагающая понимания. Этот ход мысли неизбежно ведет к психологизму и субъективизму, заставляя ограничивать анализ столь же условной «значимостью» чувственных удовольствий.
Можно подумать, правда, что методологический подход Вальцеля больше соответствует анализу авангардного произведения искусства, в том числе и литературного. Но Петровский в дальнейшем специально обращается к анализу музыки, чтобы отвести возможные подозрения в литературоцентризме и традиционности своей исследовательской установки.
Он резюмирует свою позицию следующим образом: «Искусство всегда есть выражение некоторых имманентных ему содержаний (Gehalt), и система этих выражающих знаков есть язык искусства в прямом, а не метафорическом смысле. Этот язык не есть язык понятий, но и не есть система прямых и непосредственных симптомов переживаний, доступных только одному их сопереживанию. Это есть сфера своеобразных смыслов, сообщаемых искусством, в его формах как знаках, если угодно – как символах»[399].
Мы уже сказали, что идея филологической герменевтики и перенесение ее методов на другие виды искусств не предполагает, по Петровскому, навязывания языка литературы, а тем более логики, языкам живописи или музыки. Он настаивает на смысловой «автогенности» искусств[400].
Искусствознание может поучиться у литературоведения тому, как работает с языком искусства филологическая герменевтика, чтобы не принять за элемент художественности явно логические характеристики, например риторический троп в музыке или элементы «литературщины» (банального нарративного содержания) в живописи, превращающие ее в иллюстративный материал. Но и обратно: поэтика может научиться у искусствоведения видеть границы художественного в произведении на уровне целостного плана и структуры изучаемого предмета.
Идея Петровского состояла в том, что, для того чтобы перевести что-то с одного языка на другой, нужно свободно и непосредственно владеть ими. Переводить язык видимого на язык слышимого-говоримого и обратно – значит оставаться в пределах интерпретируемого произведения искусства, его символической структуры, выражаемой в соответствующих слово– или формо-образах, и интерпретировать именно их, а не расхожий литературный сюжет или предметное значение наглядного объекта живописи.
Петровский приходит к идее взаимной переводимости языков искусств через образ художественного произведения как целого в его пространственно-временных, ритмических и композиционных формах, свойственных в большей или меньшей степени всем искусствам. Но опять же в уточнение позиции О. Вальцеля он говорит не только о «родстве форм» и «соответствии художественного упорядочения материала» как сходстве отношений целого и частей в пределах формальной структуры замкнутых на себя произведений-монад, а о возможности перевода языка искусств пространственных (des Nebeneinanders) на язык искусств временных (des Nacheinanders) на уровне интерпретации самих же сингулярных произведений:
«Смысл этого противоположения именно в том, что оно не является окончательным и абсолютным: компоненты феномена пространственного искусства не воспринимаются в абсолютной одновременности, и, с другой стороны, полнота восприятия феномена временного искусства требует известной одновременности “переживания” расположенных во временной последовательности его компонентов. Nacheinander включается в Nebeneinander, и Nebeneinander – в Nacheinander… И в этом примечательном явлении заключается, может быть, самая существенная предпосылка взаимного освещения искусств»[401].
Петровский здесь позитивно ссылается на Вальцеля, а свой вклад видит в обратной ориентировке временных искусств на пространственные в результате перенесения на последние темпоральных характеристик симметрии и ритма. Так перевод пространственных характеристик во временные и обратно делает время и пространство медиумами смысла. Это очень интересный ход, сближающий Петровского сразу и с И. Кантом и с М. Фуко.
Характерно, что в этом плане сам Петровский говорит о «реальном переживании произведения временного искусства как целостного единства» и о «ритмическом переживании» как о примерах пространственной схематизации временного произведения. Задаваясь далее вопросом о возможности «перенесения ритмических (и вообще временных) характеристик на искусства пространственные»[402], он рассматривает помимо отношений части – целого еще такую имманентную структурную характеристику эстетического восприятия, как направленность на объект. Указание на своеобразную интенциональность художественно-эстетического сознания выдает в Петровском еще одного благодарного восприемника феноменологических идей в России. Это понятие позволяет ему уйти от психологизма в понимании переживания, интерпретируя эту принципиальную направленность как действенный фактор и элемент пространственной композиции произведения, позволяющий говорить о «приложении временных понятий и характеристик к произведениям пространственных искусств»[403].
Но и в отношении искусств временных, даже музыки, Петровский усматривает возможность говорить не только о чистом выражении чувств и переживаниях, противостоящих смысловому содержанию, но и об особом рисунке их последовательности, который носит объективно предметный характер. Петровский пишет о «тектонике “музыкального содержания” произведения», тематической тектонике (Themenführung, «произведении тем») произведения, которая «не ограничивается уже только сферой чувств и настроений»[404]. Как таковая, она может быть применена и к анализу поэтических произведений.
Языки искусства. Теоретические позиции философов ГАХН
Однако не только М. Петровский вышел на идею языка искусства и искусства как своего рода языка. Подобную идею мы встречаем у А. Габричевского и А. Циреса, Н. Жинкина и Н. Волкова, Ап. Соловьевой, О.А. Шор и др. Близка она и существовавшей в то время западноевропейской традиции философствования в области искусства, связанной с развитием семиотики и герменевтики. Отличительная особенность такого хода мысли – уверенность в осмысленности произведений искусства при несводимости этого смысла к словарным значениям его внешних знаков. В отношении учеников Шпета и сотрудников философского отделения ГАХН в целом можно говорить об ориентации на план выражения, поддерживающий с планом содержания опосредованную структурно-символическую связь через особое понимание его знаковой природы.
Это выгодно отличало их, между прочим, от социологов того же ГАХН. Хотя, как мы уже отмечали, присутствовало и сходство. В идее синтеза наук об искусстве можно при желании усмотреть версию очень важной для марксистски ориентированных социологов-производственников стратегии на преодоление разделения чувственного в области искусства, возвращение его в социальность, в круг повседневной жизни людей, сопровождаемое его пониманием как вида труда, и, соответственно, «преображением» самого труда как вида творческой деятельности человека.
Но в целом глубоко ошибочно было бы приписывать Шпету и его кругу какие-то редукционистские идеи, интеллектуализм или односторонний социологизм. Напротив, налицо узнаваемые структуралистские позиции, совмещенные с герменевтическими установками на истолкование и понимание искусства как знаковой реальности.
Применительно к этому кругу мыслителей можно говорить о школе и о целом направлении исследований в философии искусства, потенциально плодотворном для взаимодействия с эстетикой, искусствознанием, эпистемологией и другими гуманитарными науками, быстро развивавшимися в те годы. Философы ГАХН (и прежде всего Петровский, Ахманов, Жинкин, Волков и Габричевский) выделяли предметную основу синтетического изучения искусств. Эта основа мыслилась ими как имманентная искусству в целом «художественность» в ее внутренних и внешних формах. Но в вопросах ее понимания, способов анализа и отношения к ней сферы смысла они совпадали лишь в самых общих чертах, порой даже поверхностно.
Так, если М. Петровский, как мы видели, двигался в сторону всестороннего обмена методов художественных наук и «взаимоосвещения искусств», одновременно настаивая на автогенности их языков, в горизонте общего понятия и постановки проблемы художественного в литературе[405], то Н. Волков работал, скорее, на разрыв, на дифференциацию искусствоведческих подходов, видя свою задачу как теоретика в проведении границ их полномочий и составлении классификаций[406]. Габричевский, выдвинув яркую идею «языка вещей»[407] как системы социальных знаков, в качестве которой можно понимать любое произведение искусства, тем не менее считал язык пространственных искусств непереводимым на язык слов и логических понятий, говоря даже о какой-то особой, эксклюзивной сфере смысла и понимания вещности, закрепленной за этими видами искусства[408]. Подобная постановка вопроса, разумеется, предполагала несколько иное, чем, например, у Шпета и Петровского, понимание знака, автономности отдельных искусств и синтетичности философского искусствознания. Она, в конечном счете, привела Габричевского к морфологическому анализу художественных произведений, к изучению формальных характеристик соответствующих «вещей», а не к открытию их предметного социального смысла[409].
Сам Шпет связывал вопрос о синтезе исключительно с изящной словесностью. Он писал: «Структурность каждого искусства, каждого художественного произведения, т. е. органичность его строения, есть признак конкретности эстетических объектов, но отнюдь не синтетичности. Структура потому только структура, что каждая ее часть есть также индивидуальная часть, а не “сторона”, не “качество”, вообще не субъект отвлеченной категоричности. “Синтез” поэзии имеет только то “преимущество”, что он есть синтез слова, самый напряженный и самый конденсированный. Только в структуре слова налицо все конструктивные “части” эстетического предмета. В музыке отщепляется смысл, в живописи, скульптуре затемняется уразумеваемый предмет (слишком выступают “называемые” вещи)»[410].
При этом Шпет исходил из понимания предмета не как какого-то пассивного субстрата, на который наука накладывает свои категории, а как уже артикулированной, структурированной в себе области герменевтических вещей, нуждающихся, по его словам, не столько в конципировании, сколько в интерпретации и понимании. Их «природа» не реальна, а сигнификативна и интенциональна и требует соответствующего к себе отношения. Тем не менее вопрос о смысловом генезисе этой второй, символической природы, в которой целиком размещается отрешенное бытие произведений искусства, остался у Шпета до конца не проясненным. Его манифест «Проблемы современной эстетики» приходит только к его развернутой постановке как задаче раскрытия «полной внутренней расчлененной структуры» сознания внешней формы произведения через показ «пути приведения имманентных и внутренних форм выражения к этому непосредственно данному внешнему выражению»[411]. Проблему отрешенной действительности и искусства как специфической предметной деятельности Шпет предполагал решать в более объемлющем контексте проблематики философии культуры, т. е. «других видов и типов культурной действительности» как деятельности по овнешнению природной действительности и ее философскому осознанию (как «оправданию» природы через культуру)[412].
Следует различать попытки внешнего синтеза искусств и синтетического изучения искусства. Последнее не ограничивается специализированным рассмотрением по линиям: визуальное – словесное – пластическое, временное – пространственное, а анализирует искусство как целостный социально-антропологический феномен. Можно без натяжки сказать, что к началу 1920-х годов сама история поставила вопрос об общем, генерализующем все перечисленные подходы отношении к искусству. Более того, можно говорить о взаимопроникновении искусства и наук об искусстве в контексте социального проекта, получившего в те годы позитивную динамику, пусть и ненадолго.
Мы уже отмечали, что синтетические стратегии изучения искусств в ГАХН, внешне выражавшиеся в обязательных общих собраниях академии, ее отделений и секций, были мотивированы не только интересом со стороны советской власти, а по большей части изменившейся после революции ситуацией в гуманитарных науках и самом искусстве. Власть только по-своему на нее реагировала, стараясь сдерживать и контролировать вмешательство искусства не только в повседневную жизнь, но и в идеологию, т. е. ее собственную территорию. Поэтому совсем не случайно Луначарский в статье для № 1 «Бюллетеней ГАХН» наряду с подчеркиванием государственной важности задач «приспособления» искусства к «потребностям масс», культурного строительства и организации для этого всех научных сил указывал как на одну из целей деятельности академии на борьбу с проектом ЛЕФа[413] – ультралевой организации и журнала, наследников дореволюционного кубофутуризма. Кстати, именно в ЛЕФе зародилась одна из наиболее любопытных искусствоведческих и художественных программ 1920-х годов, ориентированная на активную преобразующую роль искусства в общественном поле, уже в оппозиции охранительным тенденциям новой власти[414]. Но лефовский жизнестроительный синтез фактографической теории и производственной практики искусств принципиально не устраивал не только Луначарского, но даже таких записных оппозиционеров нарождающегося авторитаризма, как Л. Троцкий и Н. Бухарин. Они хотели противопоставить ему более послушный и даже манипулятивный вариант наукообразного контроля искусства, задействующий последние достижения экспериментальной психологии, рефлексологии и психоанализа. По мысли того же Троцкого, он должен был управлять массовым телом на уровне чувственности, первичных рефлексов и инстинктов. И, кстати, хотя и несколько упрощая, можно предположить, что проект Кандинского (своеобразная грамматика чувственности, предполагавшая возможность вызывать тем или иным сочетанием цветов и плоскостных форм предопределенные чувственные реакции у зрителя, воздействуя на его эмоции и управляя его аффектами) мог сильно заинтересовать наших первых «авангардных» наркомов. Мы предполагаем, что и открытие ГАХН было в этом смысле частью разрабатываемой ими с начала 1920-х годов культурной политики. Ставки в этой игре были очень высоки.
Другое дело, насколько далеко мог зайти сам этот властный запрос? Насколько ученые могли ответить на него и соответствовать ему в плане его реализации? В каком отношении к нему находились декларации взаимодействия специализированных наук в ГАХН? Насколько вообще оправдались синтетические манифесты гахновцев и какое из отделений академии ближе всего подошло к выработке жизнеспособного, хотя бы в потенции, варианта пресловутого «синтеза», который при этом мог, скорее, разочаровать тогдашних политтехнологов?
Чтобы почувствовать, какой разрыв был между реальной деятельностью членов ГАХН в различных секциях и оптимистичными призывами к синтезу со стороны руководства, достаточно вспомнить, что в разные годы в академии работали такие противоположные по своим позициям люди, как К. Малевич, К. Юон или М. Гинзбург, практики ИНХУКа и теоретики ЛЕФа, такой традиционный психолог, как Г. Челпанов, и такой авангардист, как Л. Выготский, одиозный профессор И. Ермаков и позитивный профессор П. Карпов, апокалиптичный Н. Бердяев и зловещая Л. Аксельрод. Ничем не преодолимую пропасть демонстрируют сами названия докладов, прочитанных в различных отделениях и секциях ГАХН – от «Разбора речи А.И. Рыкова о новой оппозиции» (В.Н. Иваницкая-Мурузи) и «Художественного творчества при прогрессивном параличе» (С. Карпов) до «К поэтике “Западно-восточного дивана” Гете» (А. Габричевский) и «Трактовки волос в римской скульптуре» (М. Кабылина).
В этих условиях философы ГАХН предложили наиболее универсальные основания и принципы для искомого синтеза, которые не сводились к специальным предметам научного знания. Позиция Шпета в этом вопросе хорошо известна: принципы новой науки должны быть имманентны ее предмету – искусству, а не почерпнуты из других источников. А предмет этот носил, по Шпету, преимущественно символический знаковый характер. Вопрос состоял только в том, как понимать природу знака и путь от знака к значению. Учение Шпета о знаке как о социальном отношении способно было в этом плане предложить искусствознанию не только продуктивный ориентир дальнейшего развития, но и действенный инструментарий конкретного анализа художественных произведений[415].
Из этой же перспективы следует понимать и формулировку Шпета из доклада 1926 г. в ГАХН «Познание и искусство»: «Термин “искусство” в дальнейшем берется не в широком смысле степени умения и не в узком смысле эстетического определения, а в смысле “художества” как факта культурной истории, определяемого всей полнотой социального развития»[416]. Искусство предстает здесь как вид знания («прикладная философия»), но не столько в плане выражаемых в нем художественными средствами научных и философских истин, сколько в виде соответствующей эпохе конфигурации видимого и говоримого, производящей новые «вещи», которые уже провоцируют новые смыслы и постановки вопросов[417].
Именно акцент на производстве новых вещей[418] и отношений к ним отличает подход философов ГАХН от традиционных метафизических подходов к искусству, редукционизма психологов, сводящих искусство к чувственным переживаниям, и догматизма социологов, видящих в нем только иллюстрацию содержаний социологического знания и выражение общественных отношений.
В то же время уже отмеченная выше близость подходов к природе искусства у философов ГАХН и зарождавшейся в те годы социологии искусства была связана именно с понятием художественной вещи как результата особого вида человеческой деятельности (по сути, трудовой), через которую только и могут проявить себя в дальнейшем (через интерпретацию и понимание) новые знания и социально-культурные смыслы.
По другой линии философский подход коммуницировал и с позициями представителей психологического отделения – прежде всего через психологическую экспериментацию, опыт восприятия и переживания, хотя и понимаемых не в психологическом смысле.
Соответственно, у психологического отделения были свои пересечения с отделением социологическим. Как мы пытались показать, оба эти отделения в большей степени склонялись к авторитарному подчинению искусств и наук об искусстве собственным редукционистским стратегиям. Но если редукционизм социологов был объективистский, внешний автономному бытию произведения, то редукционизм психологов носил субъективистский характер, не менее чуждый природе искусства.
И только философское отделение предложило соблюдающую интересы и автономию всех наук модель взаимодействия их искусствоведческих стратегий. В этом выразился своеобразный демократизм философского подхода к общей исследовательской работе в ГАХН, оставляющий возможность для специальных научных экспериментов и не претендующий на захват и подчинение различных исследовательских установок в области искусствознания.
Философия искусства функционировала здесь как орудие, разрезающее привычные и ставшие автоматическими отношения «слов» и «вещей» и вычерчивающее линии смысловых событий в высказываниях о конкретных произведениях искусства[419]. Она претендовала, как мы уже сказали, только на переформулировку на новом историческом этапе самых общих философских и логических концептов, таких, например, как знак, смысл, различие, подобие, форма и т. д.
При таком подходе наука как форма выражения знания должна задавать границы поля выразимости, определяя, например, «что есть искусство», «что такое художественное» и т. д. Само же искусство должно определять поле видимости как очертания реального социального поля.
Потребность в науке об искусстве возникает, когда экспериментальное искусство выпадает из поля высказывания, отрываясь от «реальности» как единства страты. Таким образом, наука получает от экспериментального искусства экспертные полномочия, ограничивая возможности произвольных форм культурно-социальной активности называться искусством. Но сама страта как образ социального, задавая направления и науке, и искусству, может изменяться, искажая и подменяя форму зримого иллюзией невидимого[420]. Тогда уже искусство берет на себя инициативу, сохраняя образ справедливого социального устройства и борясь за него с наукой, часто выполняющей охранительные функции и поддерживающей консервативные сценарии общественного развития. Таким образом, наука и искусство могут дополнять друг друга, перераспределяя зримое и высказываемое в отношении к самой исторической формации и достигая таким образом синтеза в сингулярных событийных точках – настоящих произведениях искусства и формах разумного социального мира[421].
«Искусство портрета» в отсутствие самого портрета
Одним из наиболее значительных вкладов философского отделения ГАХН в разработку научного искусствознания в раннесоветские годы стал сборник «Искусство портрета» (1928 г.). В контексте интенсивной эпохи 1920-х годов собранные в нем исследования выразили уникальный опыт философской рефлексии над таким неудобным для философии предметом, как живопись. Хотя только одного из пяти авторов этой книги – Николая Жинкина – можно считать профессиональным философом, тексты значительных русских искусствоведов Александра Габричевского, Николая Тарабукина, Бориса Шапошникова и Алексея Циреса по уровню постановки вопросов и смелости обобщений являются, скорее, философскими. Тем более что все они, при значительном различии исследовательских интересов, обнаруживали содержательное следование идеям Густава Шпета и взаимную близость в принципиальных теоретических позициях и эстетических оценках.
Остро дискутируемый в академии с самого начала ее деятельности (1921 г.) вопрос о возможности концептуального осмысления искусства постепенно смещается от проблем эстетики и истории искусства к общему искусствознанию и философии искусства с характерными для них формально-онтологическими, персонологическими, этическими и социально-политическими постановками вопросов. Но и заявленная в предисловии к сборнику приверженность проекту синтетического изучения искусств, обнимающему различные исследовательские и дисциплинарные подходы, не была лишь декларативной, вымученной под государственно-институциональным принуждением. Проект общего теоретического искусствознания изначально манифестировал себя как интердисциплинарный и синтетический, четко соответствуя разнонаправленным экспериментальным поискам в искусстве тех лет. В текстах видны явные признаки продуктивной коллективной работы, не только номинальные переклички, но и взаимное развитие тем, усиление позиций друг друга, перекрестная проблематизация концептуальных сюжетов при сохранении индивидуальных акцентов.
Все авторы сборника, которые являлись одновременно активными участниками еще одного значимого проекта ГАХН – «Словаря художественных терминов»[422], живо интересовались искусством вообще и его современными трендами в частности. Но вопрос о критериях искусства, о возможности объективной оценки его произведений в условиях грандиозных социальных и культурных изменений в России тех лет был одновременно столь насущен и сложен, что известный разлад в подходах и понимании проблемы у академиков и теоретиков неинституциональной левой среды не мог не обнаружиться. Сама тема портрета в русле развития коммунистического авангарда 1920-х годов выглядела довольно двусмысленно. Ибо, с одной стороны, затребовала осмысления бесспорно ценного исторического материала, а с другой – шла вразрез с ходом актуального художественного процесса. Предсказуемо холодный прием политически нейтральных текстов об искусстве в политически ангажированной атмосфере 1920-х годов был обусловлен, помимо начавшейся травли гахновских «идеалистов», упомянутой несвоевременностью исследований портрета как жанра искусства. Интенсивно развивающийся авангард принял в те годы формы конструктивизма и производственного искусства, а во влиятельных художественно-теоретических изданиях, вроде того же «ЛЕФа», речь вообще шла об отказе от станковой живописи как таковой. Какой уж тут портрет?
Судя по предисловию к сборнику «Искусство портрета» и другим работам его авторов тех же лет (ср., например, «Эстетику числа и циркуля» Б. Шапошникова), молодые гахновцы были в курсе дискуссий о судьбе фигуративной живописи, о кризисе репрезентативности и изобразительности, о переориентации искусства на производство утилитарных вещей и социальных отношений. Но собственно авангардное искусство, тем более в его леворадикальной версии продукционизма и фактографии, ни Шпет, ни Жинкин, ни Габричевский не только не поддерживали, но и особенно им не интересовались. Из всех гахновцев разве что П.С. Попов, родной брат знаменитой футуристки и производственницы Любови Поповой, пытался разобраться с этими художественными явлениями, и то через текст Рихарда Гамана[423]. Не случайно также, что для упомянутого «Словаря…» об актуальных тенденциях в современном искусстве писала только совсем еще молодая тогда Н.В. Яворская[424].
Сама Академия художественных наук задумывалась как государственный, контролирующий развитие современного искусства орган, авторитетная экспертная инстанция, способная выступать в качестве организатора музейных коллекций и куратора крупных выставок в России и за рубежом, т. е. отбирать и оценивать конкретные художественные работы. Власти видели в ней прежде всего институт, способный вырабатывать новые (научные) критерии отбора предметов искусства для представительских и пропагандистских целей. В этом плане положение академии было изначально уязвимым, потому что, несмотря на достаточно консервативные взгляды конкретных ученых на искусство, выполнить подобную миссию они были явно не в состоянии, не попирая по-своему понимаемую и отстаиваемую ими «научность». С другой стороны, академия находилась под подозрением у левых теоретиков и художников, и это при том, что в ее штате состояли такие люди, как К. Малевич, В. Кандинский, Б. Арватов, М. Гинзбург и целый ИНХУК. Не помогло и членство в ГАХН еще одного из авторов сборника – Николая Тарабукина, известного в начале 1920-х апологета конструктивизма и производственничества. Характерно, что, именно работая в ГАХН, Тарабукин перешел от довольно радикальных идей своего скандального манифеста 1923 г. «От мольберта к машине» к таким исследованиям, как «Философия иконы» (1935), и в дальнейшем стал маститым советским искусствоведом. Недоброжелательные рецензенты «Искусства портрета» не преминули иронически отметить, что Тарабукин «начал с защиты новых форм искусства, новых методов изучения художественных фактов, а к 1927–1928 гг. благополучно добрался до откровенно-идеалистических позиций»[425]. Кстати, именно отрицательные рецензии в авторитетных советских изданиях, которые с середины 1920-х годов начали планомерную травлю ГАХН, стали важнейшей причиной коммерческого неуспеха издания (тираж так и не был распродан). Видимо, в те годы черный пиар еще не был эффективен.
С приниципиально теоретических позиций критика авторов сборника «постовыми» от литературы была и неточной, и несправедливой, представляя собой пример партийной заказухи и элементарного доносительства. Так, в статье «“Академики” об искусстве» того же А. Михайлова, опубликованной в журнале «Печать и революция», читаем: «Идеалистический подход к фактам действительности и искусства, ограниченный формализм, ненаучность, антиобщественность, явная халтура, перемешанная с мистикой, – вот что является основным для трудов, издаваемых ГАХН и являющихся конкретными носителями реакционных тенденций»[426]. Но упреки в иррационализме, «напыщенных фразах», не способных скрыть «внутренней пустоты и ненаучности идеалистических рассуждений, переходящих в мистику»[427], говорили, скорее, о неспособности самих критиков оценить вклад в развитие русского искусствознания таких утонченных знатоков искусства, как Габричевский или Тарабукин. Тем более что в сравнении с номинальными «идеалистами» Серебряного века вроде того же Н. Бердяева или Ф. Степуна с их апокалиптическими статьями об искусстве представители нового поколения российских теоретиков искусства были, скорее, сдержанными позитивистами. Но даже их скромные попытки выйти на какой-то метауровень художественной рефлексии жестко пресекались партийными кастраторами. Однако, если оставить за скобками возможные последствия предпринятого сталинскими слугами в конце 1920-х годов погрома для исторического выживания ГАХН, карьеры и судеб большинства его сотрудников, против их общих обвинений академики, скорее всего, даже не возражали бы. Ведь они действительно понимали искусство не как «воспроизведение практической действительности», требующее лишь «социально-классового анализа». Правда, это и не означало, что они хотели определить лишь ее «метафизическую, вневременную, внепространственную и уж, конечно, внесоциальную сущность»[428]. Вклад авторов «Искусства портрета» в разработку языка прочтения и понимания художественных произведений в контексте социальной истории, с учетом определенных общественных условий их возникновения, без предвзятости и непонимания не заметить было невозможно.
Критика А.А. Федорова-Давыдова[429] в этом плане базировалась на грубой подмене, когда отказ от понимания искусства как отражения вне его существующей действительности истолковывался как отрицание его историчности и социальной природы вообще. Но пристрастность подобной критики приводила к противоречиям только самих критиков: например, в вопросе о сущности портрета они обвиняли гахновцев в опоре на извне взятую индивидуальность «как явление, развивающееся по своим собственным законам»[430]. Академиков ругали в зависимости от повода то за формализм, то за вульгарный социологизм.
* * *
Сами авторы «Искусства портрета» были больше озабочены концептуальным отличием портрета от других типов изображений и видов живописи и, что еще более важно, различиями между произведениями портретистов разных эпох, техник и стилей. А. Габричевский ставил вопрос об особых изобразительных формах портрета в их сочетании с конструктивными формами картины как вещи и экспрессивными приемами художника; Н. Жинкин больше интересовался феноменологическими качествами художественной вещи и формами ее восприятия, также задаваясь вопросом о специфических портретных формах, соответствующих им художественных актах и видах мироощущения; Н. Тарабукин проводил тонкие различия в изображении индивидуальностей различных эпох на фоне впечатляющей экспозиции истории портретного искусства; А. Цирес строил грамматику особого портретного языка на основе феноменолого-герменевтического подхода; Б. Шапошников рассматривал отношения портрета, копии, двойника и «оригинала» в чисто спекулятивном ключе[431]. Но все они заявляли об исходном для понимания портретного искусства уровне художественного образа, структура которого включала различные, накладывающиеся друг на друга и взаимодействующие формы. Различия их позиций касались тонкостей происхождения, состава и способов изучения соответствующих форм.
Переход академиков к исследованиям портрета во второй половине 1920-х годов можно считать логичным продолжением центрального исследовательского проекта философского отделения ГАХН – изучения художественной формы[432]. В его развитие авторы «Искусства портрета» разработали своеобразную версию формализма – структурного анализа художественных форм, которая претендовала на снятие непродуктивного противостояния односторонних взглядов на искусство: что это автономная, независимая от каких бы то ни было культурно-исторических содержаний наглядная форма или всего лишь отражение вне его существующей действительности. Соответствующие ориентации только на наглядность художественного образа или, напротив, только на выражение внехудожественных (объективных или субъективных) содержаний опирались, с их точки зрения, на равно присутствующие в структуре портретного образа, но не исчерпывающие его целостную структуру слои. Целью диалектического анализа портрета как результата наложения и сцепления изобразительных (характерных), конструктивных (тектонических) и экспрессивных форм было усмотрение их единства в целостной структуре художественного образа и его качественная оценка в свете основной цели портретного искусства – выражения индивидуальности, олицетворения или даже «воплощения» в картине уникальной портретной личности.
Вопрос, где и как художник находит эту личность и затем отбирает для нее из набора внешних форм адекватные формы олицетворения, совлекая «безличные или многоликие маски времени» (Жинкин), оставался открытым. Теоретики как бы останавливались перед фундаментальными «мировоззрительными» проблемами, требущими уточнения и конкретизации в интенсивном социально-политическом контексте 1920-х годов. Соответственно некоторые основания для критической оценки искусствоведческих работ гахновцев имели место, но, скорее, ввиду спорности и проблематичности самого предмета их рефлексии – портрета, нежели их собственных политических ориентаций.
Между тем просто так от проблемы портрета отмахнуться было невозможно, и отнюдь не только ввиду очевидных образовательных и архивных задач новой культурной политики. Обращение к портретному искусству философов и философски ориентированных представителей искусствознания в этом плане оказалось своевременным. Мы хотим сказать, что общефилософскую проблематику сущности портрета и условий его возможности, даже в отсутствие самого портрета в контексте развития конструктивизма и производственного искусства, нельзя было считать несущественной и в собственно социально-политическом плане. Ибо в условиях торможения и холостого хода социального эксперимента в Советской России обращение к портретной живописи и требование ее философского осмысления становилось все более актуальным и оправданным, в том числе и политически. Хотя искусствоведческие теории традиционно отстают (и должны отставать!) от такого живого предмета, как актуальное искусство, теоретики ГАХН как-то предчувствовали возвращение к фигуративной и изобразительной, в том числе портретной, живописи, которое и началось в советском искусстве как раз к концу 1920-х годов. Кстати, прежде чем застыть в соцреалистическом каноне, оно привело к целому ряду бесспорных художественных достижений.
Разумеется, академики мотивировали свой интерес к портрету несколько иначе. Дело в том, что формальные характеристики портрета не столько компрометировали станковую живопись, сколько не позволяли беспредметному искусству и вещизму негативно самоутверждаться по отношению к такой бесспорно станковой форме искусства, как картина. На вопрос, который мог быть обращен к критикам станковизма, насколько портрет зависим от изображения и, вообще, внешней реальности, авторы «Искусства портрета» ответили достаточно уверенно. Портрет, который вроде бы обречен быть отражением, копией или двойником оригинала, не может в то же время называться картиной, лишь воспроизводя внешние формы своей модели. Другими словами, паразитируя только на оригинале, невозможно исчерпать всех формальных качеств портрета, по крайней мере, имея в виду высшие образцы этого жанра (Леонардо, Тициан, Рембрандт). Ограничиваясь в анализе лишь изобразительными, конструктивными или экспрессивными формами, портрет оказывается концептуально неотличимым от фотографии, муляжа, маски, зарисовки натуры или карикатуры.
Авторы «Искусства портрета» проделали впечатляющую работу по проведению соответствующих концептуальных различий. Их статьи полны интереснейших наблюдений и интуиций, богаты профессиональным искусствоведческим анализом и продуманными историческими обобщениями. Однако их работа в целом выглядит, скорее, отрицательной в том смысле, что они практически исчерпывающе прояснили, чем портрет не является, задали общие координаты, вернее, полюса бытования портретной живописи в истории, но от положительного решения вопроса о ценности и важности портрета для современности, как и о причинах его небытия в актуальном авангардном искусстве, скорее, уклонились, оказавшись заложниками своего предмета. Впрочем, сомнения, пусть и робкие, в безусловной ценности портретного искусства характерны и для этих в целом традиционно апологетических искусствоведческих текстов.
* * *
Николай Жинкин, статьей которого открывается сборник, вроде бы исходит из необсуждаемой ценности жанра портрета для живописи, в которой должна как-то выражаться человеческая личность. Жинкин даже выдвигает тезис о релевантности для портретной живописи проблем личности и других традиционных философских вопросов (например, отношение души и тела, диалектика истории и др.). На основе подобных ценностных предпосылок он берется критиковать современные течения в живописи – от конструктивизма до экспрессионизма – в плане умаления в них роли личности и заката жанра портрета[433].
Однако, критикуя по ходу современный ему вещизм, Жинкин не удовлетворяется и гармоничными образцами возрожденческих портретов, замечая, что в портретах Тициана, например, личность еще не выражена, т. е. не проблемна[434], а в современном портрете, наоборот, уже не выражена, зато он остро ставит проблему человека (с. 11). Более того, обсуждая отношение вещи и личности в современном искусстве, он неожиданно замечает, что личность здесь вообще ни при чем: «То, что мы видим в портрете, – гораздо больше, чем только личность, – личность берется только как тема, как внешняя форма, за которой сгущается “образ”, он переплавляет личность в свое собственное “зрение”, толкует ее, осуждает, принижает или возвеличивает» (с. 38).
Вместе с тем Жинкин более других авторов сборника сближает проблему портрета и проблему личности, объясняя сложность анализа портретного искусства неразработанностью философской теории личности. Хотя проблема портрета, в отличие от других жанров живописи, не может не касаться личности, соприкасается она с ней как бы по сю сторону искусства. Более того, в отличие от литературного творчества, Жинкин определяет в качестве основы различения жанров в живописи саму изображаемую предметность (с. 18). Но понимает он ее, скорее, феноменологически, как способ данности сознанию в констелляции внешних и внутренних онтологических форм. Изображаемая личность в этом смысле только задает портрету тему, а мировосприятие и понимание этой личности определяется собственными задачами искусства – приемами специфической трактовки художником ее характерных онтических форм.
Проблематику портрета Жинкин рассматривает в сложной системе встречающихся друг с другом форм, следуя здесь за своим учителем Г.Г. Шпетом, посвятившим подобному анализу языка свои «Эстетические фрагменты» (1922 г.) и «Внутреннюю форму слова» (1927 г.). Вслед за Шпетом Жинкин вводит и понятие внутренней экспрессивной формы, чтобы отличить художественный уровень портрета от чисто изобразительной вещной репрезентации тела. Но если для раннего Шпета экспрессия приобретала предметное качество произведения только через социальную символизацию и преимущественно относилась к эстетическому восприятию, то Жинкин делает акцент на произведенческой, портретообразующей функции экспрессии и наделяет ее статусом внутренней формы, определяя сам художественный образ через встречу его форм и окружающей среды.
Связанное с интересом к проблематике экспрессии смещение общей исследовательской программы философского отделения ГАХН от словесного к изобразительному искусству (от времени к пространству) можно отметить и у других учеников Шпета (например, у А.К. Соловьевой, А.Г. Циреса), и в его собственных трудах второй половины 1920-х годов (например, «Искусство как вид знания»). В концептуальном плане оно обусловлено интересом к проблематике субъективности в искусстве. Значительным итогом этой работы стало понимание того, что личность не просто изображается в произведении искусства, но и воплощается в нем, одновременно проблематизируя на доступном созерцанию образном уровне условия собственной возможности[435]. Искусство предстает в этом плане как вид знания или прикладная философия (Г. Шпет).
Жинкин исходит из идеи особых портретных форм, которые, с его точки зрения, изоморфны формам социальной (внехудожественной) личности, хотя и без какой-либо взаимной детерминации. Интересно, что саму эту личность Жинкин, опять же вслед за Шпетом, понимает не как индивидуальность, а как представителя некоей общности – социальный тип. Поэтому он с самого начала отказывается от родовидовой логики в понимании сущности портрета и ее номинального определения через перечисление качеств (ср. статью «Сознание и его собственник» Г. Шпета). Претворение квазиприродной единичности в социальную личность он представляет как отношение, которое возникает у «индивидуального носителя личности» с вещами, другими людьми, событиями и социальной обстановкой (быт). Отмеченное отношение представляет собой сложную структуру, которую Жинкин предлагает понимать как накладывающиеся друг на друга формы – от поверхности и фигуры вещи до ее социального назначения и далее к олицетворению через соприкосновение с индивидуальным носителем личности. Применительно к искусству портрета этот процесс предстает как воссоздание художником пути встречного становления вещности и личности в драматичной борьбе природы и культуры, разворачивающейся на его собственном теле. Внешние онтические формы человеческого тела как такого вещеобразного предмета встречаются в портрете с бытовой обстановкой и культурой, делая возможным появление специфически портретной личности. Помимо объективных материальных форм, Жинкин рассматривает как минимум четыре вида экспрессивных. Это прежде всего позы и жесты человека как результат его встречи с окружающей обстановкой. В художественном творчестве им соответствует экспрессивность манеры художника как результат столкновения его замысла-намерения с материалом художественных средств и носителей. В игре соответствующих форм возникает материальная основа портрета, но еще не сам портрет, ибо, с точки зрения Жинкина, соотнесения характерных и экспрессивных форм еще недостаточно для проявления собственно портретной личности. Внутренней форме личности как результату встречи «жеста и конкретной жизненной обстановки» соответствует далее неовнешняемая форма олицетворения, которая образуется в результате специфических художественных актов или приемов, которыми владеет только художник.
То есть личность для него не данность, существующая в контексте социальной или природной обстановки, она рождается именно в культуре и, конкретнее, в искусстве. Соответственно работа художника состоит не в ее изображении, предполагающем подражание внешним созерцательным формам, а, скорее, во взаимном наложении-запечатлении личностных форм модели и форм собственной личности[436]. Если и можно говорить здесь о подражании, то только внутреннему образу личности в самом художнике. Для Жинкина здесь важно то, что именно портрет «находит личность в человеке… обнаруживает его собственные формы» (с. 35). Художник как бы выводит его из безличной повседневности, придавая портретному изображению формы олицетворения.
Но Жинкин не берется подробно объяснять происхожение и природу этих личностных форм, называя их одновременно онтическими и поэтическими. Не рискует выходить он и на уровень метафизических обобщений, видя свою задачу только в реконструкции техники появления портретного образа через игру подстановок характерных и экспрессивных форм, в которую «играет» художник. Жинкин задает лишь общие направления дальнейшего анализа, зато достаточно убедительно показывает, чем портрет не является, последовательно отличая его от других видов и жанров живописи, где картина не достигает или преодолевает портретный уровень (например, в карикатуре или иконе). Это позволяет ему, например, формально отличить икону от идола, портрет от жанровых картин и т. д. В свойственной ему манере[437] негативных определений – формально-онтологических, феноменологических признаков вещности, характерных и конструктивных форм, эмоциональных экспрессивных характеристик и т. д. – Жинкин выходит на уровень сугубо внутренних, поэтических форм.
Их рождение он связывает с художественным актом усмотрения художником места встречи позы, жеста и окружающей обстановки, которое и является собственно внутренней формой олицетворения или формой личности. Но при этом отмечает, что перевести эту форму из художественного акта и акта восприятия в словесные формы невозможно без искажения и впадения в банальность, потому что сам способ организации соответствующего опыта принципиально иной в искусстве и теоретической рефлексии. Этим оправдан метод формального анализа признанных портретов.
Через подстановки и прослеживание доминирования тех или иных форм в различных типах портрета Жинкин убедительно демонстрирует его продуктивность, характеризуя, например, кубизм преобладанием конструктивной схемы над другими формами и истолковывая получаемый эффект искаженного олицетворения присущим ему мистическим мироощущением[438]. Кстати, используемое Жинкиным понятие «доминанты», как и некоторые другие аналитические концепты, неявно заимствовалось гахновцами из методологического арсенала русских формалистов, что не мешало им анонимно критиковать последних[439].
О том, что представляет собой упомянутый художественный акт и благодаря чему его осуществляет художник, другими словами, об условиях его возможности в историческом плане и месте в системе когнитивных способностей и экзистенциальных координат Жинкин пишет туманно и отрывочно (с. 43–45). Последний уровень анализа форм портрета – мирочувственный и мировоззрительный – представляется спорным ему самому, как и оценка конкретных художественных произведений, направлений в живописи и культурных эпох[440].
Но все же Жинкину удалось, вопреки собственным страхам и научным предубеждениям, проговорить ряд продуктивных интуиций, относящихся к социальной природе портретной живописи. Так, он только намекает на особый миметический характер акта, позволяющий усматривать личность во внешних проявлениях, а не во внутренних моральных глубинах. Отсылая к «Эстетическим фрагментам» Г. Шпета, он, по сути, связывает здесь созерцание личности с эффектами поверхности, сравнивая его с усмотрением созвездий[441].
Форму личности Жинкин вообще сравнивал с треугольником как чистой геометрической фигурой, отвлеченной от конкретных эмпирических треугольников, – и это говорит о бессознательно конструктивном мышлении философа, который при этом отвергал конструктивизм в искусстве[442].
Аналогично, при типичном для академических ученых начала XX в. неприятии фотоискусства Жинкин на метафорическом уровне мыслит фото– и кинематографически: критикуя фотоизображение, он, по сути, говорит на языке новых массмедиа[443].
Любопытно ставится Жинкиным проблема мифа, столь существенная для понимания происхождения искусства и способа его бытования в современном обществе. Мифологическое отношение к образу, разумеется, отличается от современного, связанного с появлением светского искусства, но выполняет близкие функции сказания о вещах, артикуляции вещного взаимодействия между людьми. В момент использования вещей мы ведь не понимаем стоящей за ними мифичности, потому что сами участвуем в их производстве[444].
Пробиться через вещи к личности можно только через развеществление отношений, в которые вступают люди в существующих социально-экономических условиях помимо собственной воли (по Марксу). Жинкин считал, что для этого достаточно нейтрализации содержания вещей, их перевода в чистую видимость образа, чем, по его мнению, и занимается искусство[445]. Однако одновременно с этим он замечает, что мы всегда требуем от портрета чего-то большего, чем сходство, а именно тождества с оригиналом, вернее, с чем-то необъяснимым в самом оригинале – тождества скрытой в нем личности[446]. Именно в этом свойстве портрета проявляется миф, причем миф новый. Мифичность искусства состоит в том, что некая видимость пытается выдать себя за сущность, например, видимые формы портрета – за личность. И проблема состоит не в том, что у нее это не получается, а в ориентации на этот принципиально недостижимый в рамках станкового искусства результат. Чем отличается личность в искусстве от личности мифической? Собственно, отсутствием в мифе этой самой личности[447]. Разве идол был личностью? Он только претендовал на ее замещение! Но и в искусстве личность дана только в своей видимости (прекрасной или ужасной), а не реальности[448]. Возможно, личность – это и есть внешность, форма прекрасной эстетической видимости? Шпет и Жинкин особенно против такого вывода не возражали бы (с. 31).
Говоря о сакральности иконного образа, Жинкин лишь номинально отличает икону от портрета. Но разве идол не сакрален? Что стоит за мифической сакрализацией на уровне общественных практик и отношений? Жинкин не затрагивает этих вопросов. Между тем именно соответствующие аспекты мифа могли бы вывести исследователя к истокам делания вещей – кровавой борьбе за его результаты, постепенно обрастающей мифологическими объяснениями. Портрет – секуляризованная икона, или десакрализованный идол – несет на себе рудименты определенных доисторических событий, но и добавляет нечто новое от себя, а именно оспаривание собственной универсальности и вечности. Подобный процесс в современном искусстве Жинкин обозвал «трагедией личности», но, по крайней мере, он признавал возможность экспрессионистского портрета (с. 48).
В качестве критики можно отметить, что его формальный анализ развертывается на эстетическом уровне восприятия художественных произведений, а не их создания. Соответственно конструктивность понимается им как форма картины-изображения, а не картины как вещи; причем даже понятие назначения, вроде бы связывающее его с вещными исканиями в искусстве, почерпнуто Жинкиным из феноменологического словаря. Во всяком случае, кто и как производит реальные вещи, Жинкин не обсуждает ни социологически, ни психоаналитически, ни метафизически.
В заключении Жинкин достаточно скромно оценивает результаты своих рефлексивных усилий, намекая, что взаимодействие выделяемых им форм описано недостаточно, и оправдываясь зачаточностью, но одновременно и претенциозностью, философской науки об искусстве.
* * *
Портрет интересовал А. Габричевского в плане выявления специфической связи изобразительных (внехудожественных), конструктивных (вещных) и экспрессивных (субъективных) форм, которые могли бы составить внутреннюю структуру художественного образа[449]. Традиционно портретность связывается с изобразительными формами человеческого, предполагающими единство образа изображаемой личности, или индивидуума. Однако Габричевский замечает, что дело не столько в том, что на картине изображена человеческая личность, сколько в том, что это изображение само является имманентным и уникальным, представляя собой специфическую портретную личность, которая должна принципиально отличаться от других портретов и изображений: «Итак, проблема живописного портрета должна быть поставлена как проблема особых изобразительных форм в пределах структуры живописного образа, а именно: связывается ли, а если да, то как связывается, изображение индивидуальной человеческой личности с построением картины и с ее выразительной обработкой?» (с. 58–59).
Поэтому критиковать портретное искусство за подражание внешней реальности еще не значит понять его в той части, где оно не подражает, а критикует эту реальность, предлагая нам свои символические альтернативы. Ведь портрет – это еще и созданная по определенным законам вещь, и вовсе не кем попало. Сам предмет анализа требует здесь диалектического подхода, т. е. признания несводимости портретного образа только к изобразительному слою, как и только к конструктивным или экспрессивным составляющим. Рассматривая портрет в сочетаниях этих форм, Габричевский показывает, по каким причинам в той или иной культуре, в том или ином историческом времени преобладание получала какая-нибудь одна форма, с некоторой редукцией, но никогда не полным исчезновением двух остальных.
В принципе, Габричевский анализирует сочетания того же набора форм, что и Жинкин, но еще сильнее выделяет роль форм экспрессивных. Он движется от понимания портрета как изображения личности к выявлению личностных характеристик самого портрета на фактурном уровне, где прежде всего и проявляется экспрессия как признак субъективности художника, его индивидуальный почерк[450]. Габричевский понимает экспрессивность несколько иначе, чем Жинкин, и уж точно его взгляд на роль экспрессии в искусстве принципиально отличается от шпетовского. Именно экспрессия способна, согласно Габричевскому, конкретизировать абстрактные конструктивные и изобразительные формы материала[451], что и позволяет нам отличать портрет от других живописных жанров. Другими словами, художник не столько воспроизводит реальные формы модели или оригинала, не столько конструирует картину как плоскость и композиционное пространство, на которые они могут быть спроецированы, сколько искажает и деформирует их согласно экспрессивной задаче отображения собственной личности[452].
Анализ сочетания изобразительных, конструктивных и экспрессивных форм позволил Габричевскому дать целый ряд тонких оценок портрета в его истории и удачных теоретических формулировок в его понимании. Но его отличие, например, от Тарабукина и Жинкина в том, что портрет не находится в центре его интереса. В фокусе внимания Габричевского – проблема живописного образа и вообще живопись как искусство. Только из этого контекста им рассматривается проблема портретной живописи. Так, он считает развитие экспрессивных фактурных форм в современном искусстве свидетельством роста автопортретного компонента, направленного, правда, почему-то не на изображение личности, а «на создание и преодоление вещи»[453]. Согласно Габричевскому, современное искусство «не создает “чистого” портрета только потому, что акцент индивидуализации лежит не в изобразительном, а в конструктивном слое картины».
Вероятно, пытаясь понять, почему экспрессия больше не связывается у современных художников с изобразительными формами, ориентированными на воплощение личности в портрете, Габричевский обращается к уже поднятой Жинкиным теме происхождения искусства из культовых практик. В обширном подстрочном примечании к своему тексту он прибегает к гипотезе, согласно которой форма магического сопричастия человека и, к примеру, ритуальной куклы лежит в основе портретного искусства. Не будучи ни образом, ни знаком, ни изображением, только эта форма способна обеспечить (невозможное) тождество оригинала и портретного изображения и, соответственно, синтез всех портретных форм[454].
Но Габричевского интересовали не столько социальные истоки различия портретного изображения, ориентированного или на магическое отождествление с оригиналом в ущерб внешнему сходству, или на частичное чувственное подобие, опосредованное учением о сущности человека, форме его души и т. д., сколько следствия этого различия. В привычной ему диалектической манере он пишет, что обе тенденции присутствуют в современном портрете, акцентируя в зависимости от эпохи и культуры то момент тождества, то момент изобразительного уподобления: гармоничное их сочетание дает египетский портрет и барокко, в Риме и искусстве Возрождения доминирует чувственное подобие. Некоторая двусмысленность возникает, когда характерное для восточной, византийской и древнерусской культур преобладание конструктивных форм Габричевский связывает с «созданием живой вещи». Ведь именно этим путем, помимо упоминаемого им «современного поэтического сознания» (Гоголь, Э. По), пошел русский левый авангард в формах вещизма и конструктивизма. Получается, что тенденция, только и способная придавать основным формам портрета имманентные личностные качества, может привести к отказу от самого портрета. В то время как вторая тенденция в условиях секуляризации приводит к пониманию портрета «только как знака, как подобия, как напоминания внехудожественных содержаний»[455].
Габричевский попытался синтезировать упомянутые акценты в генезисе портрета, ограничиваясь в объяснении его вещности как произведения чьего-то труда ссылкой на «таинственную связь, которая существует между воспринимаемой художником внешней формой и движением его руки, воспроизводящей эту форму на плоскости» (с. 74).
Другими словами, вместо ответа на вопрос о причинах заката портрета в современности Габричевский «объяснял» современное авангардное искусство преобладанием конструктивных форм, тогда как для портрета, по его словам, все конструктивные формы антропоморфизируются, практически поглощаясь отношением экспрессии и изображения.
Но идеей антропоморфизации конструктивных форм в портрете как картине только маскируется нерешенная проблема ее вещности, т. е. определенности художественных образов доисторическим опытом труда как такого действия человеческих тел, которое, собственно, и производит образы. Габричевский ограничился утверждением тождества изображения и самого портрета как картины, которое обеспечено «встречей глаз» художника и модели, единством их индивидуальностей, подобным единству актера и его роли[456].
Чувствуя какую-то недосказанность, Габричевский прибегает в заключении к версии онтологического аргумента: «Однако существует несколько (правда, немного) портретов хотя бы у Веласкеза, Тициана и Рембрандта, которые являются исключительными созданиями особого портретного искусства и величайшими творениями человечества. Факт их существования и раскрывает нам ту своеобразную идею картины-портрета, которая здесь имелась в виду»[457].
* * *
Ожидаемой интриги в статье о портрете нашумевшего в начале 1920-х автора конструктивистского манифеста «От мольберта к машине» вы не встретите. Подход Н. Тарабукина выглядит даже более консервативно, чем у его коллег-академиков. Но такие вроде бы традиционные характеристики портретного искусства, как «живописность», в контексте сравнения техник различных художников и на фоне масштабного представления истории живописи позволяют понять Тарабукина гораздо легче, чем его теоретизирующих коллег. Именно Тарабукин поставил точный вопрос о социальных условиях становления портрета в истории. Он связывает появление портрета с индивидуалистическими устремлениями или тенденциями, порождаемыми различными социокультурными факторами в определенные исторические эпохи[458]. Хотя в отношении идеи имманентности образов портретной формы Тарабукин полностью солидарен со своими коллегами[459], в вопросе о ее происхождении он ставит несколько иные акценты, уделяя больше внимания именно социальным условиям ее возникновения и трансформации. Более прямолинейно, а именно гуманитарным мировоззрением и мирочувствием, объясняет он и отличия портретных форм различных исторических эпох. У Тарабукина получалось так, что чем более эпоха гуманистична, тем более она склонна создавать портреты. Почва индивидуализма и, соответственно, производства портретных образов может быть замешена на мистике (как в египетском портрете) или связана с основами гражданственности (как в Риме), но в этих случаях произведение отличается иллюзионизмом и, по сути, еще не может считаться портретом. Появление последнего исследователь связывает с преодолением наивно-реалистического мировоззрения, с романтической формой «Я» и изменившимся отношением к другому человеку[460].
Не будучи профессиональным философом, Н. Тарабукин гораздо смелее Жинкина[461] связывал развитие портретного искусства с общими этапами истории метафизики и расхожими философскими сюжетами. Более того, его аутентичные формы он связывает именно с появлением «философского отношения» к миру как органического мировоззрения, понимающего мир «как безначальный и бесконечный поток жизненной энергии, находящейся в состоянии вечного становления» (с. 173). При этом он основывает портретное мышление на специфическом (биографическом) понимании времени, представляющем собой «непрерывный поток становления – а не сумму отдельных мгновений».
Но в большей степени Тарабукина интересовали стилистические признаки портретной живописи: «Своеобразие портрета как формы искусства – в особых стилистических свойствах интерпретации изобразительными средствами человеческой личности» (с. 170). При этом историческая индивидуальность выступает для портрета только материалом, хотя и привилегированным. Именно особая его трактовка в качестве «живого и индивидуального образа» делает портрет портретом и отличает его от слепка или посмертной маски. Проведенные Тарабукиным концептуальные различия: иллюзионизм – натурализм – живописность; слепок – иллюзионистский прием – живописный стиль; маска – лик – лицо; extérieur – intérieur; портрет-характеристика – портрет-биография, позволили ему провести убедительные сопоставления техник и стилей великих портретистов и отдельных эпох в живописи[462].
Согласно Тарабукину, портрет как частная стилистическая форма более общей концепции живописного стиля появляется в европейской живописи лишь к XVI в. Пика своего развития, согласно Тарабукину, портрет достигает в эпоху барокко, преодолевая описательный объективизм в изображении личности за счет особого драматизма и даже трагизма, придаваемого портретным образам такими мастерами, как Веласкес и Рембрандт. Но уже в XVIII в., за редкими исключениями, портретное искусство идет на спад, в живописи начинает преобладать декоративный элемент. В XIX в. портрет и вовсе превращается в жанр, с выходом на историческую сцену буржуа: «Художник пишет не личность в ее духовной сущности, а бытовой персонаж, облик человека, как он сложился в той или иной социальной обстановке» (с. 188). Может показаться неожиданным, что именно Тарабукин, в отличие от других авторов «Искусства портрета», отвергает претензии на освоение портретного стиля в импрессионизме, и даже у Сезанна. Но это, на наш взгляд, скорее, негативное следствие его апологетической установки в отношении авангардного искусства, нежели консервативная привязанность к классической портретной живописи. В целом его анализ исторического развития портрета отличают лаконизм, концептуальность и убедительность[463].
Также может сложиться неверное впечатление, что Тарабукин менее других авторов сборника отдавал предпочтение формальному подходу к искусству, по крайней мере, на уровне используемого им глоссария. Но в конце его статьи дает о себе знать хорошее знакомство с формализмом, в том числе русским, когда он пишет о специальных художественных приемах, позволяющих путем сознательного искажения имманентных форм изображаемого, противопоставления различных физиогномических черт изображения и, например, разноречивой трактовки парных частей лица достигать остраняющих эффектов в пределах портретного художественного образа. Тарабукин, по сути, пишет здесь о собственной мимике портретного образа. Именно за счет перечисленных им условных технических приемов, а не благодаря репрезентации физиогномических черт модели, художники достигали эффекта живописности и портретной убедительности (с. 191–193).
Необъяснимым противоречием сказанному выглядит его несколько идеалистический пассаж об автопортретности портрета, сделанный несколько ранее: «Если нам возразят, что любое произведение и не портретного стиля отражает на себе личность творца, то это отражение есть след личности художника, проявляющийся главным образом в технических приемах, понимая под техникой самую широкую концепцию. В то время как автопортретность представляет собою особое мироощущение, особое восприятие жизненных явлений. При автопортретировании явления мы имеем в наличии включение этого явления в круг суб’ективного мира автора. Явление становится лишь об’ективированной частью единого реального мира, который представляет собою сам художник. Не живописец оставляет след на вещи, а вещь как явление приобретает бытие только при осознании ее художником» (с. 176).
Но одновременно Тарабукин указывал и на медиатехнические условия появления стиля портрета, без которых никакое гуманитарное мироощущение не могло бы визуализироваться: «Действительно, нужна была станковая форма, с ее возможностями интимной и индивидуальной трактовки натуры, нужна была техника масла, обладающая эластичностью, необходимой для передачи самых тонких ощущений цвета и светотени, чтобы создать портретную форму, которая бы в живописном образе могла истолковать жизнь не как сумму отдельных мгновений, а как непрерывный поток становления» (с. 174).
Согласно позиции авторов «Искусства портрета», художники не просто что-то изображают, а пытаются воссоздать или смоделировать ситуацию зримости, воспринимаемости изображаемого ими предмета в свою историческую эпоху. То есть сделать нечто, что в конкретных зрителях даже не нуждается, но получает возможность быть воспринятым, очерчивая виртуальное пространство потенциального восприятия, т. е. в известном смысле создавая условия самого зрения, даже без того чтобы они обязательно были исторически реализованы. Таким образом, восприятие денатурализуется и деантропологизируется, превращаясь в чистую зримость. Эта позиция принципиально совместима с идеями К. Фидлера и вообще формальной школы, неназванным и непризнанным в свое время ответвлением которой можно считать представителей философского отделения ГАХН и формально-философскую школу Густава Шпета в целом[464]. Подобного рода восприятие подразумевал и В. Беньямин, когда писал, что произведения искусства предназначены не для зрителей и читателей – натурального человека или образа и подобия Бога, – а, скорее, для появления самой возможности чистого, «божественного» восприятия[465]. Он же открыл в своих медиатеоретических произведениях способы осуществления подобной чистой зримости в пролетарской городской массе, одновременно творящей и потребляющей.
Как мы могли видеть, ни чистая изобразительность, ни синтез изобразительных, конструктивных и экспрессивных форм, ни диалектика отрешенности произведения искусства и его встраивания в мир через самовыражение личности художника полностью не удовлетворяли гахновских теоретиков в понимании природы портрета. Поэтому, пусть и фрагментарно, на полях своих исследований, они обращались к доисторическим видам социального опыта, пытаясь проникнуть в тайну дообразной, внехудожественной изобразительности, характерной, например, для культовых артефактов, не сводимых ни к утилитарному вещному использованию, ни к чисто эстетическому восприятию.
Археология элементов этого опыта в истории портрета была мотивирована поиском релевантного современности способа самовыражения человека, более не удовлетворявшегося ни иллюзионистскими формами репрезентации, ни культовым поклонением образу, ни чисто контемплятивным или потребительским отношением к эстетически прекрасному. Обобщенно вопрос ставился следующим образом: как добиться сходства с оригиналом, а по сути, как сохранять связь искусства с социально-политической реальностью, не впадая при этом ни в иллюзию, ни в миф, ни в идеологию?
В этом плане поиски философов ГАХН был принципиально совместимы с интуициями производственников ЛЕФа: первым достаточно было истолковать само искусство как способ и даже привилегированный вид общественного труда, а последним – признать, что производимые искусством образы и артефакты могут быть только отчасти соотносимы с социальной действительностью, по крайней мере, не столь непосредственно, как утилитарные вещи. Но в силу ряда причин они не сделали и не могли сделать соответствующих встречных шагов в хотя и благоприятное, но слишком короткое для развития новой культуры время.
Проблему портрета невозможно было решить без проблематизации понятия вещи, которая к конструкции портретного изображения очевидно не сводилась. Академики пытались решать ее на формально-онтологических, феноменологических и герменевтических путях с минимальным подключением социологического анализа и добились пусть и отрицательных, но, безусловно, ценных результатов, внеся существенный вклад в интенсивную эстетическую полемику 1920-х годов.
Экскурс 5. Самозначимость и инозначимость производственного искусства в заочной эстетической полемике 1920-х годов: Павел Попов и Ричард Гаман
1. При переходе от импрессионизма к экспрессионизму, беспредметному и затем производственному искусству изменяется само понимание жизненного пространства, вырвавшегося из узких рамок феодального хозяйства и ремесленного цеха к городским просторам и фабрично-заводским масштабам. Новые субъекты истории ставят акцент в искусстве на моменте изготовления, труда, на роли человека в произведении, на сделанности художественной вещи. На первый план выступают не ее внешние качества и формы, а значение артефактов для повседневной жизни человека. Аналогично художественной революции, в философии на смену махизму, неокантианству и другим видам философского психологизма приходит феноменология. Основные феноменологические идеи – понятия трансцендентальной редукции, интенциональности, проблематика внутреннего сознания времени, интерсубъективности и жизненного мира – находят значимые соответствия в художественных приемах и идеях авангардистов 10–20-х годов XX в. И хотя для теоретиков искусства, философов и художников, как правило, характерно неузнавание собственных принципиальных позиций в чужом опыте и дискурсе, сегодня мы можем говорить об очевидных параллелях и даже о некотором изоморфизме на уровне выражения соответствующих идей.
Показателен в этом контексте опыт обсуждения проблематики современного искусства учеными и художниками ГАХН в середине 1920-х годов. Благодаря очному знакомству с актуальными художественными практиками тех лет и наиболее прогрессивными тенденциями немецкого искусствознания, ряд теоретиков академии сами смогли приблизиться к осознанию упомянутой связи. Об одном из таких опытов и пойдет речь ниже.
2. Уже более десяти лет назад авторитетный исследователь авангарда С.О. Хан-Магомедов в опубликованной в журнале «Вопросы искусствознания» статье, посвященной Государственной академии художественных наук[466], справедливо указывал на дистанцию, существовавшую в 1920-х годах между искусствоведами и философами ГАХН, с одной стороны, и представителями современного им авангардного искусства, прежде всего экспрессионизма, кубофутуризма и производственничества, – с другой[467]. Это положение дел возможно квалифицировать как разрыв, причины которого не сводятся лишь к известной «нечувствительности» теоретиков искусства к художественной практике современных им художников. Давно известно, что фундаментальная теория всегда немного запаздывает, отстает от актуальных художественных практик. Но сегодня, благодаря открытию новых архивных материалов и снижению уровня идеологизации историко-культурных исследований, можно оспорить некоторые из предложенных Хан-Магомедовым объяснений причин этого разрыва. Исследователь представлял ситуацию как взаимовыгодное невмешательство авангардистов и академиков в дела друг друга, которое позволило одним свободно, без оглядки на академическую науку осмыслять собственное творчество, а другим за счет нейтралитета в ожесточенных спорах об искусстве в 1920-е годы избегать дискредитации своих теоретических позиций, когда проект авангарда закончился крахом. Образование ГАХН ХанМагомедов связывает с необходимостью создания своего рода «экологической ниши», или «футляра», в которых чувствительные искусствоведы старой школы могли комфортно чувствовать себя в суровые постреволюционные времена.
Сводить замысел создания такой институции, как ГАХН, к обстоятельствам выживания и психологического комфорта ее членов по меньшей мере странно. Невнятной выглядит у Хан-Магомедова и позиция самой власти в лице наркома А.В. Луначарского, который, по его словам, просто не любил футуристов, предпочитая классиков и дореволюционную профессуру. Знаменитый нарком просвещения действительно видел в ГАХН силу, способную противостоять ультралевым художественным группировкам, таким как ЛЕФ[468], однако при этом он активно поддерживал и защищал перед представителями новой власти Маяковского и других футуристов. Не учитывает Хан-Магомедов и того факта, что круг так называемых кубофутуристов в ЛЕФе пережил в постреволюционные годы известную эволюцию от зауми и беспредметности к вещизму, производственному искусству и литературе факта. А Василий Кандинский – фактический инициатор ГАХН, – напротив, остался, скорее, на дореволюционной платформе экспрессионизма и беспредметничества[469]. Хан-Магомедов объясняет эту нестыковку провозглашенной Кандинским «научностью» его художественной программы. Однако требует уточнения, что именно патриарх русского авангарда понимал под научностью и в каком смысле подобная «научная» установка могла нравиться первым советским чиновникам от культуры.
В том же номере «Вопросов искусствознания» за 1997 г. опубликована статья Н. Подземской о Кандинском[470], в которой автор справедливо отмечает, что великий художник пытался воспользоваться уникальной культурно-политической ситуацией, сложившейся в первые послереволюционные годы, для реализации своих, по сути, анахроничных идей «всемирного искусства», «великой утопии» и т. д.[471] Это утверждение приложимо и к его отношению к науке: он пытался, скорее, воспользоваться риторикой квазинаучного дискурса для продвижения своего действительно революционного художественного проекта, нежели превратить собственное искусство в род научного знания[472]. Да и в более поздний период, работая в ИНХУКе и ГАХН, Кандинский неизменно подчеркивал, что отношение искусства к науке не предполагает слепого перенесения ее методов в искусство, а, скорее, означает поиск общей методологии, основанной на единстве структуры восприятия предметного мира. В этом смысле он находил полезным обращение художников к кристаллографии и т. п.
Следует отметить, что те же «ЛЕФы», например, в лице своего ведущего теоретика Б. Арватова, апеллировали к науке, научной организации искусства в не меньшей степени, чем Кандинский, предполагая привлечение научных методов к художественной организации жизни[473]. Почему же именно Кандинскому, а не инхуковцам и лефовцам удалось убедить комиссара народного просвещения организовать целую академию, изучающую искусство с самых разнообразных сторон в горизонте некоего синтетического научного его понимания? Ответ очевиден: в силу сходности понимания ими роли науки в контексте культурной политики страны, а именно в силу ограничения роли искусства только функцией его воздействия на психику масс, которые должны были пассивно воспринимать политическое содержание произведения, отвечая на него нужной эмоцией. Идея научности сводилась к предсказуемым и однозначным воздействиям на психику потребителя и к открытию их «законов». Понимание науки как инструмента, редуцирующего сложность мира и способы его восприятия до однозначного воздействия его элементов на психику людей, разделялось как Кандинским, так и Луначарским, а также Выготским и Троцким, при всем несходстве их личностей и теоретических позиций. Именно эта трактовка роли науки нашла отражение в деятельности физико-психологического отделения ГАХН. Так, в докладе 1921 г. комиссии Наркомпроса по созданию ГАХН «План работ секции изобразительных искусств» Кандинский прямо заявлял: «Произведения искусства имеют целью воздействие на человека, вследствие чего все возможные к его изучению подходы должны руководствоваться общей целью»[474]. Эволюцию взглядов Кандинского на искусство в 1910–1920-е годы в этом смысле нужно рассматривать в перспективе все большей объективации им содержания произведений и соответствующей механизации художественного процесса, устранения из него человека с его индивидуально-миметическим отношением к действительности[475].
Хотя ссылки властей на науку, «объективное» исследование искусства, подчеркивание его педагогической функции носили несколько иной смысл, чем у ученых ГАХН и того же Кандинского, они совпадали в главном[476]. Иными словами, искусство и находившееся в те годы в процессе активного становления научное искусствознание не оставались в стороне от политики, хотя и не шли на поводу у каких бы то ни было групповых политических интересов. Как раз ГАХН стал таким местом, где в 1920-е годы наиболее часто встречались актуальное искусство, философия, политика и наука. Стремительно развивавшееся в те годы авангардное искусство бросало вызов, с одной стороны, уже объявившей о консервации своих институтов советской власти, а с другой – искусствоведческой науке и философии, зачастую существенно отстававших от общего культурного развития.
ГАХН не составляла здесь исключения: непонимание большинством ее представителей актуальных для эпохи художественных тенденций говорит отнюдь не в пользу этих первых. Чрезвычайно интересно сравнить саморефлексию авангардного искусства, ведущие теоретики которого также работали в ГАХН, и ее понимание академиками, а не сводить все к партийным кличкам, как это получилось у Хан-Магомедова[477].
3. Эпизод, который мы хотели бы проанализировать в этом контексте, относится к середине 1920-х годов, когда был укомплектован основной штат сотрудников ГАХН и оформились ее основные цели и задачи. Он связан с именем Павла Сергеевича Попова (1892–1964), ученика Г.И. Челпанова и коллеги Г.Г. Шпета. Как ученый Попов больше занимался психологией творчества и проблематикой бессознательного, а в ГАХН возглавлял терминологический кабинет и сам написал для «Словаря художественных терминов» ряд содержательных статей по психологии искусства. В прениях по докладам психологов ГАХН, читанным на заседаниях философского отделения, Попов всегда занимал компромиссную позицию, более близкую методологически к психологам С. Скрябину или В. Экземплярскому, чем к своим коллегам-философам. Но еще более важна его роль медиатора в проблемном диалоге теоретиков искусства ГАХН и русских авангардных художников[478].
Доклад Попова[479] на заседании Комиссии по истории эстетических учений при философском отделении ГАХН 12 февраля 1925 г. о работе Рихарда Гамана «Искусство и культура современности»[480], расширенная рукопись которого сохранилась в его личном архиве[481], вызывает массу вопросов и предположений. Как минимум, она представляет в новом свете художественные интересы и вкусы сотрудников академии, проясняет их отношение к современному и собственно производственному искусству, немецкому искусствознанию начала XX в. и актуальным социально-политическим процессам своего времени.
Для начала следует задаться вопросом: почему из множества опубликованных к середине 1920-х годов работ Гамана Попов обратился именно к этой статье, носившей манифестационный и даже скандальный характер? Ведь Гаман был к тому времени уже широко известен как автор книг о немецком искусстве, Ренессансе, импрессионизме и Рембрандте, а его «Эстетика» вышла уже вторым изданием [Hamann, 1911; Гаман, 1913][482]. Вызывает вопросы и замечание Попова уже во введении к тексту, в котором он намеревается «прорефлексировать самую брошюру» и оценить убедительность основных выводов Гамана, «придерживаясь подлинника», но тут же признается, что оригинала статьи у него «под руками в Москве нет».
Разгадку можно найти в карандашной пометке рукой Попова на полях, адресованной некоей переводчице из Петербурга:
«За сим следовало изложение, написанное моим скверным почерком, посему я его не препровождаю, тем более, что Вы – переводчица, – зачем Вам тогда простое изложение? Кстати, когда выйдет перевод? А текст у Вас был не вполне разборчив – приходилось гадать, и были иногда написаны одни слова вместо других, – но я по Фрейду не гадал»[483].
В том же «Введении» Попов писал, что в Ленинграде в это же время готовится перевод статьи Гамана на русский язык. Учитывая, что рукопись Попова в основном представляет собой сокращенный вольный перевод, а никак не «изложение» статьи, можно предположить, что Попов воспользовался в своем докладе присланным ему из Ленинграда чужим переводом. В архиве Попова есть перевод-пересказ той же статьи Гамана, выполненный ленинградской переводчицей и философом О. Котельниковой. Учитывая, что в 1922 г. она совместно с В. Жирмунским издала сокращенный перевод книги О. Вальцеля «Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии»[484], можно с большой долей уверенности утверждать, что именно Котельникова была таинственным адресатом Попова и автором использованного им перевода текста Гамана, и остается лишь гадать, почему Попов нигде – ни в своем гахновском докладе, ни в архивной рукописи – не указывает ее имени. Весьма примечательно, что личный вклад Попова в анализ текста Гамана составляет одну страничку предисловия и несколько страничек «критического анализа» в его рукописи.
4. Между тем центральная задача Попова состояла в том, чтобы привлечь авторитет видного немецкого искусствоведа к аналитическому рассмотрению российской художественной ситуации, прежде всего к оценке производственного искусства, к которому в те годы обращалось множество теоретиков и художников, а его развитие и осмысление рассматривалось руководством ГАХН как одно из приоритетных направлений деятельности[485].
В своем докладе Попов, в отличие от коллег по философскому отделению[486], высоко оценил попытку Гамана рассмотреть современное искусство в более широком историческом, социальном и культурном контексте и концептуально обосновать его связь с развитием индустрии, машинизацией, урбанизацией и освободительными социально-политическими движениями. Вместе с тем Попов указал и на ряд опасностей подобного подхода, упрекнув Гамана в социологическом редукционизме а-ля О. Шпенглер, который пытался свести все духовные процессы своего времени к единой логике, резко противопоставляя одну культурную эпоху другой и грозя апокалипсисом.
Попов сочувственно перечисляет позиции, отличающие, по мнению Гамана, экспрессионизм от импрессионизма, а производственное искусство от классических форм искусства. Кроме того, он упоминает изменившееся отношение искусства к вещи, природе, целесообразности и утилитарности. Но, что самое интересное, Попов сопоставляет подход Гамана с действительно близкими его идеям интуициями Б. Арватова, Н. Тарабукина и Л. Троцкого. При общем недоверии Попова к отечественному искусствоведческому контексту он анализирует и критикует Гамана, используя цитаты из работ этих авторов. В частности, в отношении ключевого понятия эстетики Гамана «изоляция» (Isolierung) он пишет, что попытка сохранить эту характеристику эстетического предмета в производственничестве у Гамана диалектически не раскрыта. Он даже восклицает в лефовском духе: «Это просто остаток неизжитого буржуазного идеализма, не освобождающего стихию вещи, а порабощающего сознание выдуманными, фиктивными идеями».
Также сомнительным считает Попов приписывание экспрессионизму в целом связи с производством на основе якобы близкого с прозискусством отношения к вещи и природе. Можно предположить, что он опирался при этом на те размежевания в стане экспрессионистов и конструктивистов, которые произошли еще в 1921 г., когда Кандинский был выведен из состава ИНХУКа, а сам ИНХУК под руководством А. Родченко, В. Степановой и О. Брика стал подразделением ГАХН. Произошло это как раз в связи с разногласиями среди ведущих авангардистов после революции 1917 г. по поводу понимания природы и роли искусства в обществе, места художника в общественном производстве и его взаимодействия с вещами.
Попов признает любопытной попытку Гамана вслед за О. Вальцелем связать современные этим направлениям в искусстве философские доктрины и мировоззренческие программы. В частности, он указывает как на недостаток на отсутствие у Гамана концептуального обоснования отмечаемой им связи экспрессионизма с феноменологией Эд. Гуссерля, оказавшей через пражсковенских поэтов и писателей (М. Брода и Ф. Верфеля) влияние на экспрессионистов.
В прениях по докладу Попова[487] А. Габричевский справедливо отметил гетерогенность самого экспрессионизма и близость его идейных оснований, скорее, бергсонизму, чем гуссерлианству. Однако в целом при обсуждении этого доклада в ГАХН некоторые коллеги Попова проявили определенную косность и догматизм, основанные на отсутствии у них чувства современности и элементарного знакомства с предметом. Сам Попов занял в полемике достаточно осторожную позицию. Отвечая на критику, он отметил, что всего лишь хотел продумать интуицию Гамана о продуктивности и неслучайности перехода искусства в производство, обусловленного социальными и экономическими трансформациями, которые повлекли за собой изменение статуса самого искусства, причем не только и не столько в Советской России, сколько в послевоенной Европе.
В своей критике Гамана Попов указал на проблему эстетического предмета, которая активно обсуждалась в немецком искусствознании начала XX в. У Гамана она представлена как вопрос самозначимости произведения искусства как основной характеристики эстетического и изоляции его от действительности. Самозначимость противопоставлялась инозначимости в смысле утилитарного использования артефакта в быту. Под самозначением эстетического предмета Гаман понимал значение образного восприятия, цель которого лежит в нем самом, не объективированное инозначениями и понятийно не выраженное (особенно показателен в этом отношении пример музыкального произведения). В связи с этим Гаман писал о понятийной невыразимости эстетического образа и, как следствие, о невозможности эстетики как науки. Точнее, он ограничивал ее теорией познания, феноменологически описывающей самозначимые содержания восприятия в их отношении к именам и понятиям.
5. Близкой Гаману позиции придерживался Г.Г. Шпет. В докладе «Проблемы современной эстетики», прочитанном в ГАХН в 1922 г., он противопоставил психологизму и утилитарности в понимании эстетического предмета формулу «отрешенного бытия». Одновременно с этим, ссылаясь на того же Гамана, Шпет замечал, что понятие эстетического невозможно вывести из понятия отрешенного бытия, как и из понятия искусства, не имея уже заранее готовой теории эстетического[488]. Шпет, как и Гаман, указывал на отрешенность эстетического предмета и исходил в анализе эстетического непосредственно из самих произведений искусства. Правда, он делал больший акцент на специфической предметности эстетического в ее корреляции особому виду сознания – воображающему, фантазийному, – оторванному, однако, от сферы чувств и понимаемому как подражание идее. Подражание здесь означало не копирование действительности, а, скорее, творение новой действительности, согласно некоему идеалу или смыслу, раскрывающемуся в самом произведении искусства как его чувственном выражении[489]. Произведения искусства Шпет понимал как знаки, обладающие пусть и не самодовлеющим, но специфическим бытием. Это бытие можно назвать культурным или социальным, понимаемым как специфический вид отношений, в которые вступают люди в исторической практике[490]. Для шпетовской версии семиотики важна именно способность знака выступать носителем значения и выражать смысл, который в другой своей работе («Язык и смысл») Шпет связывал с особым бытием отношений. Помимо осмысленности, искусство, по Шпету, экспрессивно, выражая часто необоснованные хотения, иррациональные желания и несбыточные надежды человека, который его создает. Другими словами, в искусстве раскрывается не только социальное, но и сугубо личное, не только область средств-вещей, но и целей-лиц. В произведении искусства обе эти стороны, наряду с изобразительной и номинативной функцией, совмещены в цельной структуре, наиболее полно проявляющейся в поэзии. Однако изучать структуру эстетического предмета Шпет предлагал все же исходя из более широкого контекста культурного бытия человека, только и позволяющего понять его (предмета) имманентный смысл[491].
Любопытно связи с этим, что еще в 1-м выпуске своих «Эстетических фрагментов», подвергая критике идеи Морриса и Рескина за кустарничество, Шпет не отрицал самой идеи возвращения искусства из музеев и частных коллекций в жизненный мир человека, а значит, и возможности частичного слияния общественного производства и искусства. Но, в отличие от Гамана и Попова, Шпет едва ли видел возможности для смыкания соответствующих контекстов и обретения современным искусством смысла, достойного этой человеческой практики, в современных социальных условиях. В этом плане он был более сдержан и даже скептичен.
Попов верно отмечал в своем докладе, что Гаман, несмотря на свою прозорливость в отслеживании художественных тенденций, не делает различия между новыми формами современного искусства: конструктивизмом, производственничеством и уже клонящимся к закату экспрессионизмом. Центральным является здесь вопрос о вещи. Различия обусловлены не теоретическими разногласиями, а социально-политическими обстоятельствами и связаны с изменением отношения к вещи в условиях произошедшей в России социальной революции и дальнейших попыток изменения отношений собственности. Экспрессионизм реагировал на трансформацию соответствующих реалий и общественных отношений изменением характера художественного восприятия и в этом не особенно отличался от противопоставленного ему Гаманом импрессионизма. То же самое можно сказать и об отношении экспрессионизма к проблемам вещи, современного города, фабрики и собственно машинной техники. Так, если экспрессионизм объявил произведение искусства природной вещью (Кандинский), то производственники искали возможности довести промышленно производимые человеком вещи до уровня произведений искусства. Можно сказать в терминах Гамана, что если в экспрессионизме вещь и машина остаются инозначимыми восприятию, то конструктивисты придают им характер эстетической самозначимости, т. е. пытаются использовать целесообразную структуру вещи и машинную конструкцию в качестве художественного приема. Если экспрессионисты ограничивались в решении проблемы разделения труда и присвоения его продуктов буржуазией надеждами Ратенау-младшего[492] на рационализацию и объединение мирового хозяйства, творческое отношение к труду нового поколения предпринимателей и на сотрудничество хозяина и работника, без изменения отношений собственности, то производственники говорили об освобождении труда от рутины путем перманентной революционизации средств производства и утверждения коллективных форм творчества и коммуны. Тот факт, что надежды ни тех, ни других не исполнились, не отменяет принципиальных отличий в подходах и наличия в производственной модели искусства актуальности для понимания его современного состояния.
Известно, что русские производственники и конструктивисты рассматривали искусство как социальную практику, связывая его природу с исторически изменяющимися условиями, средствами и продуктами труда и формами собственности. Выводя работу художника из сферы труда, художественных ремесел и особого мастерства, они, в отличие от своих предшественников – английских утилитаристов, указывали на то, что вследствие изменения общего характера труда в индустриальном мире само искусство должно найти себя на фабрике, сочетаться с конструктивной инженерией для освобождения труда от разделения и избавления от рутины. По их мнению, только так искусство может преодолеть свою условность, фиктивность и возвратиться к утраченной при капитализме связи с цельным жизненным миром человека[493].
Согласно этой точке зрения, автономность и самозначимость эстетическому предмету может обеспечить только преодоление насилия и эксплуатации в обществе. Пока же существует социальное неравенство, искусство неизбежно будет оставаться условным, лишь частично восполняя своими образами недоорганизованность социальной жизни.
Однако не следует забывать, что в человеческой жизни есть по крайней мере две социально неорганизуемые сферы – любовь и смерть, которые предоставляют искусству практически неисчерпаемый ресурс для существования в режиме лирики и трагики. Ошибкой было считать это наблюдение (кстати, также принадлежащее Арватову) непоследовательностью и отказом от политических задач искусства. Напротив, именно учет этих сфер способен их фундаментально и перманентно мотивировать. А вот претензия на тотальную социальную организацию жизни зачастую приводит к уничтожению не только искусства, но и самой жизни. В этом плане производственники не отследили момента, когда социальный проект коммунизма начал работать вхолостую, давать сбои и наконец превратился во что-то себе противоположное. Соответственно идеи фактографии и утилитарности произведений искусства вначале стали беспомощными, затем двусмысленными, а под конец просто реакционными. Не случайно левый проект в искусстве заканчивает свое аутентичное историческое существование в формах абсурда и сюрреализма начала 1930-х годов (А. Платонов, ОБЕРИУ).
Вместо заключения. Автор как производитель и событие революции
1. «Хождение» художников-футуристов на фабрики, а левых писателей «на колхозы» было обусловлено и чисто имманентной потребностью в адаптации и развитии искусства в новых, массовых условиях его производства и потребления. Произведения художников-продукционистов функционировали в этом плане в качестве символов и образов новых общественных отношений, базовых элементов городского ландшафта, деревенского хозяйства и коммунального быта. Искусство выбралось из музейных запасников и гетто частных галерей в жизненный мир народных масс, практически лишенных до этого доступа к культуре. Принципиальной метаморфозе подверглись не только его медианосители (одежда, мебель и посуда вместо станковой картины, кинокамера вместо мольберта и т. д.) и средства коммуникации, но и сами субъекты и способы восприятия. Произведения производственного искусства задолго до появления мобильного Интернета открыли возможности активной массовой рецепции и обратной связи.
Основной чувственный режим авангардного искусства был задан не столько подражанием существующей действительности, сколько обращением к особому виду памяти – памяти коллективной, хранящей в себе ряд предысторических событий, имевших место до разделения человечества на рабов и господ, бедных и богатых, образованных и неграмотных, талантливых и бездарей и т. д. Такой запрос предполагал не только мобилизацию коллективной памяти, но и реанимацию утраченных изолированным и отчужденным индивидом способностей к обретению цельного опыта, творческих навыков и несводимого к потребностям желания. Память, о которой мы говорим, должна была не только восстановить для актуального опыта события, лежащие в основе современной цивилизации, позволяя впервые их пережить и выразить, но и сама быть восстановлена в форме особой способности чувствовать и понимать действительность, без того чтобы одновременно уничтожать и эксплуатировать с ее помощью себе подобных.
Авангардное искусство в своих зрелых формах прозискусства и литературы факта действовало как прием, позволяющий сочетать родовую и индивидуальную память без обращения к культовым практикам, инсценирующим постфактум травматические события предыстории человечества в формах мифа и ритуала и, соответственно, сакрализующим и ритуализующим коллективные насильственные действия. Авангард в этом смысле был обращен к домифологическому слою социального опыта, т. е. такому, который не нуждается в ритуальных жертвах и исключенных для контроля насилия в обществе.
2. Выйти на уровнь самозначимости знаков, чтобы вернуть в мир бытовых вещей и язык повседневного общения утраченную в современности стихию смыслопорождения, было одной из неявных, но основополагающих задач левого авангарда в его цельности и сингулярности. Но для этого недостаточно было экспериментирования с формой, необходимо было открыть в самих вещах определяющие их способы социальных отношений и попытаться изменить их через создание произведений нового типа – утилитарных художественных вещей и фактографических литературных текстов, фотографий и фильмов.
По сравнению с теориями и практиками политиков от революции, революционеры от искусства копали здесь гораздо глубже – до уровней праисторического и даже домифологического опыта, пытаясь преодолеть характерную для мифологического отношения к искусству культовость, выраженную в современности в эстетизации политических отношений. Эта характерная для тоталитаризма стратегия сталкивалась в авангарде с принципиальной альтернативой, состоящей в отказе от оправдания художественными средствами всевозможных гонительских практик и поиске альтернативных – критических, конструктивных, производственных – средств художественного выражения. Тем самым они отклоняли в своем искусстве и мнимую необходимость в использовании труда других людей, т. е. эксплуатацию и насилие человека над человеком. Причем это делалось без обращения к идеологии и пропаганде «свободного труда». Речь шла о переосмыслении самого труда, его вещном анализе и постепенной художественной трансформации.
Работа художника в подобном режиме включалась в трудовой процесс не на правах руководящей или наемной прикладной деятельности, а на правах специализированного художественного труда, который в соотнесении и обмене с трудом других рабочих создавал конечный продукт – полезную, удобную и прекрасную вещь. Сама вещь обеспечивала здесь рефлексивную связь между автором, изготовителем и потребителем, не выступая при этом ни естественной вещью, ни какой-то априорной сущностью – она именно про-изводилась из гетерогенных источников, представляя собой в результате продукт цельного творческого труда коллектива рабочих[494].
Однако надо понимать, что фактически связь художественного труда с рабочим все равно носит опосредованный характер, и описанный идеал задавал лишь вектор развития для искусства и общественного производства, не гарантируя их слияния[495].
Ограничения здесь задавали прежде всего те зоны производства, которые требуют неквалифицированного труда, заменяемого машинами лишь в перспективе технического прогресса. Но это как бы труд до-вещный, труд природный, требующий замещения на механический именно в силу его нетворческого, рутинного, «механического» характера.
Производственная доктрина в этом смысле бросала вызов самому труду, разыгрывая на театральных подмостках идеальные (экономичные) модели коллективного производства. Такими были в своей идее биомеханический театр Вс. Мейерхольда, проект Научной организации труда (НОТ) А. Гастева, фильмы Д. Вертова, театр-лаборатория Б. Арватова и др.[496] Мы встречаемся здесь с левой версией кафкианского Открытого театра Оклахомы[497], цель которого – выявить признаки мифологического отношения к труду в реальности и противопоставить им спектакль свободного труда на сцене.
В пролетарском авангардном театре, как и в авангардной литературе, это, в частности, достигалось остраняющими приемами показа «сделанности вещи» (Шкловский), разоблачающими иллюзию ее самодостаточности как произведения искусства, автономности, мнимой независимости от типа трудовых и общественных отношений, в рамках которых она была произведена. По сути, речь шла о рефлексии на условия собственного производства, о медиаанализе, учитывающем новые условия восприятия, в которых машине соответствовал уже не индивид, а масса, коллектив. Замена человека машиной и превращение рабочего в инженера оказывались при этом утопическим вектором развития производственнического движения в искусстве.
Раннеромантические идеи о саморефлексивности искусства и имманентной ей критике, шиллерова мечта о государстве прекрасной видимости, как и затруднения первого производственника У. Морриса, могли при известных уточнениях разрешиться только в условиях коллективной собственности на средства производства, но отнюдь не автоматически. Для этого необходимо было непрерывно совершенствовать сами средства художественного производства и технически, и, так сказать, духовно с целью преодоления отчуждения и несобственного их использования в военных и вообще в репрессивных целях. Несмотря на утопичность этого проекта, говорить о его принципиальной нереализуемости было бы неверно. Другое дело, что его осуществление зависело не только и не столько от художников.
3. Соответствующая стратегия, помимо сопротивления автономизации художественных жанров и научных дисциплин, взаимной изоляции художественного производства, науки и критики, преследовала цель уничтожения искусственной, но достаточно жесткой границы, отделяющей в буржуазном обществе автора от читателя[498].
Фактография в литературе, не сводимая к функциям пропаганды и развлечения, диалектически совмещала в себе уровни выражения и восприятия. Выступая в форме газетной публицистики, фельетона, хроники или оперативного репортажа, литература получила возможность восстановления фигуры рассказчика в современности как носителя жизненно важных навыков и протагониста социально значимого опыта[499]. Беньямин описывал этот процесс как получение слова людьми труда – профессиональными рабочими, уже в силу своей специализации заявлявшими права на собственное творчество в условиях социалистического обмена опытом[500].
Беньяминов тезис о соучастии читателей-зрителей-потребителей в производстве такого рода художественных продуктов предлагал критерий для различения развлекательного и жизнестроительного искусства. Но для начала это различие должно было принять диалектическую форму, преодолев традиционно присущую ему эксклюзивность. Это и произошло в искусстве кино, где «критическая и гедонистическая установки» изначально не противоречили друг другу, а привыкание к соответствующему медиуму сопровождалось «рассеянным» тестированием его возможностей зрительской массой[501].
В своем знаменитом эссе Беньямин писал в этом смысле об адаптации современного человека к условиям жизни в большом городе, функцию которой в эпоху технической репродукции взяло на себя массовое искусство, и прежде всего кино. В развлечении, помимо момента отвлечения и отдыха, он отмечал этот аспект тренировки и привыкания к массовым условиям восприятия и соответствующим формам общежития, не сводимый к изживанию полученных психических травм в контексте отчужденного труда, эксплуатации и войны, но понятый как вид их духовного освоения, предполагающего преобразование средств производства в социалистическом духе. Состояние рассеяния, которое можно понять и как развлечение (Zerstreuung), становилось здесь вынужденным режимом приспособления к новому урбанизированному миру, в котором масса, оставаясь несосредоточенной, как бы погружала новые произведения киноискусства в себя, тестируя и даже экзаменуя их ценность, постепенно приходя к освоению новой медиааппаратуры как этапу собственного самосознания.
Проблема, однако, состояла в том, что возможностям киноаппаратуры отвечали не только революционные массовые действия, но и развязанная фашистами война. Беньямин рассматривал в этой связи две альтернативные стратегии развития новых массовых медиа: 1) самовыражение массы с помощью новой фото– и киноаппаратуры без изменения имущественных отношений и реализации своих прав, приводящее к насилию над техникой и людьми, т. е. к войне как самоуничтожению человечества, или 2) вовлечение массы в процесс осознания себя как нового исторического субъекта, приводящее к пролетарской революции и коммунизму.
Другими словами, хотя новые медиа и предоставляли широкие возможности для развития подлинно демократического и даже коммунистического искусства, ими еще надо было адекватно воспользоваться. Открывая массе способ взглянуть на саму себя, рефлексивно соотнестись с собой, кино (как и фото) могло ограничиваться лишь фиксацией визуальных образов наличной социальной действительности или воспроизводством известных мифологических сюжетов, что и произошло в кинопроизводстве фашистской Германии и сталинской России. Беньямин подвергал в этом плане принципиальной критике итальянских футуристов и кинематограф а-ля Лени Рифеншталь за эстетизацию нацистской политики, создание культовых символов и имитацию ауры, принципиально преодоленной в условиях технической репродукции.
В противоположность последним производственники-конструктивисты и левые кинорежиссеры 1920-х годов, максимально используя технические возможности массовых медиа, стремились в этом плане вскрыть оболочку технической репродукции образов, опосредовавших сами социальные отношения, способствуя тем самым сознательному восприятию новых видов искусства трудящимися массами и открывая возможность участия в их развитии[502].
4. Художественное преображение быта, о котором писали в 1920-е годы производственники, означало одновременно и его преодоление. Речь, разумеется, не шла о полном игнорировании вещей или о какой-либо квазирелигиозной аскезе, а, скорее, об изменении отношения к вещам, выражавшемся прежде всего в разрушении их товарной формы. Именно в перспективе пробуждения вещей от товарного сна, их расколдовывания от чар рынка можно было говорить об изменении чувственности, вкуса и сознания новых людей. Организация жизненного пространства, архитектура, бытовые устройства, мебель, посуда и одежда, которые проектировали художники ИНХУКа, ЛЕФа и ВХУТЕМАСа, должны были позволить советскому потребителю не привязываться к вещам как собственности, эмансипировать сознание от желания обладать ими, постепенно преодолевая общение, опосредованное вещами. Коллективное пользование вещами и идея их одноразового использования (Н. Тарабукин) доводили тенденцию развеществления быта и соответствующего сознания до предела.
Рассчитывать на какие-то существенные социально-антропологические трансформации было возможно только в режиме отказа от исключительно бытового, утилитарного отношения к вещам. Точнее, способ их использования в социалистической коммуне предполагал их одновременное эстетическое поглощение массовым восприятием в качестве произведений искусства. Вещь в такой целостной художественно-утилитарной форме как бы абсорбировалась массой, постепенно растворяясь в межчеловеческих отношениях в режиме своеобразной инверсии к описанной Марксом фетишизации труда при капитализме.
Применительно к произведению искусства это означало преодоление его культовой ценности, разрыв связей с мифологическим сознанием, сохраняющимся при капитализме в форме рыночных отношений. Произведение открывало свое лицо – формальное устройство и технический медиум, выводя на первый план определяющие его структуры социального бытия. Коллективная и индивидуальная память смыкались здесь не благодаря ритуальным практикам, а через равноправные коллективные трудовые и творческие процессы, стремящиеся навстречу друг другу.
Таким образом, «вещь», занявшая в производственной и конструктивистской доктринах место художественного произведения, должна пониматься не в чисто бытовом, утилитарном контексте, а как синтетическая форма – одновременно полезная и конструктивная, целесообразная, экономичная и прекрасная, т. е. эстетически привлекательная. Вещь как произведение оказывается таким образом желаемой и в то же время полезной, удовлетворящей потребность в горизонте своего использования вплоть до полного износа. И как раз момент исчерпания вещи в использовании выступал условием проявления ее красоты, альтернативной контемплятивной форме «прекрасной видимости», основанной на изоляции отдельных чувственных способностей.
5. В русле соответствующих поисков находит объяснение обращение русского конструктивизма к орнаменту как практически единственной изобразительной форме, с которой работали наши производственники – мастера текстиля (ср. главу III). Орнамент выступал для них конструктивным элементом модели, существенно определяющим форму будущей вещи, а также состав и качество ткани. Их интерес к орнаменту в этом смысле не был случайным, будучи фундаментально обусловлен их коммунистическими убеждениями. Ибо именно задействовавшая орнамент конструктивистская одежда позволяла направить миметический процесс, о котором писал Беньямин, в альтернативном мифопоэтике и мифологике направлении – от глаз (коллективного типа восприятия) через привыкание тела к одновременно функциональной и красивой одежде, к губам (языку критического марксистского учения).
Произведения искусства приобретали в этом плане новую ценность, приходящую на смену культовой и экспозиционной (Беньямин), причем как в области искусства, так и в сфере материального производства. Центральную роль при этом играла как раз замена культовых отношений на отношения политические, противостоящие здесь отношениям частной собственности на средства производства.
Не случайно орнамент оказался подобным современным массовым медиа – фотографии и кино, ведь кадры кинопленки отчасти следуют принципу орнаментальности, добавляя момент ускоренной прокрутки изображений. Но еще более важно, что орнамент релевантен самому принципу технического репродуцирования, который, кстати, русские конструктивистки-текстильщицы впервые использовали для создания своих моделей[503].
Обращение левого конструктивизма к орнаменту в этом смысле выглядело многообещающе, позволяло выявить медийный принцип производственного искусства, делающий возможным его коллективное восприятие и соучастие в производстве его продуктов. К сожалению, в условиях разделения труда, интеллектуального и чувственного, осуществление соответствующей эстетико-политической утопии наталкивалось на непреодолимые ограничения и противоречия.
6. Протагонисты русского левого авангарда не столько осознавали себя представителями внешне организованной социальной группы или класса («пролетариата»), выражающими в своем творчестве его чаяния и интересы, сколько стремились открыть упомянутую коллективность «в себе», на уровне способов восприятия и находящихся в их распоряжении средств художественного производства. Художники-авангардисты совсем не обязательно должны были представлять себя при этом «колективными субъектами», носителями «первичных социальных позывов» или агентами «коллективного бессознательного». Речь, скорее, шла об открытии в их произведениях слоя коллективной чувственности и соответствующей альтернативной структуры символического, организованной вокруг коллективно же производимых вещей и отношений, способных одновременно удовлетворять элементарные жизненные потребности и возбуждать неудовлетворимые желания. Применительно к производственной теории известный фрейдовский императив можно было бы переформулировать следующим образом: «Там где было Я, должен стать Пролетариат!»
* * *
Искусство (в отличие от преступления) позволяет субъекту без опасных для жизни последствий пережить удовлетворение от его воображаемого нарушения. Но большего от искусства в обществе, построенном на экономическом и политическом неравенстве, ждать не приходится. И это понятно: произведенный им тип субъективности вполне довольствуется фиктивным удовлетворением своих реально кровожадных влечений. Действие буржуазного искусства можно отнести в этом смысле к отправлению ритуалов меланхолии, так называемой работе скорби, возбуждающей субъекта и поддерживающей его невротический баланс. Характерная для модернистского искусства изощренная морализация смерти (подкрепляемая психоаналитической теорией и практикой) оказывается в данном случае лишь версией традиционной религиозной пропаганды, стремящейся примирить человека с существующим положением вещей в мире насилия и несправедливости. Но это все работает только в отношении людей, которые обеспечены известными элементарными благами. А как только их удовлетворение ставится под вопрос, от хваленого стремления буржуазного субъекта к собственной смерти не остается и следа. Он очень быстро превращается в члена фашизоидной массы и готов уничтожать противного ему субъекта (другие народы) отнюдь не только в своем воображении.
Цельный объект (das Ding) всегда был на деле псевдоутраченным[504]. Нельзя же всерьез относиться к сказкам, которые Зигмунд Фрейд рассказывал перепуганному войной западноевропейскому субъекту, про инцестуальную любовь к матерям и сестрам, убийство Перво-Отца и тотемистическое сообщество братьев-отцеубийц, учредивших на месте этих вытесненных событий буржуазную мораль[505].
Подобная генеалогия общества и модель организации массы не является эксклюзивной. Тот же Фрейд при всей дискредитации народной массы, в чем он следовал за Лебоном в «Массовой психологии», должен был в конце концов признать, что «коллективизация» в плане лечения неврозов может послужить действенной альтернативой самому психоанализу. Правда, связывал он эту альтернативу с понятием религиозной иллюзии и мифа, проецируя на массу свои представления о становлении индивидуальной психики. Его нигилизм в отношении возможностей формирования в обществе бескорыстных (горизонтальных) отношений солидарности и братства хорошо известен. Справедливо ставя под сомнение христианскую максиму любви к ближнему, Фрейд почему-то атаковал только понятие ближнего, объявляя его кровным врагом «Я». Между тем сомнения вызывают не столько возможность такой любви и фигура «ближнего», созданная по модели «себя любимого» (по идее Лакана), а образцовость самого этого «Я», которое в этой моральной формуле «Возлюби ближнего, как самого себя» в конечном счете и предлагается любить. Впрочем, учитывая, что под либидо Фрейд не понимал ничего благостного и спасительного, механизм такой мастурбаторной любви оборачивается саморазрушением и для субъекта.
Неудивительно, что конституирование и действие массы Фрейд связывал исключительно с любовью к вождю, отказывая массовым субъектам не только в горизонтальных эротических импульсах, но и в групповом Танатосе. Масса якобы лишена легитимирующего субъективный нарциссизм стремления к смерти. Она банальна и стремится лишь к удовлетворению первичных потребностей своих членов, делегируя вождю и свою любовь, и свою свободу. Однако в «Неудовлетворенности культурой» (1930 г.) Фрейд признавал, что «реальное изменение отношений собственности принесет больше пользы, чем любая этическая заповедь». Дальше этого он, правда, не пошел, полагая, что «социалисты затемняют это важное положение своей опять-таки идеалистической недооценкой человеческой природы, что лишает его всякой ценности»[506].
Фрейд лишь радикализовал выводы классиков русской литературы о невозможности удовлетворения противоречивых желаний индивида. Правда, здесь больше подходят не «Записки из подполья», а предшествующие «Легенде о великом инквизиторе» пронзительные рассказы Ивана Карамазова о «слезинке ребенка» и «возвращенном билете» в светлое будущее. Но «математически» доказанный Достоевским (до Фрейда и Ницше) факт «смерти Бога» не является аргументом против необходимости борьбы за элементарные права и потребности простых людей. А ведь именно такой вывод делали из произведений русского классика правоконсервативные читатели, усматривая в его социальном пессимизме оправдание бесправия и нищеты трудящегося народа. Недалеко от этого (в том числе в понимании социальной роли искусства) ушли и Фрейд, и Лакан (и Жижек). Художник творит, по их мнению, из остатков нехватки псевдоутраченной социальной цельности, потакая неудовлетворимым желаниям маленького нарциссического эго, а не из океанического избытка творческих потенций народной жизни, единственно позволяющих обратить страх собственной смерти в счастье других людей.
Интеллектуальные и культурно-художественные потенции массы, понимаемой как сознательная организация работников материального и имматериального труда, а также коллективные социально-антропологические формы и соответствующие им художественные проекты, стили и стратегии, способные стать «авангардными» в настоящем, еще ждут своих непредубежденных аналитиков и бескомпромиссных художников.
7. В очерченном проблемном горизонте мы предлагаем рассматривать Октябрьскую революцию 1917 г. не как историческое событие, которое можно с разных сторон оспаривать в этом его статусе, а как исключительную единичность, сохраняющую открытую возможность осуществления. Для такого сингулярного события важна субъективная вовлеченность говорящего или пишущего о нем, которая может реализоваться по-разному. Так, если для поколения нынешних 40–50-летних (1960–1970-х г.р.) миф о революции, активно культивируемый советской пропагандой, играл роль учредительного события в их собственной биографии, то для более молодых поколений российских исследователей (нынешних 20–30-летних) революция – это не столько исторический факт, предполагающий археологические и герменевтические изыскания, сколько модус некоего исторического обещания, лишь в этом качестве заслуживающий анализа.
Здесь уместно сослаться на З. Фрейда: «Миф… является шагом, с помощью которого отдельный индивид выходит из массовой психологии. Первым мифом был, несомненно, миф психологический, миф героический; обяснительный миф о природе возник, вероятно, много позже. Поэт, сделавший этот шаг и отделившийся, таким образом, в своей фантазии от массы, умеет, по дальнейшему замечанию Ранка, в реальной жизни все же к ней вернуться. Ведь он приходит и рассказывает этой массе подвиги созданного им героя. В сущности, этот герой не кто иной, как он сам. Тем самым он снижается до уровня реальности, а своих слушателей возвышает до уровня фантазии. Но слушатели понимают поэта: на уровне того же самого тоскующе-завистливого отношения к праотцу они могут идентифицировать себя с героем. Лживость мифа завершается обожествлением героя»[507]. В приложении к нашей ситуации под героями можно понимать революционных художников и поэтов 1910–1920-х годов, рассказывавших о революции и воспевавших ее в первые пореволюционные годы, а под мифом – догматический «научком», легитимировавший революцию как учредительное событие нового советского государства. Но на месте советского мифа сегодня возник новый, вступивший с первым в борьбу за выживание, – это рационализованная либеральная драма, не менее агрессивная и догматичная, чем миф. Трудности в определении революции заключаются теперь в том, что речь идет не о бытии существующей вещи или логическом понятии, но о событии как предмете, который возникает только в момент мысли о нем, провоцируя измерение реального. Само событие при этом занимает пространство «между», не предполагая возможности удержания и продления в историческом времени, которое не есть время события.
Такое понимание события, прежде всего отсылающее к «Логике смысла» Жиля Делеза[508], позволяет говорить о революции как о сингулярности, не связанной каузально ни с предшествующими, ни с последующими историческими происшествиями, и рассматривать его в собственном уникальном времени. Отнестись к революции как к событию, не связанному со всеми последующими годами строительства социализма, начиная с самых первых, – значит помыслить освобождение от самого происшествия, осуществленного неадекватно и приведшего к неизбежному поражению. Осуществление революции в историческом процессе оказывается открытой возможностью, тогда как событие революции остается незахваченным этим осуществлением и предполагает контросуществление в деятельности художника, актера, поэта авангардного революционного искусства.
О самом событии революции спорить невозможно ввиду его неуловимого, ускользающего, неосуществимого в исторической реальности характера. Зато можно перетолковать в логике событийной причинности взаимодействие ряда явлений, вызвавших его к жизни. Так, совпадение и совозможность пресловутых «недовольства низов» и «неспособности верхов» совершенно необязательно (из-за их неоднородности) понимать в логике противоречия и причинной связи. Рассмотрение соответствующих явлений, как случайно совмещенных во времени и пространстве, позволяет говорить о некаузальности события революции, возможность которого они только отчасти задавали, точнее, были совозможны ему. То же самое можно сказать и о несовпадении производительных сил и производственных отношений, являющихся, скорее, обещанием чего-то принципиально иного, несводимого к воспроизводству соответствующего противоречия, которое поддерживалось к тому же теорией классовой борьбы.
В этом смысле событие революции может осуществиться исторически только по ту сторону явлений, все еще связывающих социальное с принципами организации и ценностями природного мира. Революция в этом смысле – разрыв, обеспечивающий переход к родовой идентичности (Gattungswesen Маркса) как принципиально новому типу специфически человеческой коллективности, уже не носящей характера животности, т. е. не связанной исключительно с обеспечением выживания на основе естественного отбора, и т. д.
Напрашивающееся определение «гуманистической» модели революции не ограничивается только негативными определениями человеческого как не-поедания себе подобных, не-существования за счет труда другого, не-любви как мастурбаторного самоудовлетворения, не-насилия и т. д. Событие революции обладает здесь собственным (контр)осуществлением, обусловленным его антиисторическим характером, т. е. прерыванием истории, внезапной смертью смешанного животно-человеческого типа социальной жизни. Социум, скроенный по квазиживотным принципам, должен в этом смысле пройти этап смерти, подобный смерти животного в человеке[509].
Однако революция не обращает эту идею на одинокую фигуру «Господина», из которой Гегель выводил самосознание человека, а исходит из человеческой массы, другими словами, ставит на место господина представителя трудящихся, но не как раба, а как свободного человека.
Победа революции является своего рода тавтологией, ибо революция может быть только победившей. Но в этой же победе заключено и ее завершение, а в завершении – пустота. Революция как событие бытия не вплетена в него, определяясь не столько вневременностью, внепространственностью и бессубъектностью, сколько собственными альтернативными параметрами пространства, времени и субъективности. Так, событие революции, находясь в линейном промежутке времени, очерчивает особый режим времени, связанный с отрицанием божественного вечного настоящего, предполагая бесконечную делимость прошлого и будущего, с узким перешейком пустого настоящего. Событие революции совпадает с событием высказывания о нем: о революции в этом смысле можно говорить не как о свершившемся факте, за который отвечает кто-то другой, но как о чем-то, за что в ответе только сам говорящий.
* * *
Таким образом, уточняется столь важная для русского авангарда идея коммунизма как такого общественного устройства, в котором могут быть преодолены насильственные отношения между людьми и реализована идея человека как носителя сознания, не подчиненного целям эксплуатации и уничтожения других людей. Так понятая, она была определяющей для русского левого авангарда, не сводясь к попыткам ее исторического осуществления в советских условиях. Она выступала, скорее, как общая, альтернативная существующим формам отношений символическая структура коллективной чувственности, и именно в качестве таковой определяла в 1910–1920-е годы актуальный художественный процесс. Без выявления и учета этой структуры при анализе конкретных произведений причины изменений в развитии авангардного проекта 20-х годов XX в. и их смысл остаются необъяснимыми.
Автобиография. Тетради по аналитической антропологии литературы / под ред. В.А. Подороги (в соавторстве: Е. Ознобкина, Е. Петровская, М. Рыклин, О. Аронсон, И. Чубаров и др.). Кн. 1. М.: Логос, 2001.
Адаскина Н.Л. Любовь Попова. М.: Фонд «Русский авангард», 2011.
Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.
Аксенов В. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920). Л., 1974.
А. М[ихайлов]. Об антимарксистских тенденциях в искусствознании и ГАХНе // На литературном посту. 1929. № 6. С. 7.
Андреева Е. Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка, 2010.
Андрей Платонов: Мир творчества. М.: Современный писатель, 1994.
Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М.: Современный писатель, 1994.
Антология феноменологической философии в России. Т. 1–2. М.: Логос; Прогресс-традиция, 1999–2001.
Арватов Б.И. Искусство и классы. М.: ГИЗ, 1923.
Арватов Б.И. Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926.
Арватов Б.И. Маркс о художественной реставрации // Арватов Б.И. Социологическая поэтика. М.: Федерация, 1930.
Аркин Д. Искусство бытовой вещи. Очерки новейшей художественной промышленности. М.: Изогиз, 1932.
Барокко в авангарде – авангард в барокко. Тезисы и материалы конференции. М.: Науч. совет по истории мировой культуры РАН, 1993.
Батай Ж. Проклятая часть. М.: Ладомир, 2006.
Белая Г. (сост.) Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е гг. XX в. М.: Изд-во РГГУ, 2003.
Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
Белый А. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации / сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель, 1988.
Белый А. История становления самосознающей души // Рукопись. Рукописный отдел РГБ. М., 1926. Фонд № 25, 45/1 и 45/2.
Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1990.
Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон+, 1999.
Беньямин В. Франц Кафка. М.: Ad Marginem, 2000.
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Аграф, 2002.
Беньямин В. О некоторых мотива у Бодлера. Рассказчик // Беньямин В. Маски времени. СПб.: Simposium, 2004.
Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: Изд-во РГГУ, 2012 (а).
Беньямин В. О положении русского киноискусства // Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 2012 (б). С. 256–260.
Бланшо М. Неописуемое сообщество. М.: Московский философский фонд, 1998.
Бобринская Е. Мотивы преодоления человека в эстетике русских футуристов // Вопросы искусствознания. 1994. № 1. С. 199–212.
Бобринская Е. Футуризм. М.: Галарт, 2000.
Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. М.: НЛО, 2006.
Брехт Б. Об экспериментальном театре // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: в 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5/2.
Брик О.М. Дренаж искусству // Искусство коммуны (издание Отдела изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения). 1918 (а). 7 декабря. № 1.
Брик О. Художник-пролетарий // Искусство коммуны. 1918 (б). № 2.
Брик О. От картины к ситцу // ЛЕФ. 1924. № 2 (6).
Брик О. «Одиннадцатый» Вертова [и] «Октябрь» Эйзенштейна // Новый ЛЕФ. 1928. № 4. С. 27–33.
Будетлянин науки // Якобсон-будетлянин: Сб. материалов / сост., подгот. текста, предисл. и коммент. Бенгт Янгфельдт. Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1992. С. 11–71.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1994.
Бухарин Н. Валерий Брюсов и Владимир Маяковский. (Скорбные мысли) // Бухарин Н. Революция и культура: Статьи и выступления 1923–1936 годов. М.: Фонд имени Н.И. Бухарина, 1993. С. 146–152.
Бюллетени ГАХН / под ред. А.А. Сидорова. М.: ГАХН, 1925. Вып. 1. С. 8–17.
В кого вгрызается ЛЕФ? // ЛЕФ: Журнал Левого фронта искусств. 1923. № 1. Март. С. 8–9.
Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии. Пб.: Academia, 1922.
Введенский А. Полное собрание произведений: в 2 т. М.: Гилея, 1993.
Вельминский В. Видение верстака. Поэзия удара молотком как средство «установки» изобретательства // Логос. 2010. № 1. С. 173–192.
Вертов Д. Киноки. Переворот // ЛЕФ. 1923. № 3. С.135–143.
Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966.
Вертов Д. Из наследия. Т. 1. М.: Музей кино. Эйзенштейн-центр, 2004.
Вертов Д. Статьи и выступления. Из наследия. Т. 2. М.: Эйзенштейнцентр, 2008.
Вещь. Литературно-художественный журнал. Берлин, 1922. № 1–3.
Винокур Г.И. Футуристы – строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. Март. С. 204–213.
Волков Н.Н. Значение понятия «изображение» для теории живописи // Искусство. 1928. Т. 4. Кн. 3–4. С. 191–198.
Вундт В. Проблемы психологии народов. М.: Академический проект, 2010.
Выготский Л.С. Психология искусства // Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции. М.: Лабиринт, 2001.
Габричевский А. Морфология искусства. М.: Агарф, 2002.
Галич Л. Катехизис русского символизма // Театр и искусство. 1904. № 38. С. 678–680.
Гаман Р. Эстетика / пер. с нем. Н.В. Самсонова. М., 1913.
Гастев А.К. Поэзия рабочего удара // Поэтический сборник. Пг.: Пролеткульт, 1918.
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М.: Искусство, 1968–1973.
Гинзбург М.С. Ритм в архитектуре. М.: Государственное издательство, 1923.
Гланц Т. Ви
дение русских авангардов. Прага, 1999. Горлов Н. Футуризм и революция. Поэзия футуристов. М.: Госиздат, 1924. Горлов Н. О футуризмах и футуризме (по поводу статьи тов. Троцкого) // ЛЕФ. 1923. № 4. Горных А. Формализм: От структуры к тексту и за его пределы. Минск: И.П. Логинов, 2003. Горчаков Н. История советского театра. Нью-Йорк: Изд-во им. Че
хова, 1956.
Григорьев В.П. Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000.
Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал. 2005. № 60.
Гройс Б. Ницшеанские мотивы в русской эстетике 20-х гг. // Бахтинский сборник-II. М., 1988. С. 104–126.
Гройс Б. Под подозрением. М.: ХЖ, 2006.
Грюбель Р. «Красноречивей слов иных / Немые разговоры». Понятие формы в сборнике ГАХН «Художественная форма» (1927) в контексте концепций Густава Шпета, русских формалистов и Михаила Бахтина // Логос. 2010. № 2. С. 11–34.
Деготь Е. Борьба за знамя. Советское искусство между Троцким и Сталиным 1926–1936. М., 2009.
Деготь Е. От товара к товарищу. К эстетике нерыночного предмета // Логос. 2005. № 5 (50).
Делез Ж. Ницше / пер. с франц., послесл. и коммент. С.Л. Фокина. СПб.: Аксиома, 1997.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко / общ. ред. и послесл. В.А. Подороги; пер. с франц. Б.М. Скуратова. М.: Логос, 1997.
Делез Ж. Логика смысла / пер. с франц. Я.И. Свирского. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998 (а).
Делез Ж. Различие и повторение / пер. с франц. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. СПб.: Петрополис, 1998 (б).
Делез Ж. Фуко. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998.
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки / пер. с франц. Е.Г. Соколова. СПб.: Алетейя, 1999.
Делез Ж. Критика и клиника / пер. с франц. О.Е. Волчек, С.Л. Фокина. СПб.: Machina, 2002.
Делез Ж. Ницше и философия. / пер. с франц. О. Хомы под ред. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2003.
Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / пер. с франц. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004 (а).
Делез Ж. Переговоры. 1972–1990 / пер. с франц. В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2004 (б).
Делез Ж. Фрэнсис Бэкон: логика ощущения / пер. с франц. и предисл. А. Шестакова. СПб.: Machina, 2011.
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с франц. и послесл. С. Зенкина. СПб.: Алетейя, 1998.
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / пер. с франц. и послесл. Я.И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010.
Державин К.Н. Чудо // Известия П.С.Р.К.Д. от 9.11.1920.
Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Логос-Альтера, 2006.
Дмитриев Вс. Революционизированное ремесло // Искусство коммуны. 1919. Март.
Дмитриева Н. Русское неокантианство: «Марбург» в России. М.: РОССПЭН, 2007.
Добренко Е.В. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997.
Добренко Е.В. Формовка советского писателя. Социальные и этетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
Друскин Я.С. Вестники и их разговоры // Логос. 1993. № 4.
Евреинов Н.Н. О новой маске (автобио-реконструктивной). Пг.: Третья стража, 1923.
Евреинов Н.Н. Театротерапия // Жизнь искусства. 1920 (а). № 578–579.
Евреинов Н.Н. Взятие Зимнего дворца // Красный милиционер. 1920 (б). № 14.
Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002.
Евреинов Н.Н. Тайные пружины искусства. М.: Логос-Альтера; Ecce Homo, 2004.
Ефимов Н.И. Формализм в русском литературоведении. Смоленск: Научные Известия Смоленского государственного университета, 1929.
Жадова Л. О теории советского дизайна 20-х гг. // Вопросы технической эстетики. 1968. Вып. 1.
Жадова Л. Советский отдел на Международной выставке декоративного искусства и промышленности в Париже 1925 г. // Техническая эстетика. 1966. № 10.
Жаккар Ж.-Ф. Д. Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995.
Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 2004. C. 117.
Жинкин Н. Проблема эстетических форм // Антология феноменологической философии в России / под ред. И.М. Чубарова. М.: Логос, 2000. Т. 2. С. 213.
Жирар Р. Насилие и священное / пер. с франц. Г. Дашевского. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
Жирар Р. Козел отпущения. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
Жирар Р. Достоевский: от двойственности к единству. М.: ББИ, 2013.
Зассе С. Яд в ухо. Исповедь и признание в русской культуре. М.: РГГУ, 2012.
Заламбани М. Искусство в производстве. Авангард и революция в Советской России 20-х годов. М.: Наследие, 2003.
Заламбани М. Литература факта. От авангарда к соцреализму. СПб.: Академический проект, 2006.
Замятин Д.Е. Империя пространства. Географические образы в романах Платонова. Доклад на Х платоновском семинаре. Санкт-Пертербург, 1998 г. М.: Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького, 1999. С. 52.
За что борется ЛЕФ? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 3–7.
Зедльмайр Х. Искусство и истина. М.: Академический проект, 1999.
Иванов Вяч. Вс. Практика авангарда и теоретическое знание XX века, 1993. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 4. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 345–347.
Искусство в производстве. Сборник художественно-производственного Совета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. М., 1921.
Искусство портрета. Сборник статей Н.И. Жинкина, А.Г. Габричевского, Б.В. Шапошникова и. др. / под ред. А.Г. Габрического. М.: ГАХН, 1928.
К истории образования «Левого фронта искусства» / публ., подгот. текста, сопроводит. текст и примеч. Е.А. Динерштейна // De Visu. 1993. № 11. С. 3–9.
Каменский В. Автобиография // И это есть. Тифлис: АО «Заккнига», 1927. С. 5–9.
Кандинский В. Избранные труды по теории искусства: в 2 т. М.: Гилея, 2008.
Кант И. Критика чистого разума. / пер. с нем. и предисл. Н. Лосского. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1907.
Кант И. Критика способности суждения. Соч.: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 5.
Кантор К. Красота и польза. Социологические проблемы материально-художественной культуры. М.: Искусство, 1967.
Кафка Ф. Превращение. СПб.: Азбука-классика, 2008.
Кафка Ф. Мастер поп-арта. СПб.: Азбука-классика, 2010.
Клуге Р.-Д. Символизм и авангард в русской литературе – перелом или преемственность? // Русский авангард в кругу европейской культуры / под ред. В.В. Иванова и др. М.: Радикс, 1994. С. 65–77.
Ковтун Е. Русская футуристическая книга. М.: Книга, 1989.
Кого предостерегает ЛЕФ? // ЛЕФ. 1923. № 1. Март. С. 10–11.
Кожев А. Введение в чтение Гегеля / пер. с франц. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2003.
Конович А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. М.: Высшая школа, 1990.
Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: ХЖ, 2003.
Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003.
Крусанов А.В. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор). Т. 1. Кн. 2. М.: НЛО, 2010.
Кручёных А. Жизнь и смерть ЛЕФа. Сценарий-эскиз // Искусство кино. 1994. № 7. С. 122–127.
Кручёных А. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006.
Крыжицкий Г. Режиссерские портреты. Театр, кино, печать. Л.: Теакинопечать, 1928.
Кубанов И. Пейзажи чувственности. Вариации и импровизации. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
Курбановский А.А. Малевич и Гуссерль: Пунктир супрематической феноменологии // Историко-философский ежегодник. 2006. М.: Наука, 2006. С. 329–336. URL: www.ec-dejavu.net/m/Malevich.html
Кушнер Б. Организаторы производства // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 97–103.
Куюнжич Д. Воспаление языка. М.: Ad Marginem, 2002.
Лаврентьев А.Н. Варвара Степанова. М.: Фонд «Русский авангард», 2009.
Лаврентьев А.Н. Александр Родченко. М.: С.Э. Гордеев, 2011.
Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда / пер. с франц. А. Черноглазова. М.: Логос, 1997.
Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинары / пер. с франц. А. Черноглазова. Кн. 7. М.: Логос, 2006.
Лангерак Т. Андрей Платонов. Материалы для биографии. 1899–1929 гг. Амстердам: Пегасус, 1995.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Советский писатель, 1989.
Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / под ред. Н.Ф. Чужака. М.: Федерация, 1929.
Лифшиц М. Кризис безобразия. М.: Искусство, 1968.
Лукач Д. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003.
Луначарский А. Искусство и революция. М.: Новая Москва, 1924.
Луначарский А. Текущие задачи художественных наук // Бюллетени ГАХН. 1925. № 1. С. 9–10.
Луначарский А. Вильгельм Гаузенштейн // Искусство. 1923. № 1.
C. 13–31. Мазаев А. Концепция «производственного искусства» 20-х годов. Историко-критический очерк. М.: Наука, 1975. Максимов В. Философия театра Николая Евреинова // Евреинов Н.Н. Демон театральности. СПб.: Летний сад, 2002. Малевич К.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1 / под ред. А.С. Шатских. М.: Гилея, 1995.
Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Языки русской культуры, 1999.
Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
Маркс К. 18 Брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. III. М.: Госиздат, 1921.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Изд-во политической лит-ры, 1974. Т. 42. С. 41–174.
Маркс К. Введение к «К критике политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Изд-во политической лит-ры, 1968. Т. 46. Ч. 1. С. 28–42.
Маяковский о футуризме / публ. Р.А. Лаврова // Литературное наследство. 1958. Т. 65. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 175–178.
Маяцкий М. Гуссерль, феноменология и абстрактное искусство // Логос. 2007. № 6 (63). URL: www.intelros.ru/pdf/logos_6/maya.pdf
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении // М.М. Бахтин (под маской). М.: Лабиринт, 2000.
Мейерхольд В.Э. Лекции: 1918–1919 / сост. О.М. Фельдман, предисл. Б.И. Зингермана. М.: ОГИ, 2001.
Митурич П. Записки сурового реалиста эпохи авангарда: Дневники, письма, воспоминания, статьи / сост. и коммент. М. Митурича, В. Ракитина, А. Сарабьянова. М.: Литературно-художественное агентство «RA», 1997.
Михайлов A. «Академики» об искусстве // Печать и революция. 1929. Кн. 4. С. 115–121.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература, 1996.
Недович Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. Труды ГАХН. Секция пространственных искусств. М., 1927. Вып. 2.
Никольский В.А. Проблема производственного искусства в русской литературе // Рукопись. РГАЛИ, ф. 941 (ГАХН), оп. 2, ед. хр. 23.
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / пер. А.В. Михайлова. М.: Ad Marginem, 2006.
Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 1996.
Перцов В. За новое искусство. Развитие «Левого фронта» в современном русском искусстве. М.: Всероссийский Пролеткульт, 1925.
Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 143–171.
Петровский М.А. Выражение и изображение в поэзии // Художественная форма. М.: ГАХН, 1927 (а).
Петровский М. Поэтика и искусствознание // Искусство. 1927 (б). № 2–3.
Пиотровский А. Празднества 1920 г. // За Советский театр. Л., 1925.
Пиотровский А. Хроника Ленинградских празднеств 1919–1920 гг. // Массовые празднества. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л.: Academia, 1926.
Платонов А. Против халтурных судей (ответ В. Стрельниковой) // Литературная газета. 14.10.1929. С. 3.
Платонов А. Ювенильное море. Повести, роман. М.: Современник, 1988.
Платонов А. Возвращение. М.: Молодая гвардия, 1989.
Платонов А. Технический роман // Библиотека «Огонек» (№ 28) / предисл., сост., публикация В. Шенталинского. М., 1991.
Платонов А. О первой социалистической трагедии // Платонов А. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М.: Современный писатель, 1994.
Платонов А. Взыскание погибших. М.: Школа-Пресс. 1995.
Платонов А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. М.: Информпечать, 1998.
Платонов А. Пролетарская поэзия // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М.: ИМЛИ, 2004 (а). C. 162–167.
Платонов А. «Леф» (1924 г.). // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М., 2004 (б). C. 259–261.
Платонов А. Воспитание коммунистов // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М., 2004 (в). C. 62–63.
Подземская Н. Доклад В. Кандинского «Основные элементы живописи» // Вопросы искусствознания. 1997. Т. XI. № 2. С. 75–86.
Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 1. М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006.
Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 2. Ч. 1. М.: Культурная революция, 2011 (а).
Подорога В.А. Мимезис IV, негативный. Словарь аналитической антропологии // Логос. 1999. № 2.
Подорога В.А. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995 (а).
Подорога В.А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995 (б).
Подорога В.А. Евнух души. Позиции чтения и мир Платонова // Параллели. 1991. Вып. 2. С. 33–81.
Подорога В.А. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос. 2010. № 1 (74). С. 22–50.
Подорога В.А. Суть вещей. Вещь: явление и уход // Inter Esse. 2011 (б). № 1.
Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М.: Канон+, 2012.
Поэзия русского футуризма / вступ. ст. В.Н. Альфонсова; сост. и подгот. текста В.Н. Альфонсова, С.Р. Красицкого; примеч. С.Р. Красицкого. СПб.: Академический проект, 1999.
Примечание ред. [к статье Ф. Бирбаума «К вопросу “Искусство в производство” (письмо в редакцию)»] // Искусство коммуны. 1919. № 8. 26 января.
Программная декларация [комфутов] // Советское искусство за 15 лет: Материалы и документация / под ред. И. Маца; сост. И. Маца, Л. Рейнгардт, Л. Ремпель. М.; Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. С. 159–160.
Пунин Н. Футуризм – государственное искусство // Искусство коммуны. 1918. 29 декабря.
[Н. Пунин] Бомбометание и организация // Советское искусство за 15 лет: Материалы и документация / под ред. И. Маца; сост. И. Маца, Л. Рейнгардт, Л. Ремпель. М.; Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. С. 166–167.
Пунин Н. Татлин (Против кубизма). Пг.: ГИЗ, 1921.
Райнов Т.И. «Отчуждение действия» (Социологические очерки) // Вестник Коммунистической академии. 1925. Кн. 13. С. 128–165; Кн. 14. С. 77–111; Кн. 15. С. 60–84.
Рауниг Г. Искусство и революция. Трансверсальный активизм в долгом двадцатом веке. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2012.
Рескин Д. Лекции об искусстве. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2006.
Робертс Д. Производственное искусство и его противоречия // Что делать. О пользе искусства. 2009. № 1 (25) [Электронный ресурс]. URL: www.chtodelat.org
Русский кубофутуризм. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.
Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания / сост. В.Н. Терёхина, А.П. Зименков. М.: Наследие, 1999.
Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика / сост. В.Н. Терёхина. М.: ИМЛИ РАН, 2005.
Сарабьянов Д. «Кубофутуризм»: термин и реальность // Искусствознание. 1999. № 1. С. 222–229.
Светликова И.Ю. Истоки русского формализма. Традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005.
Силлов В. Расея или РСФСР // ЛЕФ. 1923. № 2.
Словарь художественных терминов ГАХН / под ред. И.М. Чубарова. М.: Логос-Альтера, 2005.
Смирнов И. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977.
Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова / публикация Е. Литвина // Памир. 1989. № 6.
Степанова В. Человек не может жить без чуда. М.: Сфера, 1994.
Тарабукин Н. От мольберта к машине. М.: Работник просвещения, 1923.
Третьяков С. Бука русской литературы. (Об Алексее Крученых) // Жив Кручёных! Сб. ст. М.: Издание Всероссийского союза поэтов, 1925. С. 3–17.
Третьяков С. ЛЕФ и кино. Стенограмма заседания // Новый ЛЕФ. 1927. № 11–12. С. 50–54.
Третьяков С. Эйзенштейн – режиссер-инженер // Третьяков С. Страна-перекресток. М.: Советский писатель, 1991.
Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991.
Турчин В. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.
Федоров-Давыдов А. Рецензия на «Искусство портрета» // Печать и революция. 1928. Кн. 5. С. 219–221.
Флэтли Д. Фактор букв. URL: http://kogni.narod.ru/durant.htm
Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. СПб.: Изд-во СанктПетербургского ун-та, 2007.
Фор Д. Советская фактография: производственное искусство в эпоху информации // Что делать. Дебаты об авангарде. 2007. № 17 [Электронный ресурс]. URL: www.chtodelat.org
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Прогресс, 1992.
Фрейд З. Тотем и табу // Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Минск: Харвест, 2003.
Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. СПб.: Азбука-классика, 2010.
Фриче В. Социология искусства. М.; Л.: Госиздат, 1930.
Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Praxis, 2002.
Хан-Магомедов С. ИНХУК: возникновение, формирование и первый этап работы. 1920 // Советское искусствознание. 1981. Вып. 2.
Хан-Магомедов С. ИНХУК и ранний конструктивизм. Творческие течения, концепции и организации советского авангарда. М.: Architectura, 1994 (а). Вып. 3.
Хан-Магомедов С.О. У истоков формирования АСНОВА и ОСА – две архитектурные группы ИНХУКа. М.: Architectura, 1994 (б). Вып. 4.
Хан-Магомедов С.О. ГАХН в структуре научных и творческих организаций 20-х гг. // Вопросы искусствознания. 1997. Т. XI. № 2. С. 16–23.
Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм – концепция формообразования. М.: Стройиздат, 2003.
Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм. Методологическая конструкция развития на основе принципа остранения / пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001.
Ханзен-Леве Оге А. Мифопоэтический символизм. СПб.: Академический проект, 2003.
Харджиев Н. Статьи об авангарде: в 2 т. М.: RA, 1997.
Хармс Д. О времени, о пространстве, о существовании // Логос. 1993. № 4.
Хейзинга Й. Homo ludens. М.: Прогресс, 1992.
Хлебников В. Собрание сочинений: в 3 т. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001.
Холмс Б. Угроза новых авангардов? // Что делать. Дебаты об авангарде. 2007. № 17 [Электронный ресурс]. URL: www.chtodelat.org
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997.
Художественная форма / под ред. А. Циреса. М.: ГАХН, 1927.
Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991.
Чубаров И. «Сердечные искажения» в пространстве эстетики. Г. Шпет и Л. Выготский // Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания. M.: ЯРК, 2006. С. 221–235.
Чубаров И. Символ, аффект, мазохизм. Белый и Блок // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 131–147.
Чубаров И. Эстетические идеи Г. Шпета // IV Шпетовские чтения. M., 2005 (а). С. 221–240.
Чубаров И. Психология искусства Льва Выготского как авангардный проект // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. M.: Модест Колеров, 2005 (б). С. 110–135.
Чубаров И.М. Проблема «я» в герменевтической философии Г. Шпета // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. М.: Модест Колеров, 2008. C. 41–69.
Чужак Н. Под знаком жизнестроения // ЛЕФ. 1923 (а). № 1. С. 12–33.
Чужак Н.Ф. К задачам дня // ЛЕФ. 1923 (б). № 2. С. 145–146.
Шапошников Б.В. Эстетика числа и циркуля. М.: ГАХН, 1926.
Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. Т. VI. М.: Художественная литература, 1957.
Шкловский В. О заумном языке: 70 лет спустя // Русский литературный авангард. Материалы и исследования. L’avanguardia letteraria russa. Documenti e ricerche / ed. M. Marzaduri, D. Rizzi, M. Evzlin. Trento, 1990 (а). P. 253–259.
Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990 (б).
Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1984.
Шкловский В. Ринг ЛЕФа // Новый ЛЕФ. 1928. № 4.
Шкловский В. Матвей Комаров, житель города Москвы. М., 1929.
Шкловский В. Чулков и Левшин. М., 1933.
Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Материалы: в 2 ч. / под ред. B.C. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2002.
Шпет Г. Язык и смысл // Шпет Г.Г. Мысль и слово. М.: РОССПЭН, 2005.
Шпет Г.Г. Социализм или гуманизм // Космополис. 2006 (а). № 1. С. 77–90.
Шпет Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М.: РОССПЭН, 2006 (б).
Шпет Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М.: РОССПЭН, 2006 (в).
Шпет Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М.: РОССПЭН, 2007.
Шпет Г. Явление и смысл. М.: Гермес, 1914.
Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: (К постановке» На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского в московском Пролеткульте) // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 70–75.
Эйзенштейн С.М. Мемуары. М.: Музей кино, 1997. Т. 1.
Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: Музей кино, 2000.
Эйзенштейн С.М. Метод. Т. 1. М.: Музей кино, 2002.
Эренбург И. И все-таки она вертится. Берлин, 1922.
Якобсон Р. Тексты, документы, исследования. М.: Изд-во РГГУ, 1999.
Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague, Paris: Mouton, 1975.
Якобсон Р. Футуризм // Jakobson R. Selected Writings. V. 3. The Hague, Paris, New York: Mouton, 1981. P. 717–722.
Янгиров Р. «Великая утопия»: К истории пореволюционной идейной эволюции художественного авангарда // Литературное обозрение. 1993. № 9–10. С. 56–60.
Adorno T. Noten zur Literatur. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003.
Agamben G. Die Sprache und der Tod. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2007.
Annenkov G. En habillant les vedettes. Paris: Robert Martin, 1951.
Asholt W., Fähnders W. Projekt Avantgarde: Vorwort // Die ganze Welt ist eine Manifestation: Die europäische Avantgarde und ihre Manifeste / von Asholt W., Fähnders W. (Hrsg.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
Benjamin W. Gesammelte Schriften / von Tiedemann R., Schweppenhäuser H. (Hrsg.). Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1972–1999. Bd. I–VII.
Benjamin W. Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, 1919. Gesammelte Schriften. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1972. Bd. I. S. 7–122.
Benjamin W. Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982. Bd. V/1.
Böhme H. Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne. Reinbek: Rowohlt, 2006.
Böhringer H. Avantgarde – Geschichte einer Metapher // Archiv für Begriffsgeschichte. 1978. Bd. XXII. H. 1. S. 90–114.
Buck-Morss S. Dreamworld and Catastrophe. Cambridge, London: MIT Press, 2000. S. 114.
Burger F. Césanne und Hodler. Einführung in die Probleme der Malerei
der Gegenwart. Delphin, 1918. Bürger P. Theory of the Avant-Garde. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1974. Caygill H. Walter Benjamin. The Color of Experience. London, NY: Rout-
ledge, 2006.
Chubarov I. Die physiko-psychologische Abteilung und das psycho-physische Labor der Staatlichen Akademie für Kunstwissenschaften // Ästhetik von unten. Tübingen, 2005.
Chubarov I. Die Oberfläche des literarischen Dings als Grenze zwischen Sinn und Nonsense (Andrej Belyj, V. Šklovskij, V. Kandinskij, L. Vygotskij,
G. Špet und Futurismus) // Fraktur. Gestörte ästhetische Präsenz in Avantgarde und Spätavantgarde. Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 63 / Hennig A., Obermayr B., Witte Georg (Hrsg.), 2006.
Dufrenne M. Esthetique et philosoph Husserliana. Hamburg, 1992. Т. XIX (I). Eigenbrodt K.W. Der Terminus ‚innere Sprachform’ bei W. von Humboldt. Versuch einer genetischen Erklärung. Mainz, 1969. Enzensberger H.M. Die Aporien der Avantgarde // Enzensberger H.M.
Einzelheiten II. Poesie und Politik. Frankfurt/M., 1984. P. 50–80. Erlich V. Russischer Formalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973. Flatley J. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism.
Harvard University Press, 2008. Früchtl J. Konstellation eines Zentralbegriffs bei Adornо. Würzburg, 1986. Girard R.J. Hiob – ein Weg aus der Gewalt. Zürich, 1990; Das Ende der
Gewalt. Freiburg, 2009. Greenberg C. Art and Culture. Beacon Press, 1961. Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin. München – Wien: Hanser (Edition
Akzente), 1988. Haardt A. Husserl in Rußland. Phänomenologie der Sprache und Kunst
bei Gustav Spet und Aleksej Losev. München: Fink Verlag, 1992. Hamann R. Aesthetik. Aus Natur und Geisteswelt. 1 Aufl. 1911. Hamann R. Die Kunst und Kultur der Gegenwart // Verlegt durch
das kunstgeschichtl. Seminar in Marburg. Auslieferung durch die von münchow’sche Verlagsbuchhandlung Otto Kindt Wwe. in Giesssen, 1922.
Hansen-Löve A. Die formal-philosophische Schule in Russland 1920–1930 // Witte G., Obermayr B., Hansen-Löve A. Die vergessene Akademie. Kunstwissenschaft und Philosophie in Russland der zwanziger Jahre. München, 2011.
Holenstein E. Linguistik-Semiotik-Hermeneutik. Frankfurt/M., 1976. Husserl E. Phantasie und Bildbewusstsein. Hamburg, 2006. Israel J. Der Begriff der Entfremdung. Reinbek/Hamburg, 1972. Jameson F. The Prison-house of Language: A Critical Account of Struc
turalism and Russian Formalism. Princeton, N.Y.: Princeton Un. Press, 1974. Kramer S. Walter Benjamin. Zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2003. Lachmann R. Die «Verfremdung» und das «neue Sehen» bei V. Šklovskij //
Poetika. 1970. Nr. 3. S. 226–249.
Lazaratto M. Videophilosophie. Berlin, 2002.
Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. Tübingen: Mohr. 1924/1925. Bd. XIII.
Löwit K. Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts. Stuttgart, 1964.
Lukács G. Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin/Weimar, 1986.
Lukács G. Geschichte und Klassenbewusstsein. Neuwied [u.a.]: Luchterhand, 1970.
Man P. The Theory-Death of the Avant-Garde. Indiana University Press, 1991.
Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909–1938) / von Asholt W., Fähnders W. (Hrsg.). Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995.
Marx K. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (1857/58). M., 1939.
Marx K. Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 // Marx K., Engels F. Werke, Ergänzungsband Teil 1. Berlin, 1973.
Marx K., Engels F. Die deutsche Ideologie // Marx K., Engels F. Werke. Bd. 3. Berlin, 1969.
Marxismus und Formalismus / Günther H. (Hrsg.). München, 1973. Einleitung.
Menninghaus W. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Suhrkamp, 1995.
Mimesis. Kultur – Kunst – Gesellschaft / Wulf Ch., Gebauer G. (Hrsg.). Rowohlt, 1998.
Palmier J.-M. Walter Benjamin. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2009.
Die Politisierung des Futurismus 1917–1921 // Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischen Realismus: Dokumente und Kommentare: Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917–1934 / von Gassner H., Gillen E. (Hrsg.). Köln: DuMont, 1979. S. 31–39.
Roberts J. Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory. London: Pluto Press, 2006.
Russian Art of the Avant-Garde. Theory and Criticism 1902–1934 / Bowlt John E. (ed.). New York, 1976.
Simmel G. Der Begriff und die Tragödie der Kultur // Simmel G. Philosophische Kultur. Frankfurt/M., 2008.
Simmel G. Philosophische Kultur. Zweitausendeins. Frankfurt/M., 2008.
Simmel G. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 1916.
Slonim M. Russian Theatre from the Empire to the Soviets. Cleveland, 1961.
Walzel O. Wechselseitige Erhellung der Künste (1917) // Handbuch der Literaturwissenschaft. Potsdam, 1923.
Walzel O. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Darmstadt, 1957.
Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft / Dessoir M. (Hrsg). Nr. 17. Stuttgart, 1924.
Zizek S. Die Revolution steht bevor. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2002.
Игорь Чубаров – философ, антрополог. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. Член редколлегии философско-литературного журнала «Логос». Сотрудник Центра современной философии и социальных наук при философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Стипендиат Фонда им. Александра фон Гумбольдта (Берлин, 2006–2008).
Igor Chubarov – Doctor of Philosophy; researcher at the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences; a member of Center for Modern Philosophy and Social Sciences at M.V. Lomonosov Moscow State University; Associate Editor of Logos Journal. He graduated from the Faculty of Philosophy of the M.V. Lomonosov Moscow State University. Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation (Berlin, 2006–2008).
* * *
Chubarov, I.
The Collective Sensibility: Theories and Practices of the Left Avant-Garde [Text] / I. Chubarov; National Research University Higher School of Economics. – Moscow: HSE Publishing House, 2014. – 344 p. – (Cultural Studies). – 1000 copies. – ISBN 978-5-7598-1095-7 (hardcover).
This book is an anthropological analysis of the phenomenon of the Russian left avant-garde, represented, first of all, in works of constructivists, productivists and factographists, which gathered in the 1920th around the reviews LEF and Novy LEF, and such institutes as INHUK, VHUTEMAS and GAKhN. The book argues that the left avantgarde is a self-reflective social and anthropological practice, which loses nothing of its artistic qualities, because of conscious attempt of its protagonists to solve political and everyday problems of the people, which got a possibility of social liberation after 1917. With appropriate interdisciplinary instruments, the book addresses to such different figures as Andrey Bely and Andrey Platonov, Nikolay Evreinov and Dziga Vertov, Gustav Spet, Boris Arvatov etc. These different authors are united by the discovery of a specific layer of sensibility and of an alternative structure of the subconscious in their works, which are described in terms of a provocative concept of 'new sensibility'. Collectivity means here not an exterior social organization, but an immanent order of images from artworks, which enables them to be simultaneously both useful and purposeful, comfortable and esthetically outstanding.
The book is an open source for anyone interested in the humanities, especially in Philosophy, Literature and Art.
1
Ср.: [Беньямин, 2002, с. 31, 165].
2
Ср.: [Подорога, 2006, с. 10].
3
Ср.: «При этом условии Другой возникает как выражение чего-то возможного. Другой – это возможный мир, каким он существует в выражающем его лице, каким он осуществляется в придающей ему реальность речи. В этом смысле он является концептом из трех неразделимых составляющих – возможный мир, существующее лицо и реальный язык, то есть речь». См.: [Делез, Гваттари, 1998, с. 27–29].
4
См.: [Шиллер, 1957, с. 358].
5
Речь идет о проблематике Ж. Батая и Р. Жирара, которую мы далее применяем к материалу русского левого авангарда. Ср.: [Батай, 2006; Жирар, 2000; 2010].
6
См.: [Мазаев, 1975].
7
См.: [Заламбани, 2003; 2006].
8
См.: [Lazaratto, 2002].
9
См.: [Холмс, 2007].
10
Обоснование этого тезиса см.: [Ханзен-Леве, 2001, с. 461–491].
11
[Брик, 1918, № 2].
12
Ср. его: «Учение о подобии» («Lehre vom Ähnlichen») и «О миметической способности» («Über das mimetische Vermögen») [Benjamin, 1972–1999, 1991. Bd. II. S. 204–213]. Далее цит. по рус. изд.: [Беньямин, 2012 (а)].
13
[Беньямин, 2012 (а), с. 164].
14
См.: [Kramer, 2003, S. 29].
15
[Беньямин, 2012 (а), с. 8, 14].
16
См. [Benjamin, 1982, S. 588].
17
Было бы неверно говорить о каком-то разрыве между ранними текстами Беньямина о языке и этими размышлениями 1930-х годов. Последние являются развитием ряда интуций работ «О языке вообще и языке человека» (1916); «Задача переводчика» (1918) и др. Теологические метафоры получают здесь материалистическое истолкование, но ни о каком смысловом противоречии говорить не приходится. Беньямин пишет об эпистемологическом разрыве между эпохой миметических практик и современной эпохой печати и информации. Ср. мнение Г. Шолема по поводу противоречий между мистическим пониманием языка ранних работ и марксистским материалистическим поворотом: [Беньямин, 2012 (а), с. 181]. Известно, что для написания статей о мимесисе Беньямин запрашивал в начале 30-х из архива Шолема свою раннюю статью о языке.
18
Ср. размышления Ницше о становлении моральной памяти в работе «К генеалогии морали» [Ницше, 1990, с. 439 сл.].
19
Ср.: «Подобия между двумя объектами всегда передаются с помощью сходства, которое человек обнаруживает в себе между ними обоими или которое он предполагает как сходство с обоими» [Беньямин, 2012 (а), с. 184].
20
Мимесис приравнивается Беньямином к «дару делать дух сопричастным такой единице времени, в подобиях которой он будет мимолетно проблескивать из потока вещей, чтобы тотчас же погружаться в него вновь» [Беньямин, 2012 (а), с. 172. Ср.: c. 184–185].
21
Ср.: [Беньямин, 2002, с. 14].
22
Таким образом, астрология понадобилась Беньямину лишь как пример нечувственного характера современных миметических практик в той мере, в какой она опиралась на некую аксиоматику, соответствующую определенному календарю. Подобным каноном, по Беньямину, в котором заархивированы исторические модели уподоблений, выступает для современного человека язык.
23
Ср.: «…наивысшим применением миметической способности: медиумом, куда без остатка влились прежние способности запоминания подобного, так что в результате язык представляет собой медиум, где предметы уже не соприкасаются друг с другом напрямую, как было прежде в сознании провидца или жреца, но где встречаются и взаимодействуют их сущности, их мимолетнейшие и тончайшие субстанции, даже ароматы. Иными словами: с течением истории ясновидение передало свои древние силы письму и языку» [Беньямин, 2012 (а), с. 169–170].
24
См.: [Беньямин, 2012 (а), с. 165].
25
Ср.: «Ввиду такой ориентации Беньямин отклоняет те взгляды на язык, которые отмечают интенциональную передачу через него смысла и значения. Его понимание языка, скорее, приводит его всякий раз к распознанию в конкретных языковых фигурах отражений миметической способности, т. е. способности уподобляться и производить подобия» [Kramer, 2003, S. 35].
26
См. его «Московский дневник» [Беньямин, 2012 (б)].
27
См.: Пощечина общественному вкусу [Поэзия русского футуризма, 1999, с. 617].
28
Ср.: «Самовитое слово Хлебникова – это слово, не оторванное начисто от быта и жизненных польз, а слово, противопоставленное им, не ограничивающееся ими, а связанное с “бытом” отношением “дополнительности”, не скованное своими словарными, всеобщими, ничейными значениями и потому способное отрешиться от призраков данной бытовой обстановки, взорвать с помощью словотворчества глухонемые пласты языка, проложить путь из одной долины языка в другую» [Григорьев, 2000, с. 98–108].
29
Ср.: «По Беньямину, необходимая предпосылка такой практики чтения – новое пробуждение нашей способности воспринимать и продуцировать подобия, то, что он называет нашей “миметической способностью” – способностью, с которой современность, по его мнению, в целом обошлась не самым лучшим образом. В качестве защитной реакции на эмоционально болезненные ситуации, характеризующие современность (войны, толпы, новости дня, механизация труда и досуга), мы законсервировали свою готовность отождествлять себя с другими людьми, подражать им, полагаясь вместо этого на автономные, отлившиеся в привычку реакции» [Флэтли].
30
См. добротное представление историко-философского контекста теории мимесиса у Адорно: [Früchtl, 1986, S. 8–29].
31
См.: [Хоркхаймер, Адорно, 1997, c. 30].
32
См.: [Адорно, 2001, c. 82].
33
[Адорно, 2001, c. 84].
34
Ср.: «Человек делает это [то есть изменяет внешние предметы, запечатлевая в них свою внутреннюю жизнь] для того, чтобы в качестве свободного субъекта лишить внешний мир его неподатливой чуждости и в предметной форме наслаждаться лишь внешней реальностью самого себя» [Гегель, 1968–1973, т. 1, с. 37].
35
См.: [Адорно, 2001, c. 15–21].
36
См.: [Жирар, 2000; 2010; Girard, 1990; 2009] и др.
37
Ср.: «Желание стереть репрезентации насилия управляет эволюцией мифологии» [Жирар, 2010, c. 126].
38
См.: [Жирар, 2000, c. 83].
39
Ср. заключение к его книге «Насилие и священное» [Жирар, 2000, с. 391–392].
40
См. главу «Жертвоприношение и самопожертвование» [Бланшо, 1998].
41
За идеей «учредительного насилия» здесь у Жирара маячит Карл Шмитт.
42
На что он сам намекал: [Жирар, 2000, c. 324].
43
[Жирар, 2000, c. 386].
44
Здесь ср.: Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов [Якобсон, Святополк-Мирский, 1975].
45
С этого начинается его статья «Литература и жизнь». См.: [Делез, 2002, с. 11–17].
46
Ср.: «Писать – это дело становления, которое никогда не завершено и все время в состоянии делания и которое выходит за рамки любой обживаемой или прожитой материи. Это процесс, то есть переход Жизни, идущий через обживаемое и прожитое» [Делез, 2002, с. 11].
47
[Там же].
48
Ср.: «Становиться – это не достигать какой-то формы (отождествление, подражание, Мимесис), а находить участки соседства, неразличимости, такой недифференцированности, что уже невозможно отличить себя от какой-то женщины, какого-то животного или какой-то молекулы: ни расплывчатых или общих, а непредусмотренных, непредсуществовавших, менее всего определенных по своей форме, ведь своеобразие они обретают в своем виде» [Делез, 2002, с. 11–12].
49
Ср.: «Языку надлежит добраться до женских, животных, молекулярных уверток, и всякая увертка – смертельное становление. Ни в вещах, ни в языке нет прямых линий. Синтаксис – это совокупность необходимых уверток, создаваемых всякий раз заново для обнаружения жизни в вещах» [Там же. С. 12–13].
50
Ср.: «Животным становишься тем вернее, когда животное умирает; вопреки спиритуалистическому предрассудку, как раз животное умеет умирать, обладает чувством или предчувствием смерти. Литература начинается, согласно Лоуренсу, со смертью дикобраза, согласно Кафке – со смертью крота: “…наши бедные красные лапки, вытянутые с какой-то нежной жалостью”. Пишут для умирающих телят, как говорил Мориц» [Делез, 2002, с. 12].
51
Ср.: «…литература начинается только тогда, когда в нас рождается третье лицо, лишающее нас силы говорить “Я” (“нейтральное”, по выражению Бланшо). Разумеется же, литературные персонажи в высшей степени индивидуальны, нерасплывчаты, не всеобщи; но все индивидуальные черты поднимают их до такого видения, которое увлекает их в какую-то неопределенность, являющуюся для них слишком сильным становлением» [Там же. С. 13–14].
52
[Делез, 2002, с. 16].
53
Ср.: «Предельная цель литературы – выявить в бреде это созидание некоего здоровья или изобретение некоего народа, то есть какую-то возможность жизни. Писать ради этого народа, которого не хватает… (“ради” означает здесь не столько “вместо”, сколько “для”)» [Делез, 2002, с. 16].
54
[Там же. С. 16–17].
55
Ср.: «Такие видения являются не наваждениями, но истинными Идеями, которые писатель видит и слышит в промежутках, отклонениях языка. Речь идет не о перерывах процесса, а о входящих в него остановках вроде вечности, которую не обнаружить вне становления, или пейзажа, который виден лишь в движении. Они не лежат где-то вне языка, они суть его внеположность. Писатель как тот, кто видит и слышит, – вот цель литературы: переход жизни в язык, который учреждает Идеи» [Там же. С. 17].
56
См. ниже Экскурс 4 «“Литературные машины” Андрея Платонова».
57
См.: [Подорога, 2006; 2011].
58
Ср.: Подорога В.А. Мимесис. Аналитическая антропология литературы. Программа курса [Электронный ресурс]. URL: http://kogni.narod.ru/podorogapr.htm
59
Ср.: О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений [Мосс, 1996].
60
См: [Подорога, 2006, c. 154].
61
[Там же. С. 359 и др.].
62
Ср.: [Подорога, 1999].
63
Ср.: [Адорно, 2001, c. 12].
64
[Кристева, 2003, с. 36–67].
65
Ср.: «От архаизма дообъектных отношений, от незапамятного насилия, с которым одно тело отделяется от другого, чтобы существовать, отвращение сохраняет в себе эту мглу, где теряются контуры означаемого и где проявляется лишь неуловимый аффект. Разумеется, если я аффицирован тем, что не представляется мне как определенная вещь, то это означает, что управляют мною и обусловливают меня законы, отношения и структуры самого сознания» [Там же. С. 45].
66
Ср.: [Подорога, 1999, c. 12 сл.].
67
См.: [Делез, 1998 (а), с. 133].
68
См.: [Подорога, 2006, с. 449].
69
См.: Чужак Н. Литература жизнестроения [Литература факта, 1929, с. 34]. Ср. различение В. Шкловским дворянской и раннебуржуазной русской литературы XVIII в. [Шкловский, 1929; 1933].
70
См.: [Литература факта, 1929, с. 36 сл.].
71
Помнится, Ж. Делез на примере описания состояний Пьера в пылу битвы даже иллюстрировал особые темпоральные характеристики события («Логика смысла»). Но сути дела это не меняет.
72
Ср. аффективную интерпретацию реализма Гоголя и Достоевского у А. Белого (Экскурс 1).
73
См.: [Ницше, 2006, с. 75].
74
[Белый, 1990, c. 241].
75
[Шкловский, 1990 (б), c. 212–239].
76
[Галич, 1904, c. 680].
77
[Белый, 1926].
78
[Белый, 1999, c. 175].
79
Ср., например, «Основы моего мировоззрения» [Там же. С. 12–14, 20–25 сл.].
80
Ср.: «Сфера познания, вся – оказалась бессмыслием форм приложенья одной половиночки смысла “для вещи”, к другой половиночке, к “вещи для нас”. Для каких это “нас” – я позволю спросить себя в духе хранителей Кантова “смысла”. И где эти “мы”? Как психически цельные, как содержательные индивиды – мы вдавлены в чувственность, мы – обезличены, раздроблены, как говядина, двенадцатизубою кантовой мясорубкою (двенадцатизубием его категорий) и явлены в ней материальным, атомным раздро́бом; все то ж, что осталось от нас, – форма тождества (“Я=Я”), иль рычаг мясорубки; но этот остаток от “мы” – что угодно, но только – не мы» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Кант»].
81
Ср.: «Скажем: “чувственность” Канта – астральное тело; в его оформлении при помощи категорий реальности, качественности и других, в окончательном, познавательном оформлении кантовом, т. е. в точке процесса приклеивания сознания к мигу, встает оформление природного мира материи. Здесь мы могли бы подробнее остановиться на самом процессе ариманизации как последовательном употреблении категорий, где применение категорий так называемой первой группы (единство, множество, всеобщность) есть процесс оформления самых принципов астральности, которой форма – счет, и которой смысл – число, где в деятельности 3-й категориальной группы (основание познания, причинность, функциональная зависимость) имеем оформление принципов эфирного тела, а в группе 2-й категории (качество, количество, реальность) имеем принципы физического тела; в четвертой же группе (возможность, действит., необходимость) дается принцип ариманического отрезывания телесно оформленной природы от всякого нормального духовного мира; и создается в символах материи мир ненормально духовный» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Кант»].
82
Ср., например: «Кантова точка зрения предполагает первичною данностью данную чувственность и данный синтез рассудка (a prori категорий); мы видели, что в философии целого опыт с его предпосылкой даны в предпосылке, не вскрытой теорией знания Канта: в первичноположенной данности в образе мира; и стало быть: в результате познанья имеем мы не однобокую деятельность оштампованья поверхности, так сказать, образа формой рассудочной, а, так сказать, двубокую, двуударную деятельность: оштампование образа формой и преображение формы познания в изобразительный жест в результате действительного проницанья друг другом их; в этой концепции изобразительность – сила идеи; идейность – конкрет жизни образа; самое слово идея, эйдейя, есть деятельность изображения (от эйдос, иль образ) […]» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Душа самосознающая, как тема в вариациях»].
83
[Дмитриева, 2007, c. 367].
84
Ср.: «Художник не просто для себя созерцает, а разоблачает тайны. Запечатлеть – здесь только начинается художественно-совершенное зрение художника – явленность вовне. Красота – дважды рожденная, дважды явленная. Оттого она – и смысл, и значение. Оттого она не только эстетична, но и философична. Но, прежде чем передать действительность философу, художник должен утвердить ее права на бытие в созерцании: еще не реального и уже не идеального только» [Шпет, 2007, c. 192].
85
Ср.: «Так мы фигуру научных пунктиров вполне равномерно рассматриваем в трех разрезах; рассмотр всей фигуры как суммы слагающих атомов-точек дает представление нам о физическом теле как некоем постоянном комплексе, уравновешенном, замкнутом, плотном; рассмотр всей фигуры как сил, образующих пересеченьем своим эти точки (здесь точка дана как пучок силовой), есть рассмотр всей фигуры в символике тела эфирного; а рассмотренье фигуры как целого пересеченья всех сил (и всех точек внутри этих сил) есть рассмотр той же самой фигуры как тела астрального […]» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Явление тела»].
86
Ср.: «Подобно тому, как пророст воли в мысль умножает нам точку понятия в круг таких точек, так личность, единство сознания, ставящая знаки равенства между собою и “Я” в ней живущем, в период души самосознающей разорвана ростом в ней “Я”; личность есть колыбель; в колыбель был когда то положен младенец; и крепко привязан до времени был он; но, выросши, этот младенец пытается встать; колыбель его рвется на части; пока не осознан процесс отделения “Я” от его облепляющей личности, эта личность-личина себя исживает сперва в раздвоеньи, а после – в расстройстве (в “распетеряйстве”, быть может); являются в ней – двойники, тройники, вдруг выныривая из глухих подсознаний мифических; кажется, что “Я” сознания– нет, потому что есть “Я” у познанья (души рассуждающей), есть “Я” у чувства (души ощущающей), есть даже “Я” у процессов природно-телесных, свершающих где-то в мраке свои “козловаки”, подобные актам сознания; личность себя ощущает, как лебедь-ракщука; “рак” – пятит назад; “щука” – тащит в стихию страстей, “лебедь” рвется в мир духа» [Белый, 1926, ч. III, гл. «Душа самосознающая»].
87
Ср.: [Дмитриева, 2007, c. 368–369].
88
Ср.: «Все же схожденье в астрал, в мир страстей, в мир привычек – операция необходимая, но и рискованная, сопровождаемая не только видоизменением бессознанья сознанием, но и видоизменением бессознаньем последнего; только с отчетливо укрепленным сознанием можно держаться сознаньем в астрале; схожденье в астрал есть огромнейшее испытанье культуры […]» ([Белый, 1926, ч. II, гл. «Проблема “само”»). В издании 2-й части ИССД 1999 г. в этой цитате ошибочно напечатано: «[…] операция необходимая, но не рискованная […]» [Белый, 1999, с. 203].
89
Да и само человеческое тело Белый предостерегал сводить к представлению. См.: «Лишь тогда, когда “Я” сознаванья вплотную приблизилось к телу, пытаясь вне оболочек изжитой душевности, так сказать, соприкоснуться с природой телесного, как с чем-то внутренним, “тело” отчетливо сбрасывать стало вуаль “представлений о теле”» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Явление тела»] (Курсив А. Белого. – И. Ч.). Ср.: «Неназываемое бытие есть конкретное, реалистическое осознание движений телесных – не взгляд из души, как из фортки, откуда телесность – ландшафт: то – картина природы, то – прикосновенье поверхности чуждой стихии как чувственности, то – абстракция, данная схемой атомного века. Принятие телесного мира вовнутрь, – нам являет стихию родную и чуждую – одновременно […]» [Белый, 1999, ч. II, гл. «Еще раз “.Толстой” и еще раз Толстой»] (Курсив А. Белого. – И. Ч.).
90
«Душа самосознающая вносит в сознанье внимание к мысли, меняющее представленье о мысли; присутствуем мы при разительном перерождении самой субстанции мысли; мысль, непроницаемая, – проницается: плавится, так сказать, и протекает одной стороною в под нею лежащую сферу души ощущающей, там начиная работать, меняя ландшафты эмоций; пока они с мыслью раздельны, – одни они; но в “чувство-мыслии”, явленном сферою самосознанье, другие они; измененье рельефов эмоций, – разительно, катастрофично; подобно провалам оно континентов, потопам и взрывам глухих вулканических сил; мир страстей, нами правящий, нами нè видимый, пока мы смотрим в него сквозь очки разсуждений, встает. Фауст – старец до случая с Гретхен наверно казался безстрастным – себе и другим; взрыв страстей, авантюр в измененном сознании Фауста-юноши, – катастрофичен для Фауста. Жил бы он с Вагнером, спорил бы о философии с ним, как и прежде, – зачем ему Гретхен еще? Но – ему нужна Гретхен: на старости лет» [Там же. Ч. III, гл. «Познание и чувство в самопознании»].
91
Кстати, если Белый и не читал Наторпа [Дмитриева, 2007, c. 368–369], то «Сознание и его собственник» Шпета он точно изучал. Ср. критику П. Наторпа у Шпета: [Шпет, 2006 (б), c. 287–290, 300–301].
92
Ср.: «[…] “Само” есть “Я” в процессе ритмизации астрала, в процессе вобрания астрального тела в себя, т. е. в процессе пресуществления астрала, как тела, в сознании, и тем пресуществления точки “Я” в сферу космического сознания, итогом которого являются “манас”» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Ницше»].
93
Ср.: [Лакан, 2006, с. 58–112 сл.; Кожев, 2003, с. 12–13 сл.].
94
Ср. его рассуждения о многих личностях в «Я» в ИССД [Белый, 1926, ч. II, гл. «Гете»].
95
Имеется в виду центральный концепт формалистской школы. См.: [Ханзен-Леве, 2001].
96
См.: Проблемы современной эстетики [Шпет, 2007, c. 314–322].
97
Ср.: «Аффект и есть машина телесного перекроя, или готовности к таковому, и способности стать прозрачным и эластичным по отношению к событиям. Или, другими словами, аффект – это потенция тела производить сдвиг, сдвигать свои параметры в сторону усиления или ослабления способности вступать в отношения композиции с другими телами и событиями» [Кубанов, 1999, c. 14]. К важнейшим особенностям аффекта, по Кубанову, относится исключение им внешнего аффектирующего воздействия материальных тел. Наше уточнение этой идеи будет состоять в том, что подобная аффектация и соответствующее состояние изначально носят социально-политический, а не психофизический характер.
98
Ср.: «[…] “тенденциозность”, дефект у других, – в Достоевском – аффект; и эффект величайшей художественности; нет ее на отдельных страницах романа, но в вас она; вовсе не в нем; от нее воздержался он в тексте, но влил в вашу душу; идея романа дана в модуляциях: в гамме сплошной за нотой нота; они не подобраны, – автором: выросли, точно грибы, из идейной подпочвы; идея дана нам в явлениях; и оттого-то “идея” конкретнее у Достоевского, чем у всех прочих идейных писателей» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Реализм: Гоголь, Достоевский»].
99
См.: [Шпет, 2007, c. 501].
100
См. об этом нашу статью: [Чубаров, 2008, c. 41–69].
101
По словам В.А. Подороги, многие тексты Белого построены на резонации различных звуковых образов, связанных с сонорной детской травмой. То есть для Белого эта связь имела особый автографический смысл, который был обусловлен попытками гармонизации родительских голосов, конкурирующих в борьбе за власть над образами его субъективности. См.: [Авто-био-графия, 2001, с. 29–31].
102
См., например, его статьи 1930-х годов: «Как мы пишем», «О себе как писателе» [Белый, 1988, с. 8–24].
103
См.: Магия слов [Белый, 1994, с. 131].
104
Ср.: «[…] он [Ницше] “волю” воспринял, как ритм, еще сущностней, чем Шопенгауэр; ошибка его – смешать ритм с тем, что движимо ритмом, с тем самым, над чем ритм работает: с телом; ритмично живущее тело (продукт) он с процессом смешал; “ритм” в себе ощущал он работою, йогою; но эта “йога” уже не была аскетической “йогой” востока для Ницше, а новым себя созданием в музыке; “дух” этой музыки, Ницше не вскрытый, – “само”, то, которое видел он в теле, в продукте, в объекте эвритмизации; “воля”, томящая нас, пока мы представляем ее с Шопенгауэром, есть представленье “астрала” пред погруженьем в него нашим “Я”; в представлении этом, астрал-преисподняя; “воля” у Ницше есть именно воля свободы, не необходимости, – воля к творению, к радости, к ритму; она в этом виде есть самосознание “Я”, погрузившегося в стихию астрала и ощутившего, что в той стихии не гибнем мы, но научаемся плавать (доселе ходить лишь умели); плавание в мире “воли” (в астрале) есть необходимость развития нового органа жизни, как ритма, преобразовывающего вой хаоса в музыку новых сознаний […]» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Ницше»].
105
Ср.: «[…] “аскеза” и “эпикурейство” былого – лишь две половинки расколотой полноты нормального бытия в теле; и эту нормальность надо в целях будущего одухотворения по-новому завоевать. То, что мы называем “духом”и “телом” в аспекте душевной культуры, переоценивается в момент нисхождения самосознающего “Я” в астрал для работы над ним; и уж “дух” в прежнем смысле не дух; но и “тело” не тело […]» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Проблема “само”»].
106
См.: «[…] Ницшев “дух музыки” вскрыт не по Ницше в ней: подлинно вскрыт Достоевским, во времени вышедшим прежде, и прежде еще набросавшим пунктир новой сферы, в которой вращается орбита двух крайних точек ее: между “вечным возвратом” и “сверх-человеком” […]» [Белый, 1926, ч. II, гл. «Реализм: Гоголь, Достоевский»].
107
См.: [Делез, 1998 (а), c. 39–40].
108
См.: [Шкловский, 1984, с. 20–23].
109
См.: [Шкловский, 1990 (а), с. 54].
110
См.: [Выготский, 2001, c. 301–313], а также наш более подробный анализ этого текста в статье «Психология искусства Льва Выготского как авангардный проект» [Чубаров, 2005 (б), с. 110–135].
111
См., например: [Медведев, 2000; Ефимов, 1929].
112
См.: [Светликова, 2005].
113
Элмар Холенштайн и Оге А. Ханзен-Леве достаточно подробно исследовали эту связь в своих известных работах. См.: [Ханзен-Леве, 2001, c. 173–180; Holenstein, 1976, S. 13–55].
114
См.: [Шкловский, 1984, с. 15].
115
См.: [Деррида, 2000].
116
Ср.: [Горных, 2003].
117
Ср.: [Петровский, 1927 (а), с. 51–80].
118
Об этом говорил, например, М. Дюфрен [Dufrenne, 1992, p. 1967].
119
См.: Эстетические фрагменты I [Шпет, 2007, с. 189–190].
120
Ср.: [Чубаров, 2004].
121
См. нашу статью: «“Сердечные искажения” в пространстве эстетики. Г. Шпет и Л. Выготский» [Чубаров, 2006].
122
См.: Эстетические фрагменты I [Шпет, 2007, с. 190].
123
Ср. у Гуссерля: «Акт значения не есть вид существования знака как оповещения» [Dufrenne, 1992, р. 30].
124
См.: Проблемы современной эстетики [Шпет, 2007, с. 316].
125
Ср.: План работы секции изобразительных искусств [Кандинский, 2008].
126
См. о ее деятельности: [Chubarov, 2005].
127
См.: Проблемы современной эстетики [Шпет, 2007, с. 313].
128
[Шпет, 2007, с. 313].
129
[Там же. С. 322].
130
Ср.: [Маяцкий, 2007; Курбановский, 2006].
131
См. нашу статью «Эстетические идеи Г. Шпета» [Чубаров, 2005].
132
Ср.: [Жинкин, 2000].
133
Ср.: [Шпет, 2006].
134
Ср.: [Шпет, 2007, c. 320].
135
Эстетические фрагменты I [Шпет, 2007, с. 182]. Ср. у Шкловского: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» [Шкловский, 1990 (б), c. 79, 280].
136
[Marx, 1973, S. 578].
137
Здесь можно упомянуть только статью Т.И. Райнова «Отчуждение действия» [Райнов, 1925], отчасти затрагивающую наш сюжет, и многолетнюю полемику авторов журнала «ЛЕФ» В. Шкловского, Н. Горлова, Б. Арватова с Л. Троцким, Н. Бухариным, А. Луначарским, деятелями Пролеткульта и РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) на близкие темы. Но и они непосредственно не сопоставляли рассматриваемые нами понятия. Как известно, в центр своей эстетики их сопоставление поставил Б. Брехт, получивший прививку формализма через С. Третьякова. Социологически нашу тему разрабатывали представители франкфуртской школы М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Г. Маркузе, следуя более ранним интуициям Г. Лукача, В. Беньямина, Э. Блоха и др. Близкую проблематику разрабатывал один из отцов советской марксистско-ленинской эстетики М. Лифшиц. Позднее, уже в позднесоветском марксизме, темы опредмечивания и отчуждения играли большую роль у М. Мамардашвили, Э. Ильенкова, Г. Батищева, Ю. Давыдова и др. Тенденциозную либеральную реконструкцию этой темы предложила эмигрантская русистика, прежде всего в работах Б. Гройса, Е. Добренко, А. Паперно и др. Нужно также упомянуть известные работы О.А. Ханзена-Леве, который отводит проблематике остранения центральное место в своей работе о русском формализме, а также исследования [Israel, 1972; Lachmann, 1970; Erlich, 1973] и др.
138
[Lukács, 1986, S. 616].
139
Ср.: [Löwit, 1964].
140
Цит. по: [Lukács, 1986, S. 628].
141
Ср.: «Физиологическая или биологическая терминология входит в состав языка феноменологического описания на правах негативных знаков, указывающих на присутствие тела в тех или иных образах сознания, но отрицающих возможность его объективации» [Подорога, 1995 (б), c. 173].
142
Связей авангарда с феноменологией я подробно не касаюсь, отсылая к известным фрагментам из труда О.А. Ханзена-Леве «Русский формализм» [Ханзен-Леве, 2001, с. 173–180] и к моей статье «Поверхность литературной вещи как граница между смыслом и нонсенсом» [Chubarov, 2006, S. 127–141].
143
Например, в статье «От картины к ситцу» [Брик, 1924, с. 27–34] О. Брик, так определяя понимание вещи в производственничестве: «Основная мысль производственного искусства о том, что внешний облик вещи определяется экономическим назначением вещи, а не абстрактными, эстетическими соображениями», только на первый взгляд отвергает искусство в пользу производства.
144
[Marx, 1973, S. 465].
145
[Marx, Engels, 1969, S. 5–530].
146
[Marx, 1973, S. 511–512].
147
[Подорога, 1995 (а), c. 13 сл.].
148
Ср.: [Белый, 1994, c. 418].
149
Ср.: [Jameson, 1974, S. 79; Ханзен-Леве, 2001, с. 13].
150
Ср.: [Benjamin, 1972].
151
[Шкловский, 1990 (б), с. 61].
152
Ср.: «Прием – это не столько стабильный термин, сколько маркер особого режима самой критики» [Горных, 2003, c. 73]. Белорусский исследователь ссылается здесь также на соотношение критики и стиля у Р. Барта и статус «знания» психоаналитика у Ж. Лакана.
153
[Шкловский, 1990 (б) с. 314].
154
[Там же. С. 279]. Ср. также: «В основе формальный метод прост. Возвращение к мастерству. Самое замечательное в нем то, что он не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое идейное содержание одним из явлений формы» [Там же. С. 169].
155
И далее: «Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям… Ведь это М. написал, что даже одежда поэта, даже его домашний разговор с женой должен определяться всем его поэтическим производством. М. отчетливо понимал глубокую жизненную действенность смычки между биографией и поэзией… Приступая к автобиографии, М. отмечает, что факты поэтовой жизни интересны “только если это отстоялось словом”». (См. его «О поколении, растратившем своих поэтов» [Якобсон, Святополк-Мирский, 1975, с. 26].)
156
Как ее характеризует О.А. Ханзен-Леве в упомянутой выше книге.
157
[Marx, 1973, S. 516].
158
[Деррида, 2006, c. 47–54].
159
[Lukács, 1970, S. 225–244].
160
[Ханзен-Леве, 2001, с. 35].
161
Ср.: «Коль скоро человек является вполне человеком лишь там, “где он играет” [Шиллер], то, исходя из этого, может быть постигнуто совокупное содержание жизни, и в этой – эстетической в самом широком смысле слова – форме оно может быть спасено от мертвящего воздействия овеществляющего механизма. Но оно спасается от такого омертвления лишь постольку, поскольку оно становится эстетическим. То есть либо нужно эстетизировать мир, что означает уклонение от подлинной проблемы и другим способом снова превращает субъекта в чисто контемплятивного, сводя на нет “дело-действие”; либо эстетический принцип возводится в принцип оформления объективной действительности; но тогда пришлось бы придать мифологизирующую форму поиску интуитивного рассудка» [Лукач, 2003, с. 229].
162
См.: Искусство как прием [Шкловский, 1990 (б), с. 63].
163
Ср.: [Адорно, 2001, c. 21].
164
[Шпет, 1914]. Ср. его же понимание «Я» не как божественной, природной или феноменальной данности (субъекта), а как социальной вещи («Сознание и его собственник», 1916).
165
Ср. у Г. Зиммеля в «Понятии и трагедии культуры»: «“Фетишистский характер”, который Маркс приписывает экономическим объектам в эпоху товарного производства, является лишь особым модифицированным случаем общей судьбы содержаний нашей культуры. Эти содержания находятся под знаком некоей парадоксальности, а именно: хотя они созданы субъектами и предназначены для субъектов, но в промежуточной форме объективности они следуют имманентной логике развития и тем самым отчуждают как свое происхождение, так и свою цель… Здесь речь идет отнюдь не о физической необходимости, но в действительности лишь о необходимости культурной… Это есть подлинная трагедия культуры, ибо мы называем трагическим роком именно это: то, что направленные против некоторой сущности разрушительные силы проистекают как раз из самых глубоких слоев этой сущности» [Simmel, 2008, S. 215].
166
Театральные инвенции [Евреинов, 2002, с. 83].
167
[Там же. С. 46].
168
Известно, например, что первая паровая машина древнегреческого ученого Герона на протяжении целых веков выступала в качестве игрушки, а не полезной машины, преобразуя тепловую энергию в механическую исключительно для развлечения зрителей.
169
Ср. постановку этого вопроса в прекрасной статье В. Максимова в предисловии к переизданию избранных работ Н. Евреинова «Демон театральности» [Максимов, 2002, с. 5–30].
170
Концепция Евреинова в этом центральном пункте оказывается близка известной теории Й. Хейзинга, который в книге «Homo ludens» (1938) в очень сходной логике ставил в основание человеческой культуры не театральность, а игру в широком смысле и преображение «Я» как ее цель и условие. Ср., например, первую главу «Природа и значение игры как явления культуры» [Хейзинга, 1992, c. 9–40].
171
Театрализация жизни [Евреинов, 2002, с. 44].
172
Предисловие без маски, но на котурнах («Театр как таковой») [Там же. С. 37].
173
[Евреинов, 1923; 1920 (а)].
174
[Евреинов, 1923, с. 6].
175
[Евреинов, 2002, с. 91].
176
См., например, тезисы его незавершенной работы «Эшафот как театр» в изданной нами книге «Тайные пружины искусства» [Евреинов, 2004, с. 190–195].
177
[Ницше, 1990, c. 479].
178
[Евреинов, 2002, c. 296].
179
Не случайно она не давала покоя многим поколениям советских и зарубежных бытописателей, которые возвращались к воспоминаниям о постановке Евреинова на протяжении всего XX в. См., например: [Пиотровский, 1925; Крыжицкий, 1928; Annenkov, 1951; Горчаков, 1956; Аксенов, 1974; Slonim, 1961; Конович, 1990, c. 9–10] и многие другие.
180
На это обстоятельство указывал пристрастный летописец массовых постановок 1920-х годов Адриан Пиотровский. См., например: [Пиотровский, 1926, c. 64–65].
181
Кстати, последним пунктом приказа представителя армии и флота товарища Д. Темкина значилось: «Всякое нарушение приказа будет рассматриваться как злостное желание сорвать инсценировку с контрреволюционной целью и караться по всей строгости революционного закона с преданием суду Ревтрибунала». Цит. по архивной рукописи Н. Евреинова «Взятие Зимнего дворца. Воспоминания об инсценировке в ознаменование 3-й годовщины Октябрьской революции» // РГАЛИ (Н.Н. Евреинов), ф. 982, оп. 1, ед. хр. 51, л. 20. Разумеется, ни в каком другом театре главный режиссер не мог и мечтать о таких условиях.
182
Там же. Л. 13.
183
См. редакционную статью «На репетициях инсценировки “Взятие Зимнего дворца”» (Жизнь искусства. 19 октября 1920 г.).
184
См.: [Евреинов, 1920 (б)].
185
См. комментарии Н.И. Клеймана к статье Эйзенштейна «Кино и театр. Николай Евреинов»: «“Превзойдя” фильмом “Октябрь” спектакль Евреинова, Э., безусловно, продолжал его поиски как в воплощении “исторической мистерии”, так и в гротескно-кукольном истолковании ее “героев”» [Эйзенштейн, 2002, c. 464].
186
См.: [Державин, 1920].
187
Характерно, что разрешение в сегодняшней России простого скопления народа в публичных местах приводит к грандиозным погромам, подобным побоищу на Красной площади во время трансляции чемпионата мира по футболу 2002 г.
188
См. изданные нами «масонские рукописи» Н.Н. Евреинова «Тайные пружины искусства» [Евреинов, 2004].
189
РГАЛИ (Н.Н. Евреинов), ф. 982, оп. 1, ед. хр. 51, л. 22–23.
190
В. Максимов справедливо замечает, что идею «соборного театра» (Р. Вагнера, А. Скрябина, В. Иванова и П. Флоренского) Евреинов в конечном счете не принял [Максимов, 2002, с. 16, 484].
191
[Гройс, 1988].
192
«В кабинете студента, ученого, а пожалуй и всякого любознательного гражданина близкого будущего главное место займут не книги, а принадлежности усовершенствованного кинетофона» [Евреинов, 2002, с. 294].
193
Об устройстве «Спектаклей для себя» (Проповедь индивидуального театра) [Там же. С. 305].
194
[Евреинов, 2004, c. 158–180].
195
См.: [Жижек, 2004, c. 117] (немецкое издание: [Zizek, 2002]). В качестве своего источника Жижек называет книгу [Buck-Morss, 2000].
196
[Шкловский, 1990 (б), с. 86].
197
[Эйзенштейн, 2002, c. 125–126].
198
[Там же. Т. 1. С. 464].
199
Ср.: Материалы к психобиографии С.М. Эйзенштейна [Авто-биография, 2001, c. 11–140].
200
[Эйзенштейн, 2002, c. 125].
201
[Эйзенштейн, 1997, т. 1, с. 77, 355; т. 2, с. 23, 78, 186–187].
202
От костюма к рисунку и ткани [Степанова, 1994, c. 201].
203
В контексте истории и теории медиа знаменитый «Черный супрематический квадрат» К. Малевича можно понять как аналог фотографии и кино – темного пространства камеры и негатива, на которых постепенно начинают проявляться формы нового предметного мира. Ср.: «Как и в случае с дадаизмом, от кино можно получить важные комментарии также к кубизму и футуризму. Оба течения оказываются несовершенными попытками искусства ответить на преобразование действительности под воздействием аппаратуры… При этом в кубизме основную роль играет предвосхищение конструкции оптической аппаратуры; в футуризме – предвосхищение эффектов этой аппаратуры, проявляющихся при быстром движении кинолент» [Беньямин, 2012 (а), c. 226].
204
Ср.: «Такого рода объединяющий союз масс и искусства не порождает ни ассамбляжи единичностей, ни организационные соединения, стремящиеся изменить условия производства. Вместо этого он стирает различия, территориализует, сегментирует и размечает пространство, добиваясь единообразия масс посредством искусства» [Рауниг, 2012, c. 14].
205
Ср.: «Впервые в анналах художественной жизни живописец сознательно отрекся от вскормившей его почвы и, переменив ориентировку, оказался самым чутким сейсмографом, отметившим направление стрелки будущего» [Тарабукин, 1923, c. 17–18]. Ср. также: [Хан-Магомедов, 1920; 1994 (а)].
206
См.: РГАЛИ, ф. 941 (ГАХН), оп. 1, ед. хр. 2, л. 19–21. Февральские протоколы 1922 г. содержат подробный состав, план и манифест деятельности ИНХУК как вспомогательного органа в составе ГАХН.
207
См.: РГАЛИ, ф. 941 (ГАХН), оп. 2, ед. хр. 23. 7 Ср.: [Мазаев, 1975; Заламбани, 2003]. Последнее, наиболее фундаментальное исследование производственного искусства исходит, например, из следующей «философии»: «Очевидно, что трудности, с которыми сталкивается художник, пытаясь вписаться в ритм фабричной жизни, вызваны глубокой связью настоящего художника с тем миром, доступ в который имеет лишь тот, кто обладает талантом и вдохновением, с Парнасом (Это не шутка, а мой курсив. – И. Ч.), который ближе к богам, нежели к человеку» [Заламбани, 2003, с. 123]. Неудивительно, что проект левого авангарда в целом Заламбани интерпретирует как борьбу за власть в культуре и обществе определенного социального слоя – левой
208
[Там же. С. 183].
209
Ср.: [Жадова, 1968, c. 81].
210
[Кантор, 1967, c. 163].
211
[Арватов, 1926, c. 86–88].
212
В 1920–1921 гг. в дальневосточном журнале «Творчество», который выпускали С. Третьяков, Н. Насимович (Чужак) и Н. Асеев, выходили также близкие тематике «Искусства коммуны» материалы. Тяготеющие к платформе прозискусства статьи печатались в пролеткультовском «Горне» (1918–1923 гг.) и ряде других журналов. В общих чертах производственников поддерживало и руководство Пролеткульта в лице В. Плетнева.
213
См.: [Брик, 1918 (а)].
214
Ср.: «Искусство, живопись в том смысле, как она понималась раньше, уступает место ремеслу. Иерархия переворачивается как шиворот навыворот. Ремесло – выделка мебели, посуда, вывески, платья – как подлинное жизненное творчество становится фундаментом для нового вдохновения, становится основой и смыслом художества, а станковая живопись и вообще “высокое искусство” становится прикладным, придатком к первому, черпающим в ремесле весь свой опыт и живительное начало» [Дмитриев, 1919].
215
Ср.: «Искусство далеко не сводится к производству, надо прямо сказать, что этот лозунг, выдвинутый главным образом левыми художниками, свидетельствует о некотором убожестве современного искусства» [Луначарский, 1924, c. 41]. «Перестройка окружающей нас естественной среды… является …производственной задачей искусства»; «Уже сейчас развернуть в наших школах соответственную подготовку своеобразного инженера-художника и, быть может, в сравнительно недалеком будущем поднять производство на значительную художественную высоту» [Там же. C. 42, 43].
216
См.: Хроника [Искусство в производстве, 1921, c. 34–42].
217
[Искусство в производстве, 1921, с. 7–8].
218
[Там же. С. 9, 11].
219
[Там же. С. 18].
220
[Там же]. Интересно, что позднее, уже в 1930-е годы, Аркин критиковал «левый вещизм» за недооценку идеологического измерения искусства, несколько изменив своим первоначальным установкам. Ср. его: «Искусство бытовой вещи» [Аркин, 1932, с. 103–111].
221
[Тарабукин, 1923, c. 17].
222
«Производственное мастерство целесообразно, конструктивно по форме и коллективистично в творчески-процессуальном акте», – резюмировал автор [Там же. С. 35].
223
[Арватов, 1923, c. 87].
224
[Чужак, 1923 (а), c. 38].
225
[Чужак, 1923 (б), c. 145–146].
226
[Луначарский, 1924, c. 92].
227
Ср.: [Выготский, 2001, c. 387 сл.].
228
[Луначарский, 1924, c. 93].
229
В интересе к орнаменту русские конструктивисты также сходились с эстетической проблематикой В. Беньямина, который понимал орнамент как образец миметической способности (см. главу I), т. е. как своего рода миметический код, согласно которому отношения между живыми людьми переносятся на отношение неживой природы к человеку, в результате чего она как бы «распахивает» перед ним свой взгляд. Речь шла об альтернативном понятийному мышлению способе организации человеческого опыта, не подчиняющем природу власти человека. Орнамент как своего рода прафеномен ауры художественного произведения выступал первичным выражением ненасильственного отношения к миру и другим людям, характерного для домифологической эпохи. Беньямин предполагал в человеке наличие миметических центров различной полярности, направляющих его миметическое поведение, «от глаз к губам окольным путем проходя через все тело» [Беньямин, 2012, c. 187]. На наш взгляд, именно конструктивистская одежда позволяла перенаправить соответствующий миметический процесс в альтернативные мифологике русла. В этом смысле орнаментальная абстракция производственников соответствовала социальному опыту демократического типа, представляя собой принципиальную альтернативу его господской сборке (см. «Вместо заключения», п. 5).
230
См.: [Лаврентьев, 2009, с. 133–135 сл.; Адаскина, 2011, с. 212–216 сл.].
231
См.: [Лаврентьев, 2009, c. 150–151].
232
К слову сказать, коллективный характер работы ИНХУКа разительно отличался от подобных коллективных проектов 1920-х годов, например отделений ГАХН, даже в организационном плане. Так, в их среде редко читались персональные доклады, эффективнее были коллективные обсуждения отобранных специальной комиссией тем и творческая художественная работа для проверки выдвинутых на них теоретических положений и гипотез. Ср.: [Лаврентьев, 2009, c. 84–85].
233
Об этом очень точно пишет К. Кантор: «Та самая мебель, которая предназначалась для массового производства, для организации нового быта, могла быть осуществлена только как мебель декорационная. Шкаф для одежды, белья и посуды работы Родченко сделан для спектакля. Вполне понятно, что мебель делается совмещенной, складируемой, трансформирующейся не из соображений экономии площади сцены. Это была демонстрация новых принципов организации быта, принципов производственного искусства, сокращающего количество вещей, пересматривающего основы вещевого состава среды» [Кантор, 1967, с. 161]. Ср. также главу «Создание театрального конструктивизма» [Адаскина, 2011, с. 147–182].
234
[Перцов, 1925, c. 17].
235
См.: [Никольский, рукопись].
236
Ср.: [Арватов, 1926, c. 89–93, 124].
237
См.: [Кушнер, 1923].
238
«В то время как техник-конструктор вместе с индустриальным пролетариатом создавал лицо мира, населив его всеми чудесами современной техники, – писал Перцов, – художник исторически в подавляющем большинстве занимался украшением этого лица» [Перцов, 1925, c. 74].
239
См.: [Тарабукин, 1923, c. 18].
240
[Арватов, 1926, c. 118].
241
Например, утверждая, что задача координации формы продуктов с формами их утилитарно-практического потребления под силу «только таким инженерам, которые одновременно творят и формы “быта”, и формы продуктов производства, т. е. инженерам-художникам». Ср.: [Арватов, 1926, с. 118, 119].
242
[Перцов, 1925, c. 87].
243
[Никольский, рукопись].
244
Ср.: [Лаврентьев, 2009, c. 133–134].
245
Ср.: [Хан-Магомедов, 1994 (б)].
246
См.: [Жадова, 1966].
247
См.: [Тарабукин, 1923, c. 23].
248
Ср.: [Арватов, 1926].
249
[Marx, 1939]. Ср.: [Маркс, 1968].
250
[Брик, 1924, c. 27–33].
251
Ср.: [Брик, 1924, с. 34].
252
Ср.: [Жадова, 1968].
253
Ср.: «Предположим, что мы производили бы, как люди. В таком случае каждый из нас в процессе своего производства двояким образом утверждал бы и самого себя, и другого: 1) Я в моем производстве опредмечивал бы мою индивидуальность, ее своеобразие, и потому во время деятельности я наслаждался бы индивидуальным проявлением жизни, а в созерцании от произведенного предмета испытывал бы индивидуальную радость от сознания того, что моя личность выступает как предметная, чувственно созерцаемая и потому находящаяся вне всяких сомнений сила. 2) В твоем пользовании твоим продуктом или твоем потреблении его я бы непосредственно испытывал сознание того, что моим трудом удовлетворена человеческая потребность, следовательно, опредмечена человеческая сущность, и что поэтому создан предмет, соответствующий потребности другого человеческого существа. 3) Я был бы для тебя посредником между тобою и родом и сознавался бы и воспринимался бы тобою как дополнение твоей собственной сущности, как неотъемлемая часть тебя самого, – и тем самым я сознавал бы самого себя утверждаемым в твоем мышлении и в твоей любви. 4) В моем индивидуальном проявлении жизни я непосредственно создавал бы твое жизненное проявление, и, следовательно, в моей индивидуальной деятельности я непосредственно утверждал бы и осуществлял бы мою истинную сущность, мою человеческую, мою общественную сущность» [Маркс, 1974, с. 35–36].
254
[Эренбург, 1922, с. 135–136].
255
[Арватов, 1926, c. 117].
256
Карл Кантор в уже цитированной книге писал о понимании вещи у мастеров Баухауса: «Стол В. Гропиуса. Это, в общем, только стол, письменный стол. Гропиус позволяет себе над своим письменным столом сделать небольшую полочку из стекла, но это редкость среди работ баухаузовцев. У них кресло – это кресло, стол – это стол. Вот “змеевик”, книжная полка новой конфигурации. Это поиск функциональной формы, но не создание предмета новой функции. Это касается, пожалуй, всех без исключения предметов, созданных баухаузовцами. Когда-то они были прогрессивными: без орнамента, четкие силуэты, простые геометрические формы. Сейчас они кажутся старомодными» [Кантор, 1967, c. 161].
257
Ср.: [Лаврентьев, 2011, c. 320 сл.].
258
В этом, кстати, состоял подлинный смысл идеи остранения В. Шкловского и V-эффекта Б. Брехта.
259
См.: [Силлов, 1923, c. 119].
260
Так, Д. Аркин, подвергая в 1932 г. критике «левый вещизм», выдвинул мнение, что уязвимость производственной доктрины была обусловлена не низким уровнем общественного производства, а отсутствием интереса к художественной промышленности и снижением качественных требований к ее продукции у самих конструктивистов из ЛЕФа. Ср.: [Аркин, 1932, с. 107–108].
261
Ср.: [Арватов, 1926, c. 98–99].
262
См.: [Аркин, 1932, c. 99].
263
Иронией истории выглядит на этом фоне воплощение замысла авангардного ситца от Варвары Степановой в новой линии одежды фирмы Adidas, которую можно купить сегодня в музеях Гуггенхайма.
264
[Аркин, 1932, с. 100].
265
Ср.: «Программа производственников тоже имела в виду перестройку социальных отношений, но не путем соединения ремесла и промышленности на какой-то новой основе, не путем сохранения индивида как центра мироздания, а путем создания универсализма нового типа, универсализма коллектива. Для них соединение искусства и промышленности не означало сочетания ремесла и машинной индустрии. И разрешение противоположности между искусством и трудом, по их мнению, должно было идти по линии создания условий для расцвета не отдельного индивида, а коллектива» [Кантор, 1967].
266
[Аркин, 1932, c. 107].
267
См. ниже Экскурс 4 «“Литературные машины” Андрея Платонова».
268
См.: [Арватов, 1926, c. 119].
269
[Там же. С. 127].
270
[Там же. С. 128].
271
[Арватов, 1926, с. 129].
272
[Там же. С. 127–128].
273
[Там же. С. 106].
274
[Там же. С. 104].
275
[Там же. С. 111].
276
[Там же. С. 110].
277
[Арватов, 1926, с. 129–130].
278
См. также: [Арватов, 1930, c. 144–170].
279
[Marx, 1939]. См.: [Маркс, 1968].
280
Цитируемый им фрагмент звучит так: «Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они все еще доставляют нам художественное наслаждение и в известном отношении признаются нормой и недосягаемым образцом» [Маркс, 1968, с. 42].
281
См.: [Арватов, 1930, c. 154].
282
Ср. у Маркса: «Социальная революция XIX века может черпать для себя поэзию не из прошлого, а только из будущего. Она не может даже начаться, пока не вытравлены все суеверия прошлого. Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть самих себя относительно своего истинного содержания. Революция XIX века, чтобы найти свое истинное содержание, должна предоставить мертвым погребать своих мертвецов. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы» [Маркс, 1921, c. 138].
283
См.: [Арватов, 1930, c. 156, 167].
284
13-й пункт Резолюции гласил: «Распознавая безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению в области литературной формы» (курсив документа).
285
[Троцкий, 1991].
286
См.: Пролетарская культура и пролетарское искусство [Троцкий, 1991, с. 146–147].
287
К этому сводится политический смысл психологии искусства такого, например, «троцкиста», как Лев Выготский (ср. его «Анализ эстетической реакции»). Ср. наш текст «Психология искусства Льва Выготского как авангардный проект» [Чубаров, 2005 (б)].
288
[Троцкий, 1991, с. 111].
289
[Троцкий, 1991, с. 118].
290
[Горлов, 1923, c. 9].
291
[Там же. С. 10].
292
Достаточно упомянуть его ответы на критику «Литературы и революции» со стороны Пунина, Эйхенбаума и Шкловского.
293
См.: [Троцкий, 1991, c. 192].
294
[Там же. С. 188].
295
[Там же. С. 183].
296
[Там же. С. 188].
297
В конце главы «Искусство революции и социалистическое искусство».
298
[Троцкий, 1991, с. 184–186].
299
[Kramer, 2003, S. 97]. Ср. наше «Заключение».
300
[Ibid. S. 98].
301
См.: [Беньямин, 2012 (б), c. 258].
302
См.: [Lazaratto, 2002, S. 113 ff].
303
«Кинок-монтажер, организующий впервые так увиденные минуты жизнестроения» [Вертов, 1966, c. 143].
304
[Платонов, 2004 (б), c. 260].
305
[Третьяков, 1927, с. 51].
306
[Третьяков, 1991, c. 541].
307
[Эйзенштейн, 1923, c. 71].
308
[Делез, 2004 (а), с. 87].
309
[Там же. С. 85].
310
[Эйзенштейн, 2000].
311
[Делез, 2004 (а), c. 87].
312
[Делез, 2004, с. 87].
313
[Там же. С. 86].
314
[Там же. С. 141].
315
[Там же].
316
[Там же].
317
[Вертов, 2004, c. 125–126].
318
[Вертов, 1966, c. 93].
319
[Авто-биография, 2001, c. 79].
320
[Шкловский, 1928, c. 36].
321
Ср.: «Скоро будет не то: не благо будет сидеть верхом на истине, а истина подчинит себе благо. Потому что наше благо будет в истине, какая бы она ни была. Пусть будет истина гибелью, все равно – да здравствует!» [Платонов, 2004 (а), c. 163].
322
Имеется в виду его анализ «Jenseits des Lustprinzips» («По ту сторону принципа удовольствия»), например, в «Этике психоанализа» [Лакан, 2006].
323
См.: [Платонов, 2004 (а), с. 163].
324
Ср.: «Сначала дайте пролетарским массам пролетарское же сознание жизни, пролетарское сознание долга, и тогда придет все остальное – и хороший транспорт, и ладное хозяйство, и скорая военная победа» [Платонов, 2004 (в), с. 63].
325
Эта теория предопределяет отношение Платонова к центральным направлениям авангардного искусства. Ср.: «В крайнем своем напряжении все чувства сливаются и превращаются в сознание, в мысль. Так и тут: слово в крайнем своем выражении, при бесконечной энергии не имеет элементов – оно однородно. Анализ трех элементов также показывает их родство. Ведь идея есть только глубочайший и последний поддонный образ вещи, а образ – поверхностная идея. Звук же есть тот же образ, приспособленный для специального ощущения организма – слуха» [Платонов, 2004 (а), с. 163].
326
Ср.: [Подорога, 1991].
327
Ср.: [Ханзен-Леве, 2001, c. 473].
328
См.: [Платонов, 1995, c. 627].
329
Следует отметить здесь влияние на Платонова в этом проблемном пространстве идей и поэтики А. Гастева как организатора труда и авангардного поэта. Ср. хотя бы «Пачку ордеров» Гастева с концовкой «Пролетарской поэзии» Платонова: «Изобретение машин, творчество новых железных, работающих конструкций – вот пролетарская поэзия… Каждая новая машина – это настоящая пролетарская поэма. Каждый новый великий труд над изменением природы ради человека – пролетарская, четкая, волнующая проза… Электрификация – вот первый пролетарский роман, наша большая книга в железном переплете. Машины – наши стихи, и творчество машин – начало пролетарской поэзии, которая есть восстание человека на вселенную ради самого себя» [Платонов, 2004 (а), с. 164]. См. также статью В. Вельминского «Видение верстака. Поэзия удара молотком как средство “установки” изобретательства» [Вельминский, 2010].
330
[Платонов, 2004 (а), с. 164].
331
См.: Автобиография [Платонов, 1989, c. 6].
332
Ср., например: [Платонов, 1991, c. 3–4].
333
См.: [Лангерак, 1995, c. 86–87].
334
[Платонов, 2004 (а), с. 165–166].
335
[Платонов, 1994, c. 320].
336
См.: [Подорога, 1991, c. 33–81].
337
[Подорога, 1991, c. 55].
338
Ср. также: [Замятин, 1999].
339
[Подорога, 1991, c. 56].
340
См., например: Об организации творческой лаборатории [Вертов, 1966, c. 148].
341
См.: Котлован [Платонов, 1995, с. 27].
342
[Платонов, 1998, c. 173].
343
Крайне неубедительна попытка М. Ямпольского выдать за пример такой удачи ранний фильм А. Сокурова по рассказу Платонова «Река Потудань». См.: [Андрей Платонов: Мир творчества, 1994, с. 397–409].
344
Ср. неловкое замечание Лангерака: «Попытки очеловечения персонажей нельзя считать удачными: персонажи одержимо следуют абстрактным идеям, лишающим их человеческого начала» [Лангерак, 1995, с. 103].
345
Для ее результативной работы всегда не хватает еще каких-то деталей, о которых будет сказано ниже.
346
[Платонов, 2004 (в), c. 63].
347
[Лангерак, 1995, c. 73–92].
348
[Там же. С. 11].
349
[Лангерак, 1995, с. 95–141].
350
Эта версия событий опирается на единственное свидетельство Платонова в письме жене (тамбовского периода), где он в поэтической форме описывает достаточно распространенное среди литераторов раздвоение личности, но сам же квалифицирует его как «формальный кошмар» на фоне одиночества и тоски по жене. Цит. по: [Платонов, 1995, c. 626–627].
351
Ср.: «В платоновской прозе очевиден отказ от изначального проектирования событий, сюжетных линий и планов поведения персонажей – все движется само собой. Изображаемое деперсонализируется, депсихологизируется и не определяется никакой внутренней телеологией» [Подорога, 1991, c. 23].
352
[Лангерак, 1995, c. 96].
353
[Там же. С. 103].
354
[Стенограмма, 1989, c. 103].
355
Ср. из писем жене: «Я люблю больше мудрость, чем философию, и больше знание, чем науку» [Платонов, 1995, c. 625].
356
[Там же].
357
[Там же].
358
[Платонов, 1929].
359
Не случайно в этот период на художественных поисках Платонова отразились идеи производственников, киноков и конструктивистов, стоявших на сходных «эстетических» и политических позициях «жизнестроительства» (см. выше о положении Платонова в эстетических спорах 1920-х годов).
360
[Платонов, 1995, c. 600].
361
[Платонов, 1995, с. 601].
362
[Там же. С. 608].
363
[Литература факта, 1929, c. 194].
364
[Платонов, 1989, c. 177].
365
[Андрей Платонов. Воспоминания современников…, 1994, c. 322–323].
366
[Андрей Платонов. Воспоминания современников…, 1994, c. 322].
367
Ср.: «Ленин», «Красные вожди», «Будущий Октябрь» (с. 108–109); «Мастер-коммунист», «Воспитание коммунистов» (с. 63), «Государство – это мы» [Там же].
368
Можно сравнить с этим и понимание героями Платонова революции как «конца света».
369
[Платонов, 1989, c. 93].
370
[Подорога, 1991, c. 57–58].
371
Ср. из «Чевенгура»: «Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться…» [Платонов, 1998, с. 47].
372
Сказать, что это зрение самой литературы, – ничего не сказать, потому что литература даже тематически и идейно близких Платонову художников таким зрением не обладает (Батай в литературе, Бунуэль в кинематографе, С. Дали и Р. Магритт в живописи).
373
См.: [Платонов, 1998, с. 86].
374
Вспомним здесь хотя бы описанную в «Антисексусе» мастурбаторную машину.
375
Ср.: [Тарабукин, 1923, c. 30] и идеи «обеспредмечивания современной культуры» Б. Кушнера [Кушнер, 1923] (Электронный ресурс. URL: www. ruthenia.ru/sovlit/j/2863.html), на которые ссылается Тарабукин. В этом смысле и произведения современного искусства соответствуют тем объектам в реальности, которые они таким негативным образом отражают, вернее, пытаются вывести на свет, хотя это и противоречит их собственной беспредметной природе. Я имею в виду изменившуюся эпистему, в рамках которой сами предметы оказались невидимы. Поэтому до условий извлечения смысла стоящей за этой невидимостью машины капитала, отчуждающей всех своих агентов, авангардное искусство никогда не доходило. Более того, оно застывало в известных нам формах современного искусства, канонизируясь на формальном уровне и постоянно оправдывая себя якобы неразрешимым в современном мире кризисом репрезентации.
376
Ср. главу III, раздел «Продукционизм…».
377
Причем, как писал Ж. Делез, «никакая “эпоха” не предшествует ни выражающим ее высказываниям, ни заполняющим ее видимостям. Таковы два самых важных аспекта: с одной стороны, каждая страта, каждая историческая формация подразумевает перераспределение зримого и высказываемого, которое совершается по отношению к ней самой; с другой стороны, существуют различные варианты перераспределений, потому что от одной страты к другой сама видимость меняет форму, а сами высказывания меняют строй… Каждая страта состоит из сочетания двух элементов: способа говорить и способа видеть, дискурсивностей и очевидностей, и от одной страте к другой обнаруживается вариантность двух элементов и их сочетаемости. От Истории Фуко ожидает именно этой детерминации видимого и высказываемого в каждую эпоху, детерминации, выходящей за пределы типов поведения и ментальностей, а также идей, поскольку она делает их возможными». См.: [Делез, 1998 (б), с. 73–74].
378
См.: [Зедльмайр, 1999].
379
[Там же. С. 23–24]. Я уже не говорю про ставшую общим местом ссылку на один из важнейших источников современного структурализма и лингвопсихоанализа – работы Р. Якобсона, многим обязанного Шпету и русским формалистам.
380
Настоящим испытанием на адекватность, так сказать, «профпригодность», стал сам факт нового искусства, который теория могла признавать или не признавать, но не могла не замечать и не реагировать на него. Искусствознание в этих условиях не могло не разделиться на людей, соответствующих этой идее скачка, слома, революции, и людей, придерживающихся более традиционных, если не консервативных, взглядов на общество и соответственно на место в нем искусства. Хотя отношения здесь были опосредованные.
381
Ср. нашу статью «Психология искусства Льва Выготского как авангардный проект» [Чубаров, 2005 (б)].
382
Ср. из Лацаруса-Штейнталя: «Народ есть духовное произведение индивидов, которые принадлежат к нему; они – не народ, а они его только непрерывно творят. Выражаясь точнее, народ есть продукт народного духа; так как именно не как индивиды творят индивиды народ, а поскольку они уничтожают свое отъединение». Цит. по: [Шпет, 2006 (в),c. 499]. Ср.: [Там же. С. 463–467, 500].
383
Ср. его текст «Текущие задачи Художественных Наук» [Луначарский, 1925, с. 9–10]. На первых этапах деятельности ГАХН Луначарский прочел доклад «Задача государства в области искусства» (декабрь 1921 г.).
384
Кстати, сам Луначарский как теоретик активно эксплуатировал теорию Гаузенштейна, посвятив ему специальную статью в № 1 гахновского журнала. См.: [Луначарский, 1923].
385
Ср., например: [Фриче, 1930].
386
См.: РГАЛИ, ф. 941, оп. 1, ед. хр. 2 (2). Протокол № 27 от 23.06.1922 г.
387
Мы уже писали об этом сюжете в несколько другой связи. Ср.: [Чубаров, 2008, c. 60–63].
388
Первоначально в академии планировалось создать несколько словарей, в том числе отдельно словарь технических терминов.
389
См.: [Шпет, 2007, c. 191–192].
390
В мае 1922 г. Бердяев прочитал на заседании пленума философского отделения доклад «Конец Ренессанса в современном искусстве».
391
См.: РГАЛИ, ф. 941, оп. 1, ед. хр. 2 (2). Протокол № 31 от 15.09.1922 г.
392
См.: РГАЛИ, ф. 941, оп. 14, ед. хр. 4. Протокол № 6 от 23.09.1924 г.
393
О понятии внутренней формы см.: [Haardt, 1992; Eigenbrodt, 1969; Грюбель, 2010].
394
См.: [Недович, 1927, c. 15].
395
[Петровский, 1927 (б), с. 119–139].
396
Петровский М.А. (1887–1937) – филолог-германист, переводчик, музейный работник. В 1920-е годы – действительный член Общества любителей российской словесности и РАХН (ГАХН) с октября 1921 г., с 1923 г. – заведующий подсекцией теоретической поэтики литературной секции (1923–1924 гг.), член ряда комиссий философского отделения и редакционной комиссии «Словаря художественной терминологии» (от литературной секции). Старший брат Ф.А. Петровского. Репрессирован. В 1935 г. проходил по делу «немецкой фашистской организации (НФО) в СССР» вместе с А.Г. Габричевским, Г.Г. Шпетом, Б.И. Ярхо, Д.С. Усовым и А.Г. Челпановым; приговорен к ссылке на 5 лет, которую отбывал в Томске. В 1937 г. по обвинению в участии в «офицерской кадетско – монархической контрреволюционной организации» приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно. Известна его интересная статья из сборника «Художественная форма» (1927 г.) под названием «Выражение и изображение в поэзии» [Петровский, 1927 (а)].
397
Эта позиция перекликается с идеей Шпета о номинативном языке изобразительных искусств, отдельные слова которого как «выражения» суть «изображения». Ср.: [Шпет, 2007, с. 321].
398
См.: [Walzel, 1923]. Ср. также: [Walzel, 1957].
399
[Петровский, 1927 (б), c. 123–124].
400
Но эта автогенность не отменяет у Петровского генерализующей постановки вопроса о смысле «художественности», объединяющей все искусства в их сущности. Ср. заключение его статьи: [Там же. С. 138–139].
401
[Петровский, 1927, с. 125].
402
[Петровский, 1927, с. 127].
403
[Там же. С. 128].
404
[Там же. С. 129].
405
[Петровский, 1927, c. 137–138].
406
Ср., например, его статью: «Значение понятия “изображение” для теории живописи» [Волков, 1928, с. 191–198].
407
Ср. его статью «Язык вещей» 1920-х годов: «Всякое культурное единство, всякая социальная система является всегда в то же время системой знаков, ибо всякая вещь, начиная от собственного тела человека, его движений и звучаний и кончая любым отрезком мира, может быть принципиально вещью социальной, вещью выразительной, т. е. не только вещью, но и знаком, носителем смысла» [Габричевский, 2002, c. 31].
408
См.: [Там же. С. 32]: «Однако – если нет сомнений в том, что любая вещь может быть социальным знаком, мы все же еще не вправе утверждать, что любая вещь может быть словом, ибо под словом обычно разумеется знак, выражающий логический смысл… Вопрос заключается в том, каково выразительное значение других выразительных социальных вещей… каков характер смысла, выражаемого при помощи той или иной группы вещей-знаков? каково значение означиваемого смысла к чувственному составу означивающей вещи? каковы наконец законы преобразования вещи в зависимости от того или иного отношения между знаком и значением». Ср.: «Проблема особой выразительности вещи возникает в связи с проблемой пространственных искусств, поскольку, по-видимому, во всякой культуре наличествует особая сфера смысла, находящая свое выражение именно в этих искусствах, и только в них» [Там же. С. 34].
409
Ср.: «Искусствознание, постепенно расшифровывая строение художественного образа в архитектуре, скульптуре, живописи, неминуемо приходит к проблеме своеобразной “логики” и “лингвистики” вещей, без которой немыслимо научное изучение художественного образа, его логики и выразительности» [Там же].
410
См.: [Шпет, 2007, c. 180]. Ср. также из «Проблем современной эстетики»: «…поэтическое слово, будучи осмыслено, одновременно экспрессивно в звуке и интонации, и изобразительно (номинативно). “Слово”, как искусство, имплицируя все функции искусства, должно дать наиболее полную схему структуры искомого нами специфического предмета. Если уж пользоваться смешным применительно к искусству термином, то поэзия – наиболее “синтетическое” искусство, единственный не нелепый “синтез” искусств» [Там же. С. 321].
411
[Там же]. Попытки приближения к решению этой задачи можно позднее встретить у разных ученых философского отделения ГАХН, например у А. Циреса в «Языке портретного изображения» (из сборника «Искусство портрета», 1927, с. 86–158), у Н. Жинкина в «Проблеме эстетических форм», «Портретных формах», да и у самого Шпета во «Внутренней форме слова» и других текстах второй половины 1920-х годов.
412
[Там же. С. 321–322]. Более подробные разъяснения герменевтической философии Шпета содержатся в Заключении II и в III томе его «Истории как проблемы логики» [Шпет, 2002, с. 516–649] и в ряде работ 1920-х годов. Ср. его «История как предмет логики», «Герменевтика и ее проблемы», «Язык и смысл» и др.
413
[Луначарский, 1925, с. 15].
414
Подчинение ИНХУКа ГАХН в 1924 г. (хотя и только в финансовом плане) выглядит в этом отношении весьма симптоматично.
415
См. его работу «Язык и смысл» [Шпет, 2005, c. 470–568].
416
См.: [Шпет, 2007, c. 101].
417
Такому знанию, по Ж. Делезу, как схеме практического взаимодействия высказываемого и видимого в контексте каждой исторической формации, ничего не предшествует: «Это значит, что знание существует в зависимости от весьма разнообразных “порогов”, которые маркируют соответствующее количество тонких слоев, разрывов и ориентаций в каждой рассматриваемой страте. В этом смысле недостаточно говорить о “пороге эпистемологизации”: последний уже ориентирован в направлении, ведущем к науке и пересекающем также собственный порог “научности” и, возможно, порог формализации». См.: [Делез, 1998 (б), с. 76].
418
Эту сторону современного понимания искусства выделял и А.Ф. Лосев в своей статье «Искусство» для «Словаря художественных терминов ГАХН». См.: РГАЛИ, ф. 941, к. 6, ед. хр. 14, л. 34–43.
419
Мы уже писали о принципиально сближающихся в рамках подобной стратегии идеях Шпета даже с проектом В. Кандинского (см. главу II, раздел «Между бессмыслицей и абсурдом…»).
420
Например, в ситуации новой капитализации общественного производства в 1920-е годы и затем во время индустриализации 1930-х годов.
421
Ср. также высказывание Ж. Делеза: «Знание не является наукой и неотделимо от тех или иных порогов (порогов этизации, эстетизации, политизации и т. д. – И. Ч.), с которых оно начинается, даже если оно представляет собой перцептивный опыт или ценности воображаемого, идеи эпохи или данные общественного мнения. Знание представляет собой единство страты, распределяющейся по различным порогам; сама же страта может существовать только как нагромождение этих порогов с различной ориентацией, и наука является лишь одной из таких ориентаций» [Делез, 1998 (б), с. 76–77].
422
См.: [Словарь художественных терминов ГАХН, 2005].
423
Реферат и заметки к статье R. Hamann «Die Kunst und Kultur der Gegenwart» хранятся в личном архиве П.С. Попова. См.: НИОР ФГУ РГБ. Ф. 547, к. 4, ед. хр. 1, л. 51.
424
В дальнейшем известный советский искусствовед.
425
См.: [А.М[ихайлов], 1929, c. 7].
426
[Михайлов, 1929].
427
[Там же. С. 116].
428
[Федоров-Давыдов, 1928, c. 219–221].
429
Также известный в советское время искусствовед.
430
[Михайлов, 1929].
431
Шапошников, практически единственный из авторов сборника, в разрешении загадки портрета сделал ставку на здравый смысл. Его статью выгодно отличает экономичность – всего 10 страниц. С самого начала он, по сути, выводит портрет за границы искусства, обнаруживая характерные апории в определении специфики этого жанра живописи, более других нуждающегося в оригинале. Внешне парадоксальную формулу, к которой он в результате приходит, характеризует предельная ясность: «Чем труднее нам разрушить картину, чем невозможнее выделить оригинал до художественного образа, тем больше портрет похож, тем неразрывнее он сделался одновременно картиной, т. е. новым предметом и вместе с тем двойником оригинала» [Искусство портрета, 1928, с. 78]. Статья А. Циреса, наоборот, отличается растянутостью (более 70 страниц) и нарочитой теоретичностью. Автор делает акцент на моменте восприятия и интерпретации произведений искусства, обращаясь, соответственно, к феноменологии и заявляя проект особой «художественной» герменевтики.
432
Его результаты были опубликованы в одноименном сборнике Трудов философского отделения ГАХН 1927 г. под редакцией А.Г. Циреса.
433
Характерно, что о левых художниках своего времени и об их отношении к портрету он при этом даже не упоминает.
434
Ср.: «Как ни странно, но портрет не ставит в исключительном центре и проблем самой личности, форма олицетворения не выделяется на первый план, отстраняя другие; в мироощущении личность еще не попала на подозрение в своем достоинстве, она наивно и просто предлагается, находясь в гармонии сама с собой и с миром» [Искусство портрета, 1928, с. 50–51].
435
Ср. у Жинкина: «Портрет в индивидуальной личности может найти природно– или культурно-общее и, осуждая саму индивидуальность, может проповедовать это природное общее, его защищать и требовать опрощенства, портрет может показать растворенность личной формы в социальном или, наоборот, величие одинокой личности и т. д.» [Искусство портрета, 1928, с. 38].
436
«Таким образом, портрет является несомненным памятником двух личностей: одной – изображенной олицетворенно, другой – запечатленной, и именно тот факт, что мы ясно различаем оба эти лица, свидетельствует о различии этих форм, так как в одном случае эти формы связываются с характерными формами человеческого тела, а в другом – с характерными формами вещи как картины» [Искусство портрета, 1928, с. 34].
437
Ср. его статьи «Вещь» и «Проблема эстетических форм» [Жинкин, 2000], где он аналогичным образом эксплицировал понятие вещи.
438
Ср.: «Схематическая конструктивность существенно – как в науке, так и в философии, живописи, театре и литературе – связывается с мистикой. Какие оттенки принимают здесь формы и направления – супрематизм, кубизм и пр.; какие оттенки мистики здесь возникают – мистика вещей или астральная – все это вопросы частностей, для портрета вывод один: он через форму олицетворения выражает это мистическое мироощущение (примером можно взять Пикассо “Дама с веером”, “Дама с мандолиной”)» [Жинкин, 2000, с. 46].
439
Помимо Жинкина, это можно заметить и в тексте А. Габричевского.
440
Поэтому он больше полагается на авторитет Ф. Бургера, Г. Зиммеля. См.: [Burger, 1918; Simmel, 1916].
441
Этот неожиданный образ сближает здесь Николая Жинкина и с Вальтером Беньямином, который в эти же годы обращался к теме констелляции в своей второй диссертации. Ср.: [Беньямин, 2002, с. 14].
442
[Искусство портрета, 1928, с. 35].
443
Cр.: «Фотография не может разделить, наглядно дать и подчеркнуть какую-нибудь одну из этих форм, вот почему фотография не доходит не только до искусства, но даже и до изображения характерного» [Там же. С. 26]. «Разве феноменалистический импрессионизм мог разрешить или даже только поставить проблему портрета? Ловя мгновенья, он видел лишь кадры, но не фильм жизни» [Там же. С. 7].
444
Ср.: «То, что для первобытного человека было мифом, остается мифом и для нас – живые вещи; и подобно тому, как дикарь не сознавал этой мифичности, но в ней жил как в обиходе, так и мы не видим ежемгновенно творимого мифа о вещах, потому что в нем живем. Конечно, самый “миф”– иной, но нет вещи, о которой у нас не было бы устного сказания и предания, ставшего с детства настолько обычным и близким, что мы его не замечаем, как не замечаем рисунка обоев в нашей комнате» [Искусство портрета, 1928, с. 10]. Ср. также статью Жинкина «Миф» из» Словаря художественных терминов ГАХН» [Словарь…, 2005, с. 274–277].
445
«Образ дается прежде всего через нейтрализирование, т. е. через выключение содержания портрета из сферы реальности; от этого портрет становится замкнутым, самостоятельным, все формы теряют своего начального носителя, и изображение из двойника превращается в образ» [Искусство портрета, 1928, с. 42].
446
Ср.: «…следует понять, что сходство есть имманентное свойство портрета, однако сходство, не требующее сравнения, потому что это есть сходство с самим собой, т. е. не что иное, как тождество личности» [Там же. C. 40].
447
«Миф олицетворяет вещь, озверяет личность, или героизирует, обожествляет ее, через игру этих подстановок он строится» [Там же. С. 35].
448
«Но, собственно, все искусство в том и состоит, чтобы взять эту содержательную форму в ее чистом виде, а это достигается тем, что уничтожается ее всякий реальный носитель и портрет-вещь превращается в образ, который уже перестал быть реальной личностью, а стал ее образом, т. е. имеющим в виду, в созерцании личность. Из магического двойника, где оба – и изображенный, и изображение – были реальными, портрет стал художественным» [Там же].
449
Ср.: «Изображение в искусстве не есть воспроизведение практической действительности, а своеобразная, очень сложная функциональная связь воспроизводимых элементов с конструкцией и экспрессией художественного произведения» [Искусство портрета, 1928, c. 57–58].
450
«Изображаемый на картине человек получает свою индивидуальную статическую характеристику в изобразительных и конструктивных формах, свою “биографию” же, свое “временное” четвертое измерение от всей той экспрессивной динамики, которая налагает свой след и преобразовывает как изображение, так и как построенную вещь» [Искусство портрета, 1928, c. 72].
451
Ибо по отношению к имманентным живописным формам картины
видимые формы реальных людей и вещей выступают как абстракции.
452
Именно от экспрессии происходит «весь тот своеобразный качественный оттенок “суб’ектного”, творческого происхождения, который в большей или меньшей степени окрашивает и изображение, и построение, и отдельные наглядные элементы картины: цвет в его эмоциональных функциях, свет как силу, творящую форму, пространство как идеальную проекцию жеста художника, отраженного от поверхности картины, и т. п.» [Там же. С. 73–74].
453
«Если с одной стороны, а именно со стороны изобразительных и главное конструктивных форм, всякий современный портрет – в сущности nature morte, то, наоборот, со стороны экспрессивных форм всякая nature morte если не портрет, то, во всяком случае, автопортрет» [Там же. С. 73].
454
Ср.: «Художественный портрет, с одной стороны, всегда “изображает” человека, более или менее точно воспроизводит его наглядный облик, с другой стороны, как образ-вещь (это особенно ясно в скульптуре), он является в качестве некоторого организованного человеком целостного единства, своеобразным аналогом личности, т. е. художественный смысл портрета во втором случае заключается в том, что индивидуально-“личностный” характер одинаково присущ как изобразительным, так и конструктивным и экспрессивным формам» [Искусство портрета, 1928, c. 65].
455
И соответственно носит манипулятивный характер [Искусство портрета, 1928, c. 65].
456
Ср.: «Итак, “портретная личность” – равнодействующая трех моментов: это лицо картины, в котором отражаются личность модели и личность художника, создавая особый новый лик, творимый и возникающий только через искусство и только в искусстве доступный созерцанию» [Там же. С. 75].
457
[Там же].
458
Ср.: «Портрет является продуктом индивидуалистических устремлений в культуре. В существе портрета лежит начало разделения – principium individuationis. Эти начала порождаются различными факторами культуры – от экономических до религиозных включительно. Торговля, ремесла, развитие больших городов подготовляют почву для индивидуалистического сознания в Греции в V–IV вв. так же, как в Европе в XV–XVI ст.» [Искусство портрета, 1928, c. 161].
459
Ср.: «Портрет, как стилистическая форма, оценивается прежде всего по признакам, присущим самому произведению, независимо от того, сколь точно повторяет изображение натуру. Как в пейзаже и натюрморте важно не подлинное сходство с предметами, служившими художнику натурой, а убедительность правдоподобия в изображении этих предметов, так и портрет имеет такую же самодовлеющую оценку» [Там же. С. 163].
460
Ср.: «Портрет – продукт такого состояния сознания, когда человек возвышается до сознания себя как особи исключительной, не соотносимой ни с одним известным ему на земле существом. Человек на этой стадии сознания не ограничивается противопоставлением “я”-суб’екта “миру”-об’екту. Человек включает теперь в себя мир. Сознание становится источником всякого познания. Противопоставление “я” “миру” превзойдено. Человек выключает себя из числа слагаемых, сумма которых составляла раньше в его представлении “мир”, где он находился в числе качественно равнозначных величин, различествующих лишь количественно. Теперь человек ставит себя на место некоего “знака степени” или “интеграла”» [Искусство портрета, 1928, c. 175].
461
Жинкин в своей статье сравнивал Рембрандта с Декартом, а Хольгера с Кантом, и то с подачи Г. Зиммеля и Ф. Бургера.
462
Так, он очень ярко и убедительно различает портретные стили Рафаэля и Гольбейна, Рембрандта и Ф. Хальса, Веласкеса и Рубенса (ВанДейка) и др., в плане биографичности первых и характеристичности вторых [Искусство портрета, 1928, с. 184–185], демонстрирует тонкое понимание иконописи и смысл ее стилистических отличий от портретирования [Там же. С. 166–167].
463
Но и Тарабукин не обходится без передержек. Так, в конце статьи проявился какой-то нелепый сексизм в характеристике портретного искусства вообще: «Портрет же, как стилистическая форма, искусство мужественное» [Там же. С. 186–187].
464
Ср.: [Ханзен-Леве, 2001, c. 173–176 сл.; Hansen-Löve, 2011].
465
Ср.: Задача переводчика [Беньямин, 2012, c. 254].
466
См.: [Хан-Магомедов, 1997; Бюллетени ГАХН, 1925].
467
[Хан-Магомедов, 1997, c. 16].
468
Луначарский специально подчеркивал этот момент в своем выступлении в ГАХН «Текущие задачи Художественных наук» [Луначарский, 1925]. См.: [Хан-Магомедов, 1997, с. 15–16].
469
Не забудем, что в ГАХН помимо Кандинского был приглашен еще и Казимир Малевич.
470
См.: [Подземская, 1997].
471
[Подземская, 1997, с. 76].
472
По не вызывающему возражений утверждению Подземской, еще в 1910 г. в знаменитой работе «О духовном в искусстве» Кандинский противопоставлял используемый им способ анализа искусства позитивно-научному [Там же. С. 84].
473
[Арватов, 1926, c. 106–108].
474
[Кандинский, 2008, c. 71].
475
Например, Кандинский говорил об этом в докладе в ГАХН 1921 г. «Основные элементы живописи»: «Внутреннее содержание состоит из трех элементов: – элемент индивидуальности; Б – элемент народности и времени и В – элемент чисто художественный – абстрактный.
В исторической перспективе последовательно отпадают 1-й и 2-й элементы» [Там же. С. 75].
476
Кстати, факт участия Кандинского в организации ГАХН Хан-Магомедов ввиду своих предпосылок вынужден называть парадоксом (см.: [Хан-Магомедов, 1997, с 17]), а факт забаллотирования художника в 1921 г. в ИНХУКе в качестве руководителя вообще не комментировать.
477
Чтобы оправдать позицию Хан-Магомедова, придется вывести из состава ГАХН такого мощного искусствоведа, как Борис Арватов, и попытаться его как-то дисквалифицировать. То же самое следует сказать о замечательном советском искусствоведе Николае Тарабукине, авторе скандального манифеста «От мольберта к машине» (1923 г.). Не случайно Хан-Магомедов даже не упоминает эти имена среди сотрудников ГАХН, зато перечисляет столь различных по научным ориентациям, интересам и уровню ученых, как Д. Аркин, А. Сидоров, А. Габричевский, А. Некрасов, М. Алпатов, А. Бакушинский, Н. Брунов и А. Федоров-Давыдов.
478
Здесь большое значение имел тот факт, что Павел Попов одновременно был родным братом Любови Поповой – кубофутуристки и одной из первых художниц производственного направления – и мужем внучки Льва Толстого Александры Ильиничны. Фигура Попова выступает тем недостающим звеном, которое отчасти восполняет отмеченный ХанМагомедовым разрыв между классиками и авангардистами 1920-х годов.
479
См.: РГАЛИ, ф. 941; ГАХН, оп. 2, ед. хр. 2, л. 30–30 об. Машинопись с правкой. Л. 30–30 об.
480
[Hamann, 1922].
481
Рукопись из фонда П.С. Попова может быть датирована 1924 г. См.: НИОР ФГУ РГБ. Ф. 547, к. 4, ед. хр. 1.
482
В самой Германии упомянутая статья Гамана была встречена сдержанно. В 1924 г. в авторитетном «Журнале эстетики и всеобщего искусствознания» («Zeitschrift fuer Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft») М. Дессуара появилась резко критическая, хотя и неубедительная рецензия Х. Глокнера [Zeitschrift für Aesthetik…, 1924, S. 419–421], и уже только в 1925 г. в «Логосе» вышла одобрительная, но не особенно содержательная рецензия некоего E. B., но с досадной опечаткой в названии: вместо Richard Hamann значилось: Rudolf Hamann. Kunst und Kultur (sic!) [Logos, 1924/1925, S. 137–138].
483
См.: НИОР ФГУ РГБ. Ф. 547, к. 4, ед. хр. 1, л. 3.
484
[Вальцель, 1922].
485
В 1922 г. планировалось даже открыть в академии специальное производственное отделение. В том же году глава социологического отделения В. Фриче принял на службу Бориса Арватова, позже в академию пришли такие видные теоретики конструктивизма и производственничества, как Николай Тарабукин и Давид Аркин; с докладами в ГАХН выступали Алексей Ган, Моисей Гинзбург и другие известные конструктивисты.
486
Глава социологического отделения ГАХН В. Фриче также написал рецензию на эту книжку Гамана.
487
См.: РГАЛИ, ф. 941; ГАХН, оп. 14, ед. хр. 14, л. 34–35. Авториз. маш. с правкой. Л. 34–35.
488
[Шпет, 2007, c. 317].
489
Хотя соответствующие замечания Шпета кратки и отрывочны, понимание эстетического предмета как образа, а не эмпирически-чувственного или идеально-мыслимого предмета, опять же связывает его с целым рядом эстетиков того времени в Германии [Шпет, 2007, с. 315, 316, 318].
490
[Там же. С. 318–319].
491
[Там же. С. 320–322].
492
В. Ратенау (Walter Rathenau, 1867–1922) – промышленник, писатель и политик.
493
[Арватов, 1926].
494
Cр.: «Автор как производитель, вследствие того, что он испытывает солидарность с пролетариатом, одновременно испытывает ее с членами других областей производства, с которыми ранее у него не было ничего общего» [Беньямин, 2012 (а), с. 144, 159].
495
См.: «Солидарность специалиста с пролетариатом может быть только опосредованной. Она состоит в способе, который превращает его из обслуживающего производственные аппараты в инженера, усматривающего свою задачу в том, чтобы приспособить их к целям пролетарской революции» [Там же. С. 158–159].
496
Ср.: [Заламбани, 2003, c. 161–182].
497
Ср.: [Беньямин, 2000, c. 60–62].
498
Ср.: [Беньямин, 2012 (а), c. 138, 139, 146, 213–214 сл.].
499
Ср.: [Беньямин, 2004, с. 178 сл.; 383 сл.].
500
Ср.: «Разделение на авторов и читателей начинает терять свое принципиальное значение. Оно оказывается функциональным, граница может пролегать в зависимости от ситуации так или иначе. Читатель в любой момент готов превратиться в автора. Как профессионал, которым ему в большей или меньшей мере пришлось стать в чрезвычайно специализированном трудовом процессе, – пусть даже это профессионализм, касающийся совсем маленькой технологической функции, – он получает доступ к авторскому сословию. В Советском Союзе сам труд получает слово. И его словесное воплощение составляет часть навыков, необходимых для работы. Возможность стать автором санкционируется не специальным, а политехническим образованием, становясь тем самым всеобщим достоянием» (Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости [Беньямин, 2012 (а), с. 214]).
501
Ср.: [Там же. С. 218–228].
502
Ср.: «Киноверсия реальности для современного человека несравненно более значима, потому что она предоставляет свободный от технического вмешательства аспект действительности, который он вправе требовать от произведения искусства, и предоставляет его именно потому, что она глубочайшим образом проникнута техникой» [Беньямин, 2012 (а), с. 218].
503
Ср.: [Лаврентьев, 2009, с. 150–158; Адаскина, 2011, с. 221 сл.].
504
Ср.: [Лакан, 2006, c. 78].
505
См.: [Фрейд, 1992, c. 315–324; 2003, с. 454–476].
506
[Фрейд, 2010, c. 136].
507
См.: [Фрейд, 1992, c. 316–317].
508
Ср.: [Делез, 1998 (а), с. 76].
509
В «Йенской реальной философии» Гегель говорит, что человек может трансцендировать натуральные отношения только за счет смерти животного в себе. См.: [Agamben, 2007, S. 74–84].